

Записки туриста
Перевод Э. Б. Шлосберги Л. В. Шапориной
под редакцией А. Л. Андрес
Вовсе не из эготизма я постоянно пользуюсь словом "я", а только для большей живости изложения. Я коммерсант. Объезжая провинцию по своим делам (торговля железом), я решил вести дневник.
Путевых заметок по Франции почти не существует,- вот что дает мне смелость напечатать свои. Я провел в провинции несколько месяцев и пишу книгу, но я не решился бы говорить о Париже, где живу двадцать лет. Изучить его - дело целой жизни, и нужна очень светлая голова, чтобы распознать подлинную сущность явлений под скрывающей их модой, которая сейчас более чем когда-либо властвует в нашей стране над истиной.
Мода была столь же всесильной и при Людовике XV; она обрекла на смерть генерала Лалли только за то, что он бывал резок и недостаточно любезен. В наши дни она бросает в тюрьму молодого офицера, не более виновного, чем генерал Лалли*. И все же во времена Людовика XV на пути к истине одной помехой было меньше: не нужно было тратить усилий, чтобы забыть громкие фразы двух десятков писателей - людей весьма талантливых и получающих плату за свою ложь.
* (...бросает в тюрьму молодого офицера, не более виновного, чем генерал Лалли.- Стендаль имеет в виду процесс лейтенанта Эмиля де ла Ронсьера, приговоренного в 1835 году к десяти годам тюремного заключения по ложному обвинению в попытке изнасилования. Лалли-Голандаль (1702-1766) - главнокомандующий французских войск в Индии во время войны с Англией за ост-индские колонии; оставленный без помощи французским правительством, он потерпел ряд военных неудач и в 1761 году был взят англичанами в плен, что послужило основанием для обвинения его в измене; по возвращении из плена Лалли, став жертвой придворных интриг, был казнен.)
В Париже вас одолевают уже готовые суждения по любому вопросу, словно вас хотят во что бы то ни стало избавить от труда мыслить, оставляя вам единственное удовольствие - быть красноречивым. В провинции - другого рода беда. Вы проезжаете мимо прелестного ландшафта или развалин, переносящих вас в средние века. И что же! Вы не встретите никого, кто бы сообщил вам, что здесь имеются те или иные достопримечательности. Провинциал, если его край известен своей живописностью, хвалит все без разбора в преувеличенных и бессмысленных выражениях, являющихся плохой копией пафоса г-на де Шатобриана. Если же газетные статьи не подсказали ему, что в ста шагах от его дома расстилается пленительный пейзаж, он ответит вам на вопрос, стоит ли осматривать что-нибудь в окрестностях: "Ах, сударь, этот лес легко мог бы приносить сто тысяч франков годового дохода!"
Фонтенебло, 10 апреля 1837 г.
Наконец, я в пути. У меня хорошая коляска, купленная по случаю. Единственный мой спутник - мой верный Жозеф, который, прежде чем обратиться ко мне, почтительно просит на это разрешения - и тем выводит меня из себя.
За все время пути от Веррьера с его прекрасными лесами до Эссона в голову мне пришла одна только мысль - весьма эгоистичная и даже пошлая: если мне еще случится путешествовать в собственном экипаже, взять с собой слугу, который не говорит по-французски.
Край, по которому лежит мой путь, безобразен. На горизонте - одни лишь серые и плоские очертания. На переднем плане - картина полного бесплодия, хилые деревья с обрезанными наголо ради вязанки хвороста ветвями; крестьяне в бедной одежде из синего холста. К тому же холодно. Так вот что мы называем прекрасной Францией! Я вынужден сказать себе: "Она прекрасна в духовном отношении, она удивила мир своими победами; это уголок вселенной, где взаимоотношения людей приносят им меньше горя, чем где бы то ни было". Однако должен сознаться, рискуя оскорбить читателя, что природа не наделила жителей Северной Франции источником животворящего счастья.
Мудрое правление короля - человека превосходного - не допускает ныне ни наглых выходок богачей против бедняков, в отличие от Англии, ни наглых притязаний духовенства, как во времена Карла X. Так вот, подумал я, глядя на Эссон, этот единственный, быть может, город в мире, где правительство делает меньше всего зла своим подданным и лучше всего обеспечивает им безопасность на больших дорогах и правосудие, когда они вздумают подраться между собой. К тому же национальная гвардия и кирасиры доставляют им развлечение.
Тон бесед полукрестьян-полубуржуа, подслушанных мною по дороге, холодный и рассудительный; в нем чувствуется нотка лукавства и шутливости, что свидетельствует об отсутствии у них больших несчастий и глубоких переживаний. В Италии не встретить такого зубоскальства: его заменяет там свирепое молчание страсти, образный язык и горькая насмешка.
Чтобы проверить это наблюдение, я останавливаюсь в Эссоне на четверть часа у одного из корреспондентов нашей фирмы. Он убежден, что, остановившись у него, я хотел показать, что на этот раз путешествую в собственной коляске. Он угощает меня отличным пивом и ведет серьезную беседу о муниципальных выборах. Садясь в коляску, я спрашиваю себя: неужели же выборы, фактически вошедшие в нашу жизнь только с этого года, заставят нас ухаживать за низшими слоями населения, как это происходит в Америке? В таком случае я поспешу записаться в аристократы. Я не хочу ни за кем ухаживать - ни за министром, ни тем более за народом.
Вспоминаю, что в средине века пышный женский бюст был не в моде; женщины, имевшие несчастье обладать таковым, носили корсет, который, сжимая грудь, скрывал ее, насколько это было возможно. Боюсь, что читатель сочтет это воспоминание несколько игривым, но я позволю себе этот тон не из жеманства и не из желания блеснуть остроумием. Боже избави! Я просто претендую на свободное выражение своих мыслей. Двадцать секунд я искал какое-нибудь Другое столь же ясное выражение, но безрезультатно. Если моя непринужденность вызовет недовольство читателя, то я советую ему закрыть книгу, ибо, насколько я сдержан и зауряден за своим прилавком и на собраниях моих коллег - деловых людей, настолько же я стремлюсь к естественности и простоте, когда по вечерам пишу этот дневник. Если бы я на йоту отошел от правды, то лишился бы всякого удовольствия и перестал бы писать. Как это было бы грустно!
Неужели же наша вольнолюбивая, безрассудная веселость, наш французский ум будут подавлены и уничтожены из-за необходимости ухаживать за грубыми и фанатичными ремесленниками, как в Филадельфии?
Добьется ли демократия этой победы над самой природой человека? Народ стоит выше избранного общества только в эпоху, когда им руководят благородные движения души и он способен к возвышенным страстям. Слишком часто хорошо воспитанные люди во имя своего честолюбия стараются хоть чем-нибудь подражать Робер-Макеру. Что же другое, говорят они, осталось великим деятелям революции, которые не сумели нажить деньги?
Если бы правительство разрешало любому, кто обладает красноречием, собирать в часовне всех скучающих людей, не имеющих средств ходить в театр, мы вскоре стали бы столь же фанатичны и угрюмы, как жители Нью-Йорка. Да что я говорю, в двадцать раз больше. Мы во всем доходим до крайности. В Эдинбурге в светской беседе барышни говорят с молодыми людьми только о достоинствах того или иного проповедника, причем тут же приводят цитаты из его проповеди. Вот почему я люблю иезуитов, которых так ненавидел при Карле X. Разве это не самое большое преступление - лишить народ веселья, украшающего его вечера?!
Я уже не увижу этого одичания любезной Франции; оно произойдет лишь около 1860 года. Но как жаль, что отчизна Маро, Монтеня и Рабле потеряет свой природный ум - этот острый, вольнолюбивый, фрондерский, искрящийся ум, который так сродни всему смелому и безрассудному. Его уже не найти в хорошем обществе - в Париже он сохранился еще только среди уличных мальчишек. Боже мой! Да неужто мы станем женевцами?*
* (Да неужто мы станем женевцами? - Женева в эпоху реформации была центром кальвинизма - одного из наиболее строгих протестантских вероучений. Словом "женевцы" Стендаль обозначает в данном случае те черты ограниченности, фанатизма и чопорности, которые он считает характерными для протестантов.)
В Эссоне в 1814 году предали Наполеона.
Неподалеку от Фонтенебло взорам открывается пейзаж, единственный заслуживающий внимания. Внезапно видишь Сену, которая течет на двести футов ниже дороги. Слева долина тянется вдоль возвышенности, поросшей лесом, по которой едет путешественник. Но увы! Здесь нет величественных, вековых вязов, как в Англии. Их отсутствие, так резко ослабляющее впечатление от пейзажа, к несчастью, характерно для всей Франции. Стоит крестьянину увидеть высокое дерево, как он уже мечтает продать его за шесть луидоров.
Сегодня утром дорога из Парижа в Эссон была забита несколькими сотнями солдат в красных штанах, которые брели по два, три, четыре человека или отдыхали, растянувшись под деревьями. Это меня возмущает: они походят на бредущих вразброд баранов и производят жалкое впечатление. Как можно допустить укоренение таких навыков у французов, которые и без того не слишком дружат с дисциплиной! Какие-нибудь двадцать казаков легко разогнали бы весь этот батальон, направляющийся в Фонтенебло для охраны двора во время бракосочетания герцога Орлеанского. Перед самым Эссоном я обогнал авангард батальона, который задержался, чтобы подождать отставших и вступить в город в более пристойном виде. Услышав барабанную дробь, девушки вне себя от восторга выбегают на порог своего дома. Молодые люди толпятся посреди улицы. Все глазеют на батальон, который строился на краю деревни со стороны Парижа; дорога несоразмерно широка, и его отлично видно. Я вспомнил песенку Гретри:
Ничто так девушек не манит, Как вид солдата-храбреца.
Это замечательно верно в отношении Франции: девушки любят дерзкую, отчаянную храбрость, а не спокойную, благородную смелость Тюренна или маршала Даву. Все, что глубоко, не находит понимания и не вызывает восхищения во Франции. Наполеон хорошо это знал; отсюда его напыщенность, его театральность, которые погубили бы его, имей он дело с итальянцами.
В Фонтенебло я отлично пообедал в гостинице "Виль де Лион". Эта гостиница - snug* (спокойная, тихая, с предупредительной прислугой), наподобие Бокс-Хилла, близ Лондона.
* (Уютная (англ.).)
Я отправился во дворец, находящийся в конце Королевской улицы, но он оказался закрытым для посетителей. Дело объясняется очень просто: там заняты приготовлениями к свадьбе. Но когда-то я составлял инвентарь Фонтенебло, и один из служащих, знавший меня еще в те времена, разрешил мне бросить дружеский взгляд на двор "Белой лошади", который обязан своим названием гипсовой копии со статуи Марка Аврелия в Капитолии. Она поставлена здесь по приказу Екатерины Медичи. Итальянским принцессам присуща любовь к изящным искусствам. Эта копия была убрана лишь в 1626 году. Итальянец Себастьяно Серлио из Болоньи построил этот двор по своим планам в 1529 году.
Я мысленно представил себе бронзовую группу, которую поставят здесь в 1880 году: Наполеон, прощаясь с армией, обнимает старого солдата.
Мне попадаются навстречу гусары четвертого полка - полка образцового. Гусары надменны, ибо только они во Франции имеют право при красном ментике носить штаны небесно-голубого цвета. Честь и слава начальникам, умеющим придавать столь большое значение подобным мелочам! Вижу, как подковывают горячую лошадь; гусар заворожил ее взглядом и заставил стоять неподвижно. Гусар должен в две минуты оседлать лошадь, одеться и открыть огонь.
Много говорят об одном из самых крупных деятелей нынешнего режима, который вчера ответил одному из просителей:
- Бога ради, голубчик, оставьте меня сейчас в покое. Этот поход в Константину, словно меч Горация Коклеса*, навис над моей головой.
* (Меч Горация Коклеса - вместо "Дамоклов меч".)
Раз нет возможности попасть во дворец, требую себе почтовых лошадей. А мне бы хотелось посмотреть несколько картин Приматиччо; говорят, они отлично реставрированы. Что-то плохо верится! Разве мы с нашей любовью к чопорности и манерности можем сохранить простоту славного итальянца? К тому же наши художники не умеют писать женские лица. По всей вероятности, я ничего не потерял - мне пришлось бы только пожать плечами.
Мы не имеем себе равных лишь в маленьких памфлетах в духе Вольтера да еще в статейках "Chari vari", в тех случаях, когда автор бывает в ударе. Взять хотя бы посещение неаполитанским королем Королевской библиотеки (кажется, в 1836 году): "Я очень желал бы уйти отсюда".
Все остроумцы Германии, Англии и даже Италии, соединившись вместе, не смогут написать такой статьи. Но реставрировать фреску Приматиччо! Это - другое дело. Тут нас превзойдут даже немцы.
Дворец Фонтенебло весьма плохо расположен, в самой низине. Он напоминает словарь по архитектуре: все как будто налицо, а между тем ничто не волнует. Скалы Фонтенебло просто смешны. Только преувеличенные рассказы о них ввели их в моду. Изумленный парижанин, который ничего подобного не видал, воображает, что холмы в двести футов вышиной являются частью альпийской горной цепи. Лесистые места также очень жалки. Впрочем, там, где деревья достигают высоты восьмидесяти футов, лес производит впечатление и очень красив. Он тянется на двадцать два лье, имея в ширину восемнадцать лье. Наполеон приказал провести в нем на триста лье скаковых дорожек. Он полагал, что французы любят монархов-охотников.
Известны два анекдота, связанные с Фонтенебло, первый - о смерти Мональдески*, сообщенный его исповедником, отцом Лебелем**, и второй - о беременности настоятельницы монастыря "Утеха", рассказанный на интимном вечернем выходе Людовика XIV ее отцом, герцогом А., позабывшим название монастыря, в котором его дочь была настоятельницей***.
* (Мональдески - фаворит шведской королевы Христины, убитый по ее приказанию в одной из галерей Фонтенебло в 1657 году.)
** (Собрание документов, составленное Лапласом, т, IV. стр. 139.)
*** (Мемуары Сен-Симона.)
Мональдески хорошо знал эпоху, в которую он жил, и принцессу, при которой состоял. Шпага одного из трех лакеев, приводивших в исполнение приговор Христины, согнулась о грудь неверного любовника - он обычно носил кольчугу весом в девять - десять фунтов.
Я все же предпочитаю, чтобы имелся префект полиции: правда, он иной раз велит подвергнуть осмотру мои бумаги, но по крайней мере я не вынужден постоянно носить при себе оружие. Моя жизнь более удобна, хотя сам я меньшего стою: теперь я менее отважен и при малейшей опасности бледнею.
Монтаржи, 11 апреля.
Довольно жалкий городишко. Он весьма приукрасился после 1814 года, когда смог воспользоваться реформами, введенными Сьейесом, Мирабо, Дантоном и другими великими людьми, клеветать на которых весьма принято среди нынешних пигмеев. Хороший ужин в гостинице "Ла пост", прекрасно обставленной. За весь сегодняшний день мне не встретился ни один недобросовестный форейтор. Я плачу по пятьдесят су. Некоторые из них плохо ездят верхом, это меня раздражает. А я-то думал, что можно будет объявить призыв форейторов, если прусские солдаты, подстрекаемые русскими, нападут на нас. Перед отъездом я пошел взглянуть на бульвар, расположенный на берегах Луэна и Бриарского канала. Жалкое зрелище.
Неви, 12 апреля.
Я ехал по очень унылым местам, прежде чем спустился в долину Луары. Кажется, эта местность называется Гатине. За Бриаром поднимаешься и спускаешься уже по плодородным склонам холмов; все они тянутся по направлению к Луаре. Нужно бы хоть у реки провести дорогу по насыпи.
Кон, 12 апреля 1837 г.
По мере приближения к Луаре начинают попадаться деревья, покрытые почками; местность утрачивает вид полного бесплодия, который нагонял на меня тоску в Гатине. В то время как я проезжал через какое-то большое селение на Луаре, мне захотелось пить. Вода, за которой я отправился в какое-то гнусное кафе, просто отвратительна. Нужно запастись восемью четырехугольными бутылками, вроде бутылок из-под туринского ликера, и поставить их в укромное местечко за ногами путешественника. Таким образом, вы будете иметь и вино и воду, запас которой можно пополнять у каждого фонтана.
Заночевал в Коне. Гнусный городишко, и гнусная гостиница. Но мне нужно было побывать в мастерских, расположенных по берегу Луары, где куются железные якоря. На стене одной из мастерских мне показали отметки уровня воды во время разлива реки - я был поражен, как высоко стояла вода.
Висячий мост через Луару почему-то считается здесь безобразным. Французы, право, смешны в своих суждениях. Быть может, инженер, строивший этот мост, носил чересчур высокий галстук, что придавало ему самодовольный вид, быть может, он задел тщеславие граждан городка другим столь же серьезным проступком. Как-то деревянный настил одного из пролетов моста провалился вследствие того, что опора арки, несшая настил, сломалась. Трое прохожих при этом утонули. Следовало пользоваться железом из Лароша, в Шампани, а здесь, быть может, по недосмотру, использовали ломкое беррийское железо. Впрочем, нельзя предвидеть всех недостатков железа. Случается иногда, что железный брус самой лучшей выделки внезапно ломается. Нет ли здесь влияния электричества?
Этот мост, который не пользуется здесь доброй славой, ведет на один из островов на Луаре. Река эта имеет несуразный вид из-за островов. На всякой добропорядочной реке острова являются исключением,- на Луаре же они встречаются беспрерывно; таким образом, река повсюду оказывается разделенной на два - три рукава, и в ней постоянно не хватает воды. Итак, этот злосчастный мост выводит на дорогу, пересекающую остров, который мог бы быть очаровательным, если бы не вырубленные деревья. Мост этот, говорят, вызывает брюзжание местных жителей. Брюзжание - вот одно из бедствий провинциальной жизни. В колониях этого не бывает.
Чтобы дополнить свои впечатления, я зашел в бакалейную лавчонку, где купил изюму. В это время какой-то крестьянин с тупой физиономией, в одежде из синей холстины, проходил по мосту. Бакалейщица сказала мне, что этот человек ест мясо всего восемь раз в году, а все остальное время питается кислым молоком. В трудную пору жатвы крестьяне позволяют себе побаловаться "пикетом". Напиток этот приготовляют, заливая водой виноградные выжимки из-под пресса. А мы смотрим свысока на Бельгию и Шотландию!
Негры счастливее. Их хорошо кормят, и каждый вечер они пляшут со своими возлюбленными. Наши же полуголодные крестьяне должны были бы радоваться солдатчине. Ничего подобного! Их умственный уровень не выше их физического состояния. Чем более они обездолены, тем в большее впадают отчаяние, когда жребий падает на них. Впрочем, через полгода они уже поют песни на привалах*.
* (См. прекрасное немецкое описание взятия Константины в переводе г. Шпацира.)
Ла-Шарите, 13 апреля.
Крупной рысью проезжал я городок Ла-Шарите, как вдруг, словно в наказание за то, что я все утро думаю о ржавлении железа, сломалась ось у моей коляски. Это моя вина; я ведь дал себе слово, если у меня когда-нибудь будет собственная коляска, приказать на моих глазах выковать хорошую ось из шести брусьев "мягкого" фурвуарийского железа.
Я посмеиваюсь втихомолку над сильно обозлившимся Жозефом. Сам я нисколько не рассердился. Если бы это несчастье случилось со мной на пустынных дорогах проклятого края под названием Гатине, ну тогда было бы из-за чего браниться. Что бы мы стали делать среди крестьян, которые питаются одним кислым молоком? Как бы мы дотащили коляску до ближайшей кузницы? Внимательно осматриваю свою ось; железо стало крупнозернистым, видимо, ось служит уже давно. Внимательно присматриваюсь к кузнецу и остаюсь очень доволен этим человеком. Без лишних слов приказываю принести четыре бутылки вина в кузницу, по количеству рабочих, чем завоевываю себе общую благосклонность, которую я вижу в их глазах. Несколько минут руковожу работой.
К счастью, гостиница превосходна, snug. Но что делать в Ла-Шарите? Иду осмотреть коллекцию г-на Грассе, человека просвещенного, ревностного хранителя средневековых древностей. Говорят, что название Ла-Шарите* происходит от каких-то монахов-бенедиктинцев, которые давали у себя приют путешественникам, в чем я сильно сомневаюсь. Вероятно, они давали приют только монахам и паломникам. Церковь Ла-Шарите огромна и очень красива; в 1216 году она была перестроена Филиппом-Августом. Интересны только хоры и фасад. Я провел два часа, разглядывая их, и ни разу но вспомнил о своей сломанной оси и нисколько не сердился.
* (La charite - милосердие (франц.).)
Ныне эта церковь имеет форму распятия, или латинского креста. Неф храма и боковые приделы реставрированы и утратили свои характерные черты. Только хоры и фасад свидетельствуют об особенностях искусства при Филиппе-Августе. Арки в большинстве стрельчатые, но иногда встречается и круглый римский свод. Круглые столбы, окружающие хоры и отделяющие их от боковых приделов, романского стиля. Это объясняется очень просто: они относятся к 1056 году. Они сохранили некоторые следы изящества, свойственного коринфской колонне.
Часть этого огромного здания была снесена. Поэтому, прежде чем подойти к нынешнему входу в церковь, можно заметить слева, на площади, стену прежнего нефа. Из башен фасада сохранилась лишь одна, левая. Она относится к XIII веку и очень высокая; ее окна, разделенные надвое и расположенные попарно, очень красивы.
Так как барельефам, украшающим основание башни, грозило разрушение, их два года тому назад, по настоянию г-на Мериме, перенесли в церковь.
У некоторых из фигур пальцы такой же длины, как лица, однако ткани и вышивки исполнены с редким совершенством. В глаза фигур большого размера вставлены темно-красные стеклышки. Некоторые орнаменты так хороши, что их можно принять за античные.
Вернулся в кузницу; моя ось еще не готова. Я нанял небольшой экипаж и отправился осматривать развалины Ламарша; когда-то это был город. Видел там столбы с вделанными в них колоннами. Углы капителей заканчиваются головами людей или животных - все это очень безобразно. Я еще не считаю себя достаточно ученым, чтобы любить безобразное и видеть в колонне лишь повод блеснуть своими знаниями.
Архитектура Ламарша весьма любопытна; она относится, вероятно, к X веку, бывшему, как известно, веком полного варварства.
Возвращаюсь в Ла-Шарите; ось все еще не готова. Вхожу в кафе и, чтобы удовлетворить любопытство добрых людей, которых там встречаю, рассказываю им, что еду в Лион в связи с одним банкротством и остановился в их прекрасном городе из-за поломки оси. Они уже были осведомлены об этом, а также о моей поездке в Ламарш. Узнаю, что между Орлеаном и Ла-Шарите нет пароходного сообщения. Меня поднимают на смех, хотя и в вежливой форме, когда я заговариваю о пароходном сообщении с Нантом.
Эта центральная часть Франции - еще очень отсталый край. Он, бесспорно, большего стоил тысячу лет тому назад; я хочу сказать, что он меньше, чем теперь, уступал остальным областям страны. В кафе я встретил какого-то важного господина, изо всех сил старавшегося угадать, чиновник я или простой купец. Я забавлялся, заставляя его менять свои предположения каждые пять минут. Он мне сообщил, что Ла-Шарите была некогда разграблена и сожжена норманнами.
Мысль, пришедшую мне в голову сегодня утром относительно большой дороги от Бриара до Ла-Шарите, столь неровной из-за нелепых спусков и подъемов,- эту мысль, как я узнал, разделяет и г-н Моссе, умный и смелый человек, главный инженер Невера. Он собирается проложить большую дорогу вдоль Луары, что приводит в ярость домовладельцев Ла-Шарите, у которых дома стоят на нынешней дороге. Эти господа приписывают ему самые нелепые мотивы, ибо не могут допустить, чтобы общественное благо само по себе было мотивом. Они уж выберут в депутаты только такого человека, который поклянется сохранить перед их домами королевскую дорогу из Парижа в Лион. Что за важность, если путешественник прибудет в Лион на двадцать минут позже?
Моя ось будет готова только к десяти часам вечера, и я снова отправляюсь в церковь, которая нравится мне все больше и больше. Решаюсь на отважный поступок: поднимаюсь на ее прелестную колокольню, с высоты которой вижу, как солнце спускается за огромные леса; вижу, как в бесконечной дали извивается Луара. Очень приятно провожу время; мой чичероне, человек смышленый, дает ясные ответы на все мои вопросы. Местные домовладельцы поговаривают о том, чтобы прорыть глубокую выемку между церковью и этой колокольней, а по дну этой выемки провести дорогу - вот проект, который противопоставляют проекту главного инженера. Без сомнения, сказал мой чичероне, главный инженер подкуплен владельцами земель, расположенных вдоль Луары.
Большое и существенное различие между Парижем и городом вроде Ла-Шарите состоит в том, что в Париже все видят сквозь призму газеты, тогда как буржуа Ла-Шарите смотрят на окружающее собственными глазами и, более того, с огромным любопытством изучают всякое городское происшествие.
В Париже при виде толпы, собравшейся на краю тротуара, мне прежде всего приходит на ум: не запачкаю ли я здесь свои белые брюки и не придется ли мне вернуться домой? Заметив прохожего более культурного с виду, я осведомляюсь о причине всего этого шума.
- Это вор,- отвечают мне,- он только что выскочил из окна со стенными часами под мышкой.
- Прекрасно! - говорю я себе.- Завтра я узнаю подробности из "Gazette des Tribtmaux".
Скопление людей в одном месте - вот в чем величайшее бедствие Парижа, более того, величайшее бедствие цивилизации, одна из самых серьезных помех росту человеческого счастья. Такое скопление имеет преимущество только в политическом отношении, оно пагубно для литературы и искусства, и вот почему. В городе хороший врач не завоюет себе известности умением лечить больных. Чтобы иметь пациентов, он вынужден с помощью газеты играть роль шарлатана. Он лечит семью редактора этой газеты и подсовывает ему набросок хвалебной статьи о себе, которую тот отделывает и исправляет. Таким образом, от какого-нибудь услужливого человека, привыкшего писать закругленными фразами, приправляя их остротами, целиком зависит репутация врача, живописца и т. д. Разве не газета создала известность Жироде?
Будучи превосходным и необходимым орудием политики, газета отравляет ядом шарлатанства литературу и искусство. Как только человек, величие которого создано газетами, умирает, слава его умирает вместе с ним. Вспомним Жироде. А вот Прюдон, современник Жироде, не был оценен по заслугам, и у него не было лишнего су, чтобы перейти мост Искусств (я сам тому свидетель).
В городах, неподвластных газете, например в Милане, все идут смотреть на картину прежде, чем прочтут о ней статью, и журналисту приходится быть начеку, чтобы не попасть впросак, говоря о картине, о которой у всех уже сложилось мнение.
Политическая потребность в газете в больших городах порождает печальную потребность в шарлатанстве - этом единственном божестве XIX века.
Какой человек с положением не сознается, краснея, что ему пришлось прибегать к шарлатанству, пробивая себе дорогу? Отсюда тот оттенок необходимого притворства, который придает нечто фальшивое и даже злобное нравам парижан. Естественность губит там человека: люди ловкие тут же решают, что у него не хватает ума, чтобы принять хотя бы какое-то участие в этом необходимом притворстве.
Увы, именно необходимом! Если вам нравится высоко держать голову, если вы появитесь на бульваре в подпирающем подбородок галстуке, все скажут, что вы нахал. Искоренить это убеждение невозможно. Но, с политической точки зрения, наша свобода не имеет других гарантий, кроме газеты. Это и есть то орудие, посредством которого, как я указывал, свобода погубит, быть может, литературу и искусство. Мы грубеем, и это падение, на мой взгляд, обусловлено тремя или четырьмя причинами. Не сломаем ли мы себе шею?
Невер, 14 апреля.
В восемь часов утра я приезжаю в Невер, находящийся на расстоянии не более шести лье от Ла-Шарите. Люди, к которым у меня есть дело, уехали за город, и я оказываюсь почти в таком же положении, как вчера в Ла-Шарите, то есть должен как-то убить время, между тем как у меня весьма серьезные дела и здесь и на окрестных заводах. Невер расположен амфитеатром на холме при слиянии Ньевры с Луарой. На самой вершине холма находятся замок и собор; улицы идут покато. Благодаря этому, как ни плохи здесь дома, в них по крайней мере достаточно воздуха.
Стараюсь пополнить свои знания; к счастью, нахожу в книжной лавке "Записки" Цезаря, поместившего казначейство своей армии в Невере (Новиодунум). Это единственная книга, которую следует брать с собой, путешествуя по Франции. Она освежает усталое воображение, раздраженное несуразными рассуждениями, которые сыплются на вас со всех сторон и которые приходится выслушивать со вниманием. Благородная простота Цезаря составляет полный контраст с витиеватыми любезностями, на которые так Щедра провинция.
Иду осмотреть королевский литейный завод, изготовляющий двести тридцать пушек в год. Захожу в городскую библиотеку в надежде найти какие-нибудь интересные материалы о римском владычестве: нет ничего, стоящего внимания.
Церковь св. Стефана мне, в общем, понравилась. Чтобы войти в нее, нужно спуститься на несколько ступенек. Она была заложена в 1063 году. В те времена мода еще не полностью изгладила воспоминания об античном искусстве. Церковь эта построена в романском стиле. Ее неф широк по сравнению с ее длиной. Это меня очень радует, что доказывает мне, что я не обладаю истинно христианским вкусом: чем уже церковный неф, чем сильнее он сдавлен рядами высоких столбов, тем более ярко олицетворяет он горе.
Церковь св. Стефана имеет форму латинского креста: четырехгранные столбы с вделанной с каждой стороны колонной разделяют ее на три нефа. Отличительная особенность зданий в романском стиле (или построенных робкими архитекторами, сохранившими еще память о римских сооружениях) - прочность. Хоры окружены круглыми столбами, которые соединены арками, образующими круглый свод; круглые своды встречаются здесь повсюду; именно это, по моему мнению, отгоняет мысль о горе и преисподней. Согласен ли со мной читатель?
На хорах виднеются весьма примитивные колонны, капители которых почти так же высоки, как и сами стволы колонн; боковые приделы (поперечины креста) отделены от нефа стеной, доходящей до свода, но внизу перерезанной большой аркой, над которой имеются пять меньших арок.
Чудесные "розы" (круглые окна, украшенные сверкающими темно-красными, зелеными и синими стеклами), столь поражающие вас в соборе св. Уэна в Руане, представляли собой во времена, когда строилась церковь св. Стефана, лишь небольшой, узкий "бычий глаз"*.
* (У нас нет словаря с гравюрами на дереве в тексте, который пояснил бы двести терминов готического искусства; но тогда не оставалось бы никакой тайны.)
Нет ничего более жалкого, чем фасад и лицевые украшения церкви св. Стефана.
Любопытны скульптуры в церкви Спасителя - еще одной романской базилике, претерпевшей в наши дни плачевное превращение: вверху устроен сеновал, внизу помещается транспортная контора. Провинциалы покрывают все свои здания унылой светло-коричневой клеевой краской, такой же, как на соборах Богоматери, св. Сульпиция и др. в Париже. От удара тростью клеевая краска лупится, и тогда видно, что стены и стволы колонн церкви Спасителя были первоначально покрыты толстым слоем блестящей красной краски. Несколько капителей были выкрашены в великолепный зеленый цвет и местами позолочены. Над хорами высится готическая колокольня, очевидно, более позднего происхождения, чем сама церковь.
Церковь св. Гервасия, находящаяся по соседству с церковью Спасителя, превращена в пивную. Эта церковь, имеющая форму греческого креста, четыре конца которого равны, свидетельствует о переходе круглого свода к стрельчатому. Некоторые детали ее были изящны; ее относят к концу XII века.
Собор Сен-Сир - длинная базилика, частично перестроенная в XIII, XIV и XV веках.
Так же, как в соборе Парижской богоматери и в прелестном руанском соборе св. Уэна, хоры Сен-Сира явственно наклонены влево; очевидно, архитекторы хотели напомнить, что, умирая на кресте, Христос склонил голову вправо.
Собор Сен-Сира показался мне довольно неуклюжим, но он хорошо расположен, а его неуклюжая колокольня пришлась по душе крестьянам с Ньевры. Их пленяют колоссальные изваяния, прикрепленные к ее углам. Для церкви времен варваров уже немалая заслуга - нравиться крестьянам.
Во времена Террора, когда Франция стала считать римскую церковь самым непримиримым врагом свободы, у большинства святых в готических храмах были отбиты головы. Все же огромные святые Неверской колокольни уцелели.
С живейшим удовольствием я вновь увидел фасад ратуши: это был замок графов де Невер. То, что от него осталось, относится к началу Возрождения, "к той очаровательной эпохе, когда торжественная красота античной архитектуры, словно украдкой, вновь появилась среди последних капризов готики; и тогда родилось изящество".
Городской сад очень красив.
Из-за своей праздности я стал жертвой чичероне. Он повел меня в сад на улице Тартр. Я увидел там две ионические колонны, вделанные в стену,- подделка под античность.
В соседнем саду находится прекрасная гробница времен Людовика XII. Она украшена очаровательными небольшими статуями, довольно хорошо сохранившимися.
Фуршамбо, 17 апреля 1837 г.
Что сказать, не впадая в злословие, обо всем этом крае беррийских заводов?
Названия этих мест известны в Париже; здесь были нажиты за последние тридцать лет огромные состояния, владельцы которых ныне сопротивляются изданию справедливого таможенного закона. Интересы дела или, скорее, просто тщеславие привели меня в Гериньи, Эмфи и т. д. Нужно, чтобы на наших собраниях в Париже я мог мимоходом упомянуть о некоторых деталях доменных печей этого края.
Я видел здесь многое, достойное похвалы; и все же французский рабочий слишком умен, он слишком стремится изобретать и видоизменять способы производства; он доверяет своему воображению не менее, чем своему опыту. А в машинах, как и в политике, важен только опыт; теория - это лишь мечта.
Французский рабочий из Ниверне лишен дикого упорства бирмингемского рабочего, который прежде всего хочет заработать свои деньги. Он еще более далек от неизменно терпеливых, усердных, полных добродушия рабочих Гарца. (Три года тому назад меня угостили в Госларе завтраком на глубине в тысячу триста футов под землей. Рабочие в понедельник весело спускаются в эту пропасть, чтобы только в субботу вечером возвратиться к своим женам, в свою деревню. Когда-то, при расквартировке в Госларе французских войск, наступавших на Магдебург, там произошли серьезные беспорядки: мужья, "погребенные" в шахтах, чуть было не взбунтовались.)
Я мог бы дать здесь на четырех страницах описание лесов и железообрабатывающих заводов Ниверне, но, быть может, оно представит мало интереса для моего читателя и, безусловно, будет признано якобинским, так как я предложил бы ряд реформ и задел бы богатых заводчиков, которые злоупотребляют status quo.
Провинциалы 1837 года чертовски строги к богатым людям, и я должен сознаться, что, собственно говоря, последние имеют все основания всюду видеть врагов.
Каждый француз, пользующийся железными изделиями, переплачивает два франка в год для того, чтобы господа заводчики могли продавать дерево под видом железа и наживать миллионы. Откройте дорогу шведскому и английскому железу - и всякий француз, пользующийся железом, будет расходовать на два франка меньше в год; более того, тогда можно будет подумать о грандиозных и великолепных предприятиях, которые в наши дни невозможны.
Но что стали бы мы делать в случае войны с Англией?
Со здешними богачами, которым столь невыгодно поднимать серьезные вопросы, можно говорить только о шампанском или о последней комедии г-на Скриба. Но сегодня я провел два часа с подмастерьем, которому поручен сбыт. На все мои вопросы он отвечал очень разумно. Во время нашей беседы явилось двое покупателей: один из Труа в Шампани, другой из Ла-Мюра в Дофине. Подмастерье занялся своим делом, а я только слушал. Мне очень нравится такая роль; я люблю, когда меня ничто не вынуждает говорить.
Быть может, во всей Франции не найти более разительного контраста, чем этот контраст между почтенным жителем Труа и жителем Дофине. Первый, поздоровавшись, тут же сообщает, зачем он пришел, говорит о своем деле с примерным чистосердечием, а когда ему возражают, принимает несчастный вид и не произносит ни слова.
Дофинезец прежде всего осведомился о здоровье жены подмастерья, затем расспросил о его детях; тот совсем растаял и подробно рассказал о здоровье самого младшего. Когда же наконец после долгих дружеских излияний перешли к ценам на железо, дофинезец с добродушнейшим видом заявил, растягивая слова, что уж из-за этого они, во всяком случае, не поссорятся, и в течение пяти - шести минут разглагольствовал о прелестях дружбы. Когда же подмастерье, вернувшись к делу, определенно назвал ему существующие цены, которые на десять су превышают цены после дней ярмарки, добрейший дофинезец остолбенел от изумления.
- Да вы шутите! - проговорил он наконец с добродушным и обескураженным видом.
Торг сильно затянулся и доставил мне большое развлечение. Самое забавное, что подмастерье оказался нормандцем.
Ниверне, 18 апреля.
В одном из городков, через которые я только что проезжал, я встретил одного пожилого человека, слывущего чрезвычайно умным. Это местный орел. Я имел честь обедать с ним, и, так как я парижанин, да еще парижанин, путешествующий в своем экипаже, он соизволил сообщить мне остроту, которая снискала ему такую славу.
Приготовьтесь услышать нечто весьма плоское.
В 1815 или 1820 году мистер Робертсон, физик, фокусник, изобретатель фантасмагории и т. п., давал представление в городе, где проживал мой новый знакомый. Во время сеанса он с трагическим видом поднимает чашу из цветного стекла.
- Эта чаша, господа,- говорит он зрителям,- вызывает во мне воспоминания, одновременно и сладостные и очень горькие. С помощью моей науки вот в этой чаше, господа, в этой простой чаше заключено все, что осталось на земле от моей дорогой третьей жены. После ее кончины я велел возложить ее тело на костер, и она была сожжена, господа, по обычаю древних. Силой моей науки я превратил ее пепел в стекло, и каждый раз, как я пью из этой чаши, с нежностью думаю о моей дорогой третьей жене.
- Эй, послушайте-ка, сударь, не превратили ли вы в бутылки своих двух первых жен? - воскликнул г-н де С.
Вот она, эта острота, жалкая острота, знаменитая острота, изменившая всю его жизнь. Аплодисменты были оглушительными. С этого великого дня г-н де С. поднимает свой голос, решает все вопросы, и никто в его присутствии не смеет усомниться в том, что он утверждает. Он вел со мной беседу о лорде Дерхеме, который, по его словам, затмит О'Коннеля, потому что он более благороден.
Чрезвычайная застенчивость провинциала объясняется его чрезвычайными претензиями. Он полагает, что человек, проходящий в двадцати шагах от него по дороге, только им и занят, а если этот человек случайно засмеется, провинциал навеки воспылает к нему ненавистью.
Во время знаменитого сеанса Робертсона г-н де С. осмелился взять слово перед четырьмястами зрителями - самыми избранными людьми в городе. Если бы он не имел успеха, он бы погиб. Он произнес свою остроту громко и очень явственно. Этой напускной храбрости он и был, возможно, обязан половиной успеха.
Читали ли вы "Тома Джонса" Фильдинга, ныне столь позабытого? Этот роман среди других романов занимает то же место, что "Илиада"* среди эпических поэм; однако персонажи Фильдинга, как и Ахилл или Агамемнон, кажутся нам теперь слишком примитивными. Светское воспитание сделало заметные успехи и стремится к тому, чтобы каждый получше скрывал свои аппетиты. Кажется, в восьмой части "Тома Джонса" лакей, ставший акцизным чиновником, присутствует при исполнении трагедии, которую разыгрывают в сарае. Сначала он доволен, но потом находит, что актер, играющий короля, выглядит недостаточно благородным.
* (Сравнение, проводимое Стендалем между романом Фильдинга "Том Джонс" и "Илиадой", принадлежит Байрону, назвавшему Фильдинга "прозаическим Гомером человеческой природы". Излагая эпизод из этого романа, Стендаль ошибся: лакеи Тома Джонса Партридж не был акцизным чиновником и не высказывал приписываемых ему суждений об игре короля в "Гамлете".)
С самого моего отъезда из Парижа не проходит и дня, чтобы под личиной какого-нибудь богатого провинциала я не встретил лакея, ставшего акцизным чиновником. По мнению таких людей, никто не выглядит достаточно благородно. Их идеал, видимо,- бульварный актер, играющий короля, или, того лучше, красавец-барабанщик, шагающий в такт впереди своего полка.
Одно это замечание, если оно действительно было высказано, говорит о полной неспособности провинциалов судить об искусстве.
Поэтому уважаемые граждане Авранша восхищаются своим генералом Валюбером так же, как в Монпелье - толстым Людовиком XVI, а в Версале - генералом Гошем.
Все это превосходит мои возможности. Каким бы стилем я ни писал, какие бы ни придумывал яркие обороты, я никогда не смогу дать достаточное представление о пустоте провинциальных бесед, о тех бесчисленных мелочах, которые составляют жизнь провинциала, будь он даже самым изысканным человеком. Трудно поверить, чтобы разумные люди могли с интересом заниматься такими пустяками; но в один прекрасный день замечаешь всю глубину провинциальной скуки, и тотчас же все получает свое объяснение. Моя знакомая, неглупая женщина, собралась поехать из Невера в Орлеан. Один из ее чемоданов остался полупустым: она побоялась, что уложенное в него белье может измяться. Я подал прекрасный совет послать за бумажными обрезками к упаковщику на углу.
- Ни в коем случае! - воскликнул ее муж.- Нас поднимут на смех в Орлеане. "Что же это они,- скажут там,- не сумели рассчитать, сколько им потребуется чемоданов для перевозки вещей? Подумать только, притащили в Орлеан обрезки бумаги!"
После 1815 года, а особенно после 1830 года не стало общественной жизни. Каждая семья живет уединенно в своем доме, как Робинзон на своем острове. Город - это совокупность отдельных семейств, ведущих замкнутый образ жизни. В самой дружной семье после одного года такого существования уже не о чем говорить: обо всем давным-давно переговорили. Бедная женщина принимает изумленный вид и улыбается, готовясь выслушать в сотый раз историю о сюртуке, украденном с постели у одного приятеля, которую ее муж собирается рассказать приезжему.
Я пожалел письмоводителя суда, имевшего сварливую жену.
- Что вы, сударь! - простодушно возразил мне один адвокат.- Возвращаясь после судебного заседания, он иногда находит дома хоть какое-нибудь развлечение.
Этот адвокат побывал в Германии. Он рассказал мне, что до перемен, явившихся следствием наших побед, князь-епископ не то Бамберга, не то Вюрцбурга должен был, приступая к исполнению своих обязанностей, принять епископальную библиотеку по инвентарной описи и присягнуть, что не похитит ни одной книги.
Последний епископ, желая выполнить эту церемонию, приказал отпереть дверь библиотеки, и там были найдены неповрежденными печати, наложенные тридцать один год тому назад, когда скончался предшественник последнего епископа.
Все хотели бы избрать депутатом этого адвоката, который, по моему мнению, придерживается умеренных политических убеждений и является, бесспорно, умнейшим человеком в департаменте. Но он слишком беден. Он живет с семьей на восемь тысяч франков, которые дает ему практика и которых он лишился бы, переехав в Париж.
Работают одни только двадцатилетние бедняки. Когда потребуются депутаты для издания закона относительно таможенных пошлин или железных дорог, придется выплачивать им по сорок франков за каждое заседание, на котором они будут присутствовать.
Ниверне, 19 апреля.
Раскройте "Королевский альманах" за 1829 год - и вы увидите, что все должности в этом году были заняты представителями дворянства. Теперь же они живут в деревне, тратя лишь две трети своих доходов и улучшая свои имения. Такую жизнь можно было бы назвать счастливой, если бы они думали хотя бы о чем-нибудь, кроме своих поместий. Помимо сдачи земель фермерам, каждый землевладелец оставляет себе еще угодья в сто пятьдесят арпанов, из которых он также извлекает пользу. Многие скупают все земли, что продаются в округе, и через десять лет эти господа снова будут владеть великолепными поместьями.
Встречаться с ними - большое удовольствие; они отличаются очаровательной любезностью, которую вы тщетно стали бы искать в другом кругу, особенно среди выскочек. Но, хотя беседа с ними непринужденна и приятна, она все же в конце концов наводит уныние, ибо, в сущности, в этих людях чувствуется какое-то недовольство.
Эти любезнейшие люди Франции поставили себя после 1830 года в такое положение, что они только наблюдают за жизнью, но сами не участвуют в ней. Молодые люди не сражаются в Константине, пожилые не возглавляют префектур. Франция от этого теряет, ибо многие из них прекрасно знакомы с законами и постановлениями; все они имели когда-то приятные салоны и бывали грубы, только когда этого хотели. Для человека знатного рода быть грубым - это то же, что говорить на иностранном языке, который пришлось изучать и на котором никогда не говоришь свободно. Сколько высокопоставленных лиц в наше время владеет этим языком с редким совершенством!
Сегодня после полудня я проехал десять лье с одним знакомым дворянином, который живет в прекрасном имении и быстро увеличивает свое состояние операциями, весьма близкими к коммерции. Разгоряченный нашей двухчасовой беседой, которая, несмотря на все мои старания, все время вертелась вокруг политики, он в конце концов сказал:
- Я разделил бы наших друзей, поселившихся в деревне, на две категории: на подписчиков "Quotidi-enne" и на подписчиков "Gazette de France". Следует признаться, что последняя понятна лишь тем, кто живет на расстоянии не более двадцати лье от Парижа. Бывают дни, когда нашим подписчикам кажется, что она запятнана предательством, и т. д., и т. д.
Приведу совершенно достоверный диалог, имевший место в Голландии между начальником отделения одной крупной префектуры и деревенским мэром; мне его передал г-н де Н., который, будучи человеком остроумным, несомненно, его приукрасил.
Начальник. Ну, господин мэр, вы, конечно, очень довольны!
Мэр. Во всяком случае, на этот раз, сударь, дела моей коммуны закончены. Этого мы добились не без труда.
Начальник. Теперь вам бы следовало меня чем-нибудь отблагодарить.
Мэр (с отменной любезностью). Сударь, я приму все меры, чтобы выполнить поручения, которые вам угодно будет на меня возложить.
Начальник. Вы не понимаете меня, сударь. Разве ваша коммуна не славится сырами? Пришлите-ка мне два десятка головок.
Мэр был возмущен. Приехав в свой городок, он тут же рассказал этот диалог и обрушился на взяточничество, бесстыдство чиновников и пр. Местные люди, ,умудренные житейским опытом, стали говорить между собой: "Ну что в конце концов значат для нас двести сорок франков, раз мы так связаны с префектурой?" Вопрос ставится на обсуждение, протокол ведется на клочке бумаги, и выносят постановление не только послать два десятка головок сыра, но еще и оплатить пересылку. В итоге расход выразился в сумме двухсот пятидесяти двух франков, включая ящик.
Ниверне, 20 апреля.
Вот что рассказывали сегодня в одном богатом замке. Криминальная история, о которой пойдет речь, произошла с неким г-ном Бланом, местным нотариусом, человеком бесспорно честным, но снедаемым безумным страхом себя скомпрометировать.
Месяцев восемь - десять тому назад г-н Блан был вызван вечером к богатому помещику, который, приехав в город к дочери - известной ханже, заболел воспалением легких. Больной потерял дар речи. Закон в таких случаях разрешает выразить свою последнюю волю жестами, но обязательно в присутствии двух нотариусов, поэтому г-н Блан привел с собой коллегу. Нотариусов заставили некоторое время подождать, потом впустили в маленькую комнатку, невероятно натопленную, чтобы - как им объяснили - больной не кашлял. К тому же комнатка была чрезвычайно плохо освещена.
Господин Блан подошел к больному, который поразил его своей бледностью. От кровати, стоявшей в глубоком алькове и почти совсем скрытой от глаз широким пологом, шел какой-то сильный запах. Нотариусы расположились у маленького стола, самое большее в двух шагах от кровати.
Они спросили больного, хочет ли он совершить завещание. Больной опустил подбородок на одеяло в знак согласия. Хочет ли он оставить своему сыну находящуюся в его свободном распоряжении треть имущества? Больной остается неподвижен. Хочет ли он оставить эту треть дочери? Больной дважды утвердительно кивает. В этот момент хозяйский пес с яростным лаем врывается в комнату; он бросается под ноги нотариусам, стараясь пролезть к кровати. Собаку поспешно выгоняют. Завещание зачитывается умирающему, который снова несколько раз кивает в знак согласия.
После совершения акта нотариусы встают, собираясь уйти, но так как носовой платок нотариуса Блана упал на пол, когда в комнату вбежала собака, Блан нагибается, чтобы поднять его. При этом он совершенно явственно видит под кроватью две босые мужские ноги. Г-н Блан изумлен. Тем не менее он выходит из комнаты со своим коллегой, но, спустившись с лестницы, рассказывает ему- то, что видел. Велико смущение обоих! Дочь больного, у которой они сейчас были, женщина решительная и пользуется большим весом в городе. Следовало бы вернуться, но как объяснить свое возвращение?
- Однако, дорогой собрат,- говорит г-ну Блану второй нотариус,- какое отношение имеют мужские ноги к акту, совершенному по всем правилам?
Нотариусы были, конечно, честными людьми, но превыше всего они боялись задеть дочь умирающего богача, которая к тому же была племянницей кюре и председательницей двух или трех благотворительных обществ.
Потолковав друг с другом и совсем преисполнившись страха, они все же решают вернуться. Нотариусов принимают с нескрываемым удивлением, что еще увеличивает их растерянность. Они не знают, как объяснить свое возвращение. Наконец, второй нотариус начинает расспрашивать о состоянии больного. Нотариусов подводят к дверям его спальни. Они видят, что полог кровати затянут наглухо. Завещательная процедура-де сильно утомила больного. Нотариусам рассказывают с множеством деталей, что состояние больного ухудшилось с середины ночи, и потихоньку выпроваживают их за дверь.
Не зная, что сказать, бедняги вторично спускаются с лестницы.
Не пройдя и ста шагов, г-н Блан снова обращается к своему коллеге:
- Мы влипли в неприятнейшую историю, и если не проявим решительности, то будем упрекать себя до конца своих дней. Здесь пытаются лишить отсутствующего сына восьмидесяти тысяч франков.
- Но она разорит нас дотла! - вырвалось у второго нотариуса.- Если эта женщина возьмется за нас, то мы же еще окажемся мошенниками.
Тем не менее упреки совести с каждой минутой становятся все мучительнее, и в конце концов совесть начинает так терзать бедных нотариусов, что они, набравшись храбрости, снова подымаются наверх.
Очевидно, за ними следили из окна. На этот раз к ним выходит сама дочь больного, тридцатипятилетняя женщина, известная своими добродетелями, у которой язык хорошо подвешен. Дама принимается за нотариусов и не дает им вымолвить ни слова, когда они пытаются объясниться; она чуть ли не затыкает им рот и в конце концов, видя, что они хотят все же что-то сказать, ударяется в слезы, превознося добродетели горячо любимого отца, которого ей должно потерять. С большим трудом нотариусам удается снова попасть в комнату умирающего. Г-н Блан нагибается.
- Что вы там ищете? - язвительно спрашивает женщина, известная своими добродетелями. И тут она уже обращается к ним с такой запальчивостью, что нотариусы в ужасе видят всю глубину бездны, которая разверзлась перед ними. Они приходят в полное замешательство, страх овладевает ими, и наконец после сорокапятиминутной сцены они вынуждены уйти. Очутившись на улице, г-н Блан сказал своему коллеге:
- Нас выставили за дверь, как школьников!
- Но, бог мой, если эта чертовка начнет нас преследовать, мы погибли! - воскликнул второй нотариус со слезами на глазах.
- А вы думаете, она не поняла, почему мы вернулись? Больше двух суток ее папаша не протянет, если только он уже не умер, тогда она будет вне опасности и сможет торжествовать победу, а на нас напустит всю свою клику, и та будет пакостить нам, как сумеет.
- Сколько у нас появится врагов! - со вздохом пробормотал второй нотариус.- У госпожи Д. такие связи! За нас будут только либералы, а либералы нотариальных сделок не совершают, у них нет ни гроша за душой, к тому же они сами очень осторожны.
Однако угрызения совести настолько мучают этих славных людей, что они вдвоем отправляются к королевскому прокурору, как бы для того, чтобы испросить у него совета. Вначале этот мудрый чиновник делает вид, что ничего не понимает, потом он приходит в такое же замешательство, как и нотариусы, и заставляет их трижды повторить свой рассказ. Затем он заявляет: ввиду того, что дело чрезвычайно серьезно и что подозрения падают на такую достойную и уважаемую всеми особу, как г-жа Д., он не вправе принимать каких-либо мер без письменного заявления.
Нотариусы и королевский прокурор, сидя друг против друга, хранят молчание по меньшей мере в течение пяти минут. Возможно, что нотариусы только того и хотели, чтобы им вежливо указали на дверь.
Но тут появляется, напевая песенку, полицейский комиссар, молодой денди, лишь полгода назад приехавший из Парижа. Он заставляет рассказать ему всю историю сначала, несмотря на почти явное нежелание присутствующих.
- Ха, ха, господа, это ведь сценка из "Наследника",- говорит он, смеясь.
Нотариусы и прокурор приходят в полное недоумение от такого невероятного легкомыслия.
- Но, может быть, сударь, вам неизвестно,- замечает, весь дрожа, второй нотариус,- что за женщина эта госпожа Д.?
Денди даже не удостаивает ответа канцелярскую крысу.
- Если господин королевский прокурор сочтет возможным поручить это дело мне,- говорит полицейский комиссар,- я отправлюсь к этой страшной госпоже Д. с нотариусами, и в моем присутствии господин Блан снова расскажет о мужских ногах, которые он видел под кроватью, я спрошу, что это за ноги, а остальное беру на себя.
Так и было сделано. Г-жа Д., увидев полицейского комиссара, меняется в лице. Последний тут же начинает говорить повелительным тоном и предостерегает, что некоторые преступления ведут людей, и не подозревающих об этом, на галеры, а иногда и к позорному столбу. Г-жа Д. падает в обморок. Появляется ее супруг и в конце концов признается, что его тесть умер за два часа до прихода господ нотариусов, но что он неоднократно заявлял, что хочет все оставить дочери, и т. д. Так как в течение долгого рассказа о воле старика, о ее побудительных мотивах, о плохом поведении сына - большого мота и т. д. зять начинает набираться храбрости, полицейский комиссар прерывает его и вновь заговаривает о галерах и позорном столбе. Наконец, после небольшой сцены, очень живо проведенной комиссаром, довольным тем, что ему поручена такая роль, зять слабым голосом просит нотариусов вернуть ему подлинник завещания и собственноручно рвет его. Под нажимом полицейского комиссара зять признается, что все это было выдумкой его фермера; прекрасно понимая, каким ударом была для них внезапная кончина тестя, который все состояние предполагал оставить дочери, он захотел им помочь. Из середины кровати вытащили две доски, фермер залез под кровать, так что голова его оказалась почти на уровне головы покойника, которую руками он легко приводил в движение.
Я, как и мой читатель, нахожу эту историю слишком длинной в письменном изложении. В устной же передаче она возбуждала интерес: каждый слушатель добавлял какую-нибудь забавную подробность к повествованию о душевной борьбе нотариусов между страхом себя скомпрометировать и честностью.
Во время моего путешествия неоднократно приводились подобные факты. В маленьких городках зачастую возникают подозрения, но через два - три месяца о них уже не говорят.
Важно в таких случаях остерегаться собак.
Мулен, 21 апреля.
Один здравомыслящий человек, который благодаря своему здравому смыслу заработал несколько миллионов, сказал мне сегодня вечером:
- Рынки забиты, производится слишком много товаров. Раз мы оплачиваем Академию моральных и политических наук, почему не спросить у нее: нет ли средства, чтобы воспрепятствовать человеку, имеющему состояние в сто тысяч франков, выдавать векселей на двести тысяч?
Нет ничего труднее, должен признаться, когда дело идет о частном лице: вас обвинят в том, что вы вторгаетесь в личную жизнь и т. д. Этого я допустить не могу. Надзор может быть осуществлен только при продаже определенного рода гербовой бумаги, изготовленной ad hoc*.
* (Для данного случая (лат.).)
Насколько проще издать закон, когда дело касается компании капиталистов, учрежденной на основании акта, который составлен и зарегистрирован нотариусом. Постарайтесь же поскорее понять, что делается в Соединенных Штатах, и установите твердые законные принципы прежде, чем укрепится то, что ваши Роберы Макеры называют "благоприобретенными правами".
Вот что примерно гласил бы закон:
Статья I
Компания капиталистов имеет право выпускать акции только на сумму, равную сумме наличного капитала.
Статья II
Каждый держатель акций, выпущенных компанией, имеет право предъявить претензии к компании в случае выпуска акций с нарушением статьи I.:
Статья III
Спорные случаи разрешаются особым жюри, избираемым по жребию из числа наиболее уважаемых двухсот землевладельцев и двухсот купцов департамента.
В особых статьях должна быть предусмотрена продажа акций по вздутому курсу. Часто одна угроза скандального процесса заставляет плутов призадуматься.
Мулен, 22 апреля.
В Мулене примечательна только гробница герцога де Монморанси, которому кардинал Ришелье приказал в 1632 году отрубить голову. В Тулузе сохранился небольшой тесак, удостоившийся этой высокой чести.
Присутствие провинциального чичероне, болтливого и вульгарного, отравляет мне удовольствие от показываемых им любопытных памятников старины. Уже одно это обстоятельство подтверждает, что не мое призвание описывать путешествие по Франции и что данный мой труд может на что-либо пригодиться пока не появился другой, лучший.
Поэтому-то я и предпочитаю провинциала, незнакомого с красотами своего края, провинциалу-энтузиасту. Когда житель Авиньона расхваливает Воклюзский источник, он производит на меня впечатление неделикатного человека, говорящего о женщине, которая мне нравится, и расписывающего в высокопарных выражениях как раз недостающие ей прелести, об отсутствии которых я никогда и не думал. Такое восхваление превращается в злой памфлет.
Отвращение, которое я питаю к болтунам и грубым душонкам, чуть было не помешало мне осмотреть изумительную церковь Сен-Мену, расположенную в пяти лье от Мулена. Ее украшают прекрасные колонны, подражание коринфским, а многие ее части в романском стиле. Этому зданию грозит разрушение из-за неодинаковой величины арок.
Некоторые части великолепной церкви Сувиньи, расположенной ближе к Мулену, выполнены в романском стиле, другие, быть может, восходят к VIII веку. Храм этот - один из самых достопримечательных в здешней провинции. Он был восстановлен в 919 году рыцарем Эмаром. Там находятся гробницы герцогов Бурбонских. Неф - в романском стиле, хоры - в готическом, некоторые части - в цветущем романском стиле.
Я только что вынужден был употребить термины: романский и готический стиль. Позволю себе их разъяснить.
Романский стиль - хронологически первый. Он сменил полное варварство 1000 года. Стиль этот характеризуется прочностью, скромностью и простотой материалов.
Готический стиль, сменивший романский, когда духовенство еще более разбогатело и сумело заставить работать на себя крестьян, оплачивая их индульгенциями, стремится прежде всего изумить и казаться смелым.
Ему свойственны очень высокие своды с хрупкими колоннами, чрезмерно большие окна, которые разделяются такими тонкими перемычками, что с трудом веришь в их прочность. Стрельчатые своды встречаются гораздо чаще, чем в романском стиле.
Готический стиль старается воздействовать на воображение верующего, находящегося в храме; однако снаружи здание бесстыдно окружают контрфорсами, которые поддерживают его во всех направлениях, и непривычному к этому глазу представляется, что постройке грозит разрушение. Всесильная привычка мешает нам замечать это уродство. Она препятствует нам воспринимать то, что очевидно, если нас с детства приучили этого не замечать.
Привожу несколько хронологических данных, которые рекомендую выучить наизусть, что поможет вам выдавать себя за знатока.
После 1000. года, когда кончился период полного варварства X века,- романский стиль.
1050 год - украшенный, или цветущий романский стиль.
1150-1220 годы - переходный период.
1200 год - готика.
1260 год - украшенная, или цветущая готика.
1350 год - начало пламенеющей готики (контуры орнаментов (Tracery), возведенных на вертикальных косяках окон, напоминают заглавную французскую букву S, словно начертанную пламенем горящего хвороста).
1500 год - переход от готики к Ренессансу (этот стиль носит во Франции название "стиля Людовика XII").
1550 год-господство Ренессанса.
VIII и начало IX века отличаются кубическими капителями, однако такие капители встречаются только на берегах Рейна.
Бургундия, 26 апреля.
Только что я покинул очень унылый край. Я останавливался на несколько дней в замке одного приятеля, человека неглупого, но владеющего лесами, которые надлежит разработать, поэтому он чрезвычайно заинтересован в проведении дороги. Главный инженер - человек весьма сведущий, к тому же приятнейший человек в округе. Инженер, непосредственно руководивший этой работой,- славный юноша, очень образованный и любящий свое дело: с куском хлеба и книгой в руке он каждый день приходил на место работы и оставался там целое утро. В самый разгар работ молодого инженера неожиданно перевели в другой конец королевства.
- Сезон потерян! - воскликнул мой приятель, г-н Ранвиль, возмущенный этим перемещением. Кроме того, он очень сердился на одного вороватого десятника и утверждал, что администрация никогда не увольняет воров, а довольствуется тем, что переводит их в другой департамент. Поэтому г-н Ранвиль, влюбленный в свою дорогу, всегда требует у главного инженера местных десятников; у моего приятеля есть еще и другие горести.
- Никак не могу понять,- сказал я ему,- почему вы вкладываете в это столько страсти? К чему, черт возьми, ставить свое благополучие в зависимость от других людей? Гораздо разумнее было бы влюбиться в молодую хорошенькую женщину; тогда вам по крайней мере пришлось бы считаться с капризами лишь одной особы. Из-за вашей дороги вам приходится вести борьбу не только против интересов сотни провинциалов, но и против всех благоглупостей, которых, как им кажется, требуют их интересы.
Я поехал с г-ном Р. в супрефектуру.
Главный инженер разработал превосходный проект дороги. Проект этот был представлен три года тому назад в супрефектуру. К нему была приложена толстая чистая тетрадь, предназначенная для замечаний. Я приехал, чтобы ознакомиться с ними. Нужно признать, что они смехотворны. Префект назначил комиссию для их рассмотрения. Но чтобы не обидеть двух членов генерального совета департамента - местных жителей, он их ввел в комиссию. Следует отметить, что в провинции генеральный совет имеет для префекта приблизительно такое же значение, как в Париже Палата депутатов для министра. На словах над депутатами всячески трунят, а все же вынуждены добиваться их расположения.
Эти два члена генерального совета не хотели обидеть избирателей, голосовавших за них, а также их родственников. Общество, которое собирается в местных кабачках, высказалось решительно против проекта главного инженера. Проект этот, бесспорно, имеет только одно достоинство - он разумен, ибо предлагает уничтожить очень крутой подъем, по поводу которого те же самые крестьяне кричат вот уже тридцать лет. Согласно проекту, дорога должна была проходить у последнего дома одной деревни. Инженера заставили прокладывать ее через самую деревню, где эта злополучная дорога столкнется с двумя прямыми углами, которые ей придется обогнуть. Я никогда не кончу, если стану перечислять все нелепости, встречающиеся в производимой сейчас большой работе. Таков результат давления аристократии кабаков. Мы словно уже в Америке, где вынуждены ухаживать за наиболее неразумными слоями населения.
Отсюда я заключаю, что земли покупать не следует, надо только брать их в аренду на четыре - пять лет, а капитал свой помещать в Париже в хорошо застрахованные дома. Правда, владея землей, можно быть избранным в депутаты. Но, если вы решитесь приобрести землю к югу от черты, которая проходит от Безансона до Нанта, дайте себе слово никогда не сердиться, что бы с вами ни вытворяли. Хоть я и сутяга по натуре, но если бы я был богат и был вынужден купить землю в провинции, я предпочел бы Нормандию, ибо этот край более цивилизован и там меньше стремятся причинять неприятности соседу без пользы для себя.
Бургундия, 27 апреля.
Сегодня вечером у г-жи Ранвиль собралось много гостей. Заговорили о любовных историях, и дамы стали упрашивать председателя суда г-на Н.- рассказать историю о несчастном башмачнике по имени Марандон, хорошо известном в этих местах. Хотя г-н Н. и уверял, что история эта самая обычная, гости, собравшиеся в салоне г-жи де Ранвиль, настроившись послушать трагический рассказ, настояли на своем. Я же, вернувшись к себе в комнату, не поленился записать этот рассказ, который во всех подробностях строго соответствует истине. Но есть ли у него еще и другие достоинства? В те минуты философского раздумья, когда ум, не смущаемый никакою страстью, наслаждается обретенным покоем и размышляет о причудливости человеческого сердца, он может положить подобные истории в основу своих выводов.
В этом их единственное преимущество перед романами, которым вымысел взволнованного романиста придает занимательность совсем другого рода; обычно они не могут служить основой для каких бы то ни было выводов.
Совсем еще недавно в Аржантоне жила молодая супружеская чета из рабочих, которая, казалось, имела все данные для полного счастья. Жена была красива и добра; муж имел известный достаток, доходное ремесло, и к тому же это был милейший малый. Женат он был на своей родственнице. Обоим очень хотелось иметь детей, но их мечте не суждено было сбыться.
В первых числах января 1837 года Франсуа Гантье - так звали мужа - чуть свет отправился в Лимож на телеге, нагруженной мукой. Проезжая ранним утром Аржантон, он заметил человека, который, как ему казалось, следил за ним, а потом его обогнал. Когда Гантье, сидя спокойно в телеге, переехал мост через Крезу и подымался на довольно крутой берег по ту сторону реки, человек, по всей вероятности тот самый, которого он раньше заметил, бросился на него и нанес ему рану ножом. Гантье спрыгнул с телеги; завязалась жестокая борьба. Он получил пять или шесть ножевых ран и обратил преступника в бегство, но потерял много крови и не смог его преследовать. Раненого приютили где-то по соседству, затем отвезли домой.
Общественное мнение Аржантона сразу определилось: преступление совершил Жан Марандон, башмачник, сосед и родственник четы Гантье, вдовевший два года. Шла молва, что он находится в близких отношениях с женой Гантье. Когда началась эта связь с очень хорошенькой женщиной, считавшейся долгие годы воплощением добродетели? Выяснить это так и не удалось.
Марандона любили во всей округе; у него были черные глаза, необычайно выразительные, что редко встречается у крестьян.
Началось следствие. На одежде Марандона, правда, нашли кровавые пятна, но это не могло служить доказательством. Следствие установило, что в день преступления он встал раньше, чем обычно. После происшествия он не появлялся в доме Гантье. Но все эти улики были недостаточны. Тем более, что при допросе муж упорно заявлял, что не может опознать преступника; во всяком случае, это был не Марандон,- преступник был значительно ниже ростом.
Дело прекратили.
Три недели спустя Гантье, впервые после печального события вышедший из дома, отправился к мировому судье и заявил, что если он раньше утверждал, что не может опознать преступника, то он вводил суд в заблуждение: он определенно знает, что это был Марандон.
В тот же самый вечер Марандон взломал дверь соседнего нежилого дома, взял там ружье и исчез. На следующий день его родственники начали поиски. Они решили обследовать обрывистые берега Крезы, откуда он мог броситься в реку. Вскоре их внимание было привлечено сильным запахом пороха, который шел из глубокой пещеры, расположенной над самой Крезой. Вошли в пещеру, там было темно. Сначала обнаружили деревянный башмак, затем нащупали окоченевшую босую ногу. Труп вытащили на свет. Это был Марандон, он покончил с собой выстрелом в самое сердце.
Когда обнаружили труп, Мари Гантье не было в Аржантоне; она поехала к матери, которая после преступления отказывалась видеть дочь. Та же решила сделать попытку к примирению. Вернувшись в город, Мари на улице узнала о смерти своего любовника и тут же упала с лошади. Ее подняли и стали внимательно за ней следить, ибо она говорила, что покончит с собой. Однако Мари Гантье ускользнула от своих стражей, поднялась на чердак своего дома и выбросилась из окна. Она упала с высоты около сорока футов, отделалась легкими ушибами и предстала перед судом по обвинению в соучастии. На каких фактах основывалось обвинение, для вас, господа, конечно, интереса не представляет. Г-жу Гантье оправдали, что нетрудно было предвидеть.
Вот каковы были обстоятельства дела.
Гантье сразу же узнал Марандона, и этот простой человек, подвергшийся столь вероломному нападению, нашел в себе достаточно силы воли, чтобы в течение трех недель скрывать от своей семьи, а также от суда имя преступника. Впоследствии он объяснил свои мотивы. Он знал, что его жену обвиняют в связи с Марандоном, но не верил этому. Назвать преступника - значило бы во сто крат усилить подозрения, и без того уже получившие широкую огласку. Гантье решил молчать до тех пор, пока точно не узнает, принимала ли его жена участие в покушении на него. Он признался ей в своей великодушной лжи. Однако вскоре Гантье перестал сомневаться в неверности жены.
За каждым шагом Мари Гантье следили. Она это понимала. Не зная, как сообщить любовнику то, что доверил ей муж, она попробовала подкупить служанку одного из своих дверей и попросила ее отнести письмо Марандону. Девушка сначала согласилась, но потом рассказала все хозяину; тот велел ей взять письмо и передать ему.
"Мой дорогой муж,- писала Мари Гантье (заметьте, что это пишет простая женщина),- я больше не выдержу; с тех пор, как он мне сказал, что это ты покушался на него, я самая несчастная женщина на свете. Он говорит, что хочет тебя засадить в тюрьму... Я не могу утешиться. Если ты хочешь покончить с жизнью вместе со своей женой, ответь мне сразу через Мари. Не бойся Мари. Она сохранит нашу тайну, а я ее чем-нибудь отблагодарю. И напиши мне, что нужно сделать, чтобы вместе умереть. Мой любимый, не забудь в этом случае свою жену, потому что для меня чем скорее, тем лучше".
Это письмо не дошло по адресу. Служанка только передала Марандону якобы от имени г-жи Гантье, что ее мужу все стало известно и что он его узнал. "Я погиб!" - воскликнул Марандон.
Мари Гантье, удивляясь тому, что не получает ответа, написала второе письмо, которое дошло до Марандона. У него ответ был уже готов, и он передал его служанке.
"Скажу так,- писал он,- не горюй, постарайся утешиться. Я уверен, что нам теперь нечего бояться. Нужно стойко перенести наше несчастье. Позднее мы придумаем, как нам выйти из этого тяжелого положения. Если меня и вызовут на допрос, не волнуйся, я в себе уверен. Если же вызовут и тебя, ты все время повторяй, что у тебя со мной никогда никаких разговоров не было. Сделай это если не ради меня, то ради мальчугана (у него был сын, и он страстно любил ребенка). А те две книги (два тома "Картины супружеской любви"), если они их не заметили,- сожги. Если ты ничего лучшего не придумаешь, уезжай через некоторое время к своему отцу. Если будет разговор о дарственной записи, тебе придется ее уничтожить. Главное, будь спокойна... А затем крепко тебя целую, дорогая моя жена".
Не могу не признать, что дарственная запись, о которой говорит Марандон, слегка портит эту любовную историю: она была составлена за несколько месяцев до описываемого здесь события и послужила одним из важнейших аргументов для обвинения. Мари Гантье настойчиво просила мужа и добилась от него согласия на взаимную дарственную запись, предоставляющую в случае смерти одного из супругов право пользования его имуществом другому супругу.
Эти два письма, переданные мужу, заставили его рассказать правду аржантонскому мировому судье. Как вам известно, это признание привело к двум покушениям на самоубийство, из которых одно было доведено до конца.
Во время всего следствия Мари Гантье отрицала свою вину, доходя гаже до абсурда. Но по крайней мере она проявила, защищаясь, необычайное упорство и силу духа, которую ничто не могло сломить.
- Письма, за исключением орфографии, переписаны точно,- сказал председатель суда г-н Н., заканчивая свой рассказ,- в копиях, которые я видел, орфография была исправлена.
- Боязнь ада,- сказал я,- удержала бы их от самоубийства.
- Да, вы правы; но всю жизнь бояться, разве это не несчастье?
Я привел эту историю, отдав ей предпочтение перед многими другими, рассказанными в тот же вечер и столь же достоверными, ибо ее действующие лица не обладают особой энергией. Хорошее общество нашей эпохи, единственный признанный судья всего того, что мы публикуем, имеет душу семидесятилетнего старика; оно ненавидит энергию во всех ее проявлениях.
Чай у г-жи Ранвиль превосходен. Около одиннадцати часов подали ужин, после которого все гости, прибывшие в экипажах, сразу разъехались. Нас оставалось человек восемь или десять, из здешнего или из соседнего замка. Зашел разговор о том, как веселились люди в былые дни, и Ранвиль принес бутылку настоящего Кло-де-Вужо, чуть ли не последнюю; у него сохранилось не более шести бутылок 1811 года. Только к часу ночи мы разошлись по своим комнатам. Нас было девять человек, распивших эту бутылку, и мы пришли в очень веселое настроение, хотя я был среди них самым младшим, а мне тридцать четыре года.
С самого начала вечера все молодые люди, напускавшие на себя необычайную серьезность, старательно подчеркивали, что не находят удовольствия в женском обществе. Некоторые из дам, однако, были прелестны. Молодые люди, весь вечер занятые друг другом, освободили нам, старикам, поле деятельности.
В своей комнате я нашел книгу г-на де Бальзака "Аббат Биротто из Тура"*. Как я восхищаюсь этим автором! С какой полнотой он сумел изобразить все невзгоды и все убожество провинциальной жизни! Я предпочел бы более простой стиль, но раскупались ли бы тогда его книги в провинции? Я полагаю, что он пишет свои романы в два приема: сначала вполне вразумительно, а потом разукрашивает свой стиль неологизмами: "треволнения души" или "снег идет в моем сердце" и т. п. красоты.
* ("Аббат Биротто из Тура".- Стендаль имеет в виду роман Бальзака "Турский священник" (1832). "Треволнения души" и "снег падает в моем сердце" - две цитаты из романа Бальзака "Лилия в долине" (1836).)
Бургундия, 28 апреля.
Сегодня утром мы совершили прогулку верхом. Чтобы несколько рассеять моего бедного друга, терзаемого мыслями о дороге, которая должна создать благоприятные условия для его торговли лесом, мы завели разговор о любовных интригах, о добродетели и о провинциальных дамах.
- Из каждых шести наших дам,- весьма хладнокровно сказал мне Ранвиль,- только за одной водятся кое-какие грешки; вторая может воскликнуть, подобно маркизе Мармонтель: "К счастью!" Но четыре остальных достойны восхищения. Я объясняю это явление так же, как лондонскую добродетель: если мужчина три раза подряд посетит какую-нибудь семью, все соседи приходят в негодование, и женщина, за которой только начали ухаживать, предупреждена раньше, чем она успела полюбить.
Ранвиль привел десяток примеров; о наиболее любопытных я не смею здесь упомянуть, боясь вновь поднять шумиху в округе. На мой серьезный вопрос, встречается ли страстная любовь среди хорошего общества Бургундии, он ответил отрицательно.
А между тем любовник одной из дам здешнего общества выстрелил в нее из пистолета, или же она выстрелила в него. Это случилось в деревне, в одиннадцать часов вечера, причем муж находился в соседней комнате. По слухам, муж, с полным безразличием относившийся к своей супруге, даже не встал с постели. Любовнику пришла счастливая мысль обратиться за помощью к лесничему, который на следующее утро всем рассказывал с весьма сконфуженным видом, что ружье случайно выстрелило в его руках под самым окном хозяйки и что он, опасаясь ее гнева, убежал в лес, где и провел весьма неприятную ночь. Он видел подступивших к нему волков, но так как ружье его не было заряжено, и т. д., и т. д.
Другая дама, которую ее муж - прокурор, большой ревнивец,- заставлял разъезжать вместе с собой в плетеном кабриолете, внезапно заболела на постоялом дворе, в десяти лье от здания суда, где ее муж выступал чуть ли не каждое утро. У нее хватило выдержки пролежать в постели шесть недель. Прокурор проводил на этом дрянном постоялом дворе все воскресные дни. Он привозил знаменитых врачей, которые с помощью своей науки нашли, конечно, что хорошенькая женщина очень серьезно больна. Угадайте, что было потом. Местный житель, который имел дело с прокурором, осведомил его о том, что происходит. Прокурор был тесно связан с двумя депутатами, которые добились у военного министра отсылки офицеpa в Алжир, где тот и был убит. Заметим в скобках, что ничто не может сравниться с невежеством и равнодушием некоторых провинциальных врачей.
В Париже истинная любовь уже не спускается ниже шестого этажа, откуда она порой выбрасывается из окна. Быть может, она встречается чаще в провинции, иногда в кругах мелкой буржуазии и, конечно, среди женщин, ибо с 1830 года любовь для молодого человека считается величайшим позором.
Отен, 29 апреля.
В Бургундии, как и повсюду, брак по любви служит постоянным предметом насмешек молодых людей. Они беспрестанно говорят о том, какое приданое должно быть у женщины, которую они намерены осчастливить. Один из соседей Ранвиля - большой хвастун, с черными бакенбардами, очень шумливый (провинциальный лев) - в двадцать пять лет утверждал, что женится только на женщине с приданым в триста тысяч франков; в тридцать лет он удовлетворялся уже ста пятьюдесятью тысячами и наконец в тридцать пять женился на женщине с приданым всего лишь в восемьдесят тысяч франков.
Молодые люди проводят свою жизнь в кафе, куря сигары и разговаривая о том, как сделать карьеру. Она должна быть быстрой и блестящей. Успех некоего лейтенанта артиллерии сводил с ума всех французов по крайней мере в течение полувека.
-- В этом году,- сказал мне Ранвиль,- молодые люди, желающие добиться успеха не работая, начали много говорить о выборах и о железных дорогах, проекты которых были отклонены по лености Палатой депутатов. Если бы появился новый Мирабо или Дантон, его красноречие могло бы привести их к величайшим безумствам, ибо, в сущности, они скучают,
- Кстати, о скуке: а литература?
- Эти господа не могут понять так называемых "необузданных страстей" в современном романе; еще менее понятна им трогательная восторженность романов, которые сводили вас с ума в их возрасте. Теперь уже никто не читает "Новую Элоизу", романы г-жи Коттен или Марии-Режины Рош, переведенные аббатом Морелле. Молодые люди 1837 года довольствуются мемуарами г-жи Дюбарри, г-жи де Помпадур, "Современницы", Флери, и т. д., и т. д., где выводятся люди, которые зарабатывают много денег и жизнь которых порой разнообразится беспутными вечерами. Они верят в существование г-жи де Креки, "Шагреневая кожа" г-на де Бальзака пользуется у них бешеным успехом. Они находят холодным все, что написано простым стилем, и неологизм для них - это вершина мысли.
Наиболее изысканные из молодых людей, завсегдатаев кафе, зачитываются "Мемориалом св. Елены" и безгранично восхищаются императором. Ведь Наполеон дал ренту в 80 000 ливров генералу Маршану, отличившемуся под Эйлау. Сказать по правде, быстрая карьера по мановению руки монарха в гораздо большей степени соответствует безрассудным мечтам современных республиканцев, нежели скромные достижения, которых можно добиться в разумно управляемом государстве.
Ранвиль немного утешил меня, добавив:
- Мы приближаемся к временам, когда будут считаться только с людьми, имеющими самостоятельное мнение. Теперь уже одни дурачки, ленивцы и застенчивые люди повторяют модные суждения.
Как благотворно одиночество для молодого человека, живущего в Сомюре или в Мулене, чтобы составить себе собственное мнение по пяти - шести вопросам! Какой это будет тонкий, необыкновенный человек, как будут прислушиваться к его словам, если он в двадцать пять лет будет иметь самостоятельное мнение по пяти - шести вопросам!
В Париже человек беспрерывно отвлекается. Даже у двадцатипятилетнего юноши, имеющего счастье не рассчитывать на наследство, есть столько возможностей позабавиться! Что только не привлекает ежедневно его внимание! Найдется ли в Париже двадцатилетний человек, который прочитал бы, пытаясь отыскать в них противоречия, все восемь томов Монтескье?
Легко себе представить, что, будучи здесь только проездом, я не успеваю познакомиться с провинциальным обществом и молодежью. Все приведенные выше суждения заимствованы мною у человека с ясным и глубоким умом, который живет в своем поместье с 1830 года. Почти во всех городах, где мне довелось хоть ненадолго задержаться,- в Лионе, Марселе, Гренобле - я мельком встречал молодых людей, словно созданных для того, чтобы всего добиться. Я даже думаю, что в 1850 году высокие посты будут занимать по большей части уроженцы далеких от Парижа мест. Чтобы стать видным человеком, нужно к двадцати годам обладать той пылкостью души, той, если можно так выразиться, способностью поддаваться иллюзиям, которые присущи лишь провинциалам; нужно также философское образование, свободное от всякой фальши, которое можно получить только в хороших парижских коллежах.
Но способность сильно желать становится все более редкой в Париже. Ныне не читают серьезно хороших книг: Беля, Монтескье, Токвиля* и др. Читают лишь современные пошлости - и то только, чтобы иметь возможность поговорить о них по мере того, как они выходят в свет.
* (Токвиль, Алексис (1805-1859) - французский историк и политический деятель, автор книги "О демократии в Америке", подвергший критике государственный строй США.)
Я пишу обо всем этом, чтобы отвлечься от сильной вспышки гнева. Приехав в Отен, я обнаружил, что потерял все ключи от ящиков моей коляски, и пишу в то время, как Жозеф вместе со слесарем возится с отмычками.
Так как этой операции не предвидится конца, я расскажу историю Отена, которую изучил в библиотеке г-на Ранвиля.
Всем известно, что мы здесь находимся в знаменитой Бибракте - столице страны эдуев, которых Помпоний Мела называет самым выдающимся кельтским (или галльским) племенем и которые так часто упоминаются у Цезаря*. Цезарь, напавший на галлов, обладал храбростью, равной их храбрости, и умственным превосходством более передовой цивилизации; он старался разъединить эти младенческие племена. Сумев возбудить зависть, свойственную жителям Отена, он привлек их на свою сторону, на сторону чужеземца, и несчастные жители Бибракты, движимые пагубным желанием унизить аллоброгов и арвернов, присоединились к римлянам. В награду за свою глупость они удостоились пышного названия "братьев" и "союзников" римского народа.
* (Цезарь, VI, XII и т д. Чтобы прослыть ученым в 1837 году, следует верить тому, что кельты, или галлы, пришли из Азии и сами покорили Галлию. То, что римляне пришли из Индии, вполне очевидно - так полагают немцы,- ибо в старолатинском языке встречается с десяток индийских слов. Или еще того лучше, вся римская цивилизация берет свое начало из большого немецкого города, существовавшего в окрестностях Капуи за три или четыре века до основания Рима. К несчастью, название этого города неизвестно, и невозможно также установить место, где он был расположен. Не лучше ли сочинять песни, как это делал Колле?)
Они владели территорией между Луарой и Соной и большими богатствами, способствовавшими успеху Цезаря. Жители Отена, потеряв свою свободу, настолько унизились, что стали воздавать хвалу Августу и дали своему городу латинское название Августодунум. При Константине они снова изменили его наименование, однако нынешнее название города является сокращением первоначального и вечным воспоминанием о впервые возданной ими хвале чужеземному тирану. Благодаря такому образу действий Отен достиг расцвета и вскоре стал одним из красивейших и наиболее значительных городов Галлии. Тацит говорит, что со времен Тиберия туда посылали молодых галлов для изучения греческой и латинской литературы. Отен сохранял свое великолепие еще три века спустя, при Константине. Он был ужасающим образом разграблен и сожжен в конце III века, во время восстания багаудов, но Константин его восстановил.
Сто пятьдесят лет спустя Отеном овладел Аттила и, по обычаю своего народа, разрушил все, что носило на себе хоть какой-то отпечаток цивилизации. Бургунды и гунны оспаривали друг у друга развалины Отена. В заключение явился Роллон со своими норманнами, и они окончательно разрушили то немногое, что еще сохранилось
Несмотря на все эти бедствия, Отен - один из любопытнейших городов Франции. Его жители наделены всеми добродетелями, однако они, бесспорно, не любят древностей. Еще в 1762 году при постройке духовной семинарии они воспользовались камнями своего амфитеатра. В 1788 году они употребили оставшиеся материалы этого памятника старины на восстановление незадолго до того разрушенной церкви св. Мартина. Упомянутый амфитеатр, возможно, был построен при Веспасиане.
Отен расположен на склоне крутого холма, близ реки Арру, у подножия трех невысоких гор, которые прикрывают его с востока и юга.
Приехав в Отен, я испытал живейшее удовольствие от того, что ступал по камням римской дороги. Улица очень крута, и лошадям нелегко двигаться по этим гранитным глыбам.
Отен, 30 апреля 1837 г.
Вчера я проявил мужество: покрытый пылью, в дорожном платье, возбуждая любопытство глазевших на меня провинциалов, я пошел осматривать памятники старины.
Ворота Арру или Санса - великолепное творение римлян. Это триумфальная арка с двумя большими аркадами и примыкающими к ним двумя другими - меньших размеров. Над нею - шесть более узких аркад, образующих нечто вроде галереи; когда-то их было десять, но сейчас четырех из них уже нет. Колонны, возведенные между этими аркадами, коринфского стиля.
Сели вы хотите получить представление об этом простом и величественном памятнике, отыщите какую-нибудь гравюру с его изображением. Невозможно передать словами чувства, которые он вызывает. Я не решаюсь пускаться в гиперболы и неологизмы, я бы мог только пояснить гравюру, но не заменить ее.
Этот почтенный памятник римской старины имеет в ширину девятнадцать метров и в высоту семнадцать, Взглянув на него, я почувствовал себя в Италии. Грусть, навеянная готическими церквами, рассеялась. Вместо того, чтобы думать о нелепых чудесах, зачастую унижающих Верховное существо, которое якобы прославляют, думать о грызущих грешников чертях, которые изваяны на капителях колонн и во всех углах христианского храма, я вспоминал о народе-властелине и его победах, то есть о самом славном, что было в истории человечества. Мое представление о боге было унижено нелепой картиной всех глупостей, которые он позволил совершить во имя свое; теперь в моих глазах возвышено представление о человеке*. Антаблемент, венчающий четыре нижние аркады, необычайно величествен. Он заставляет меня мысленно перенестись в Рим.
* (Предположим, что фамилия читателя Дарвиль и он человек всемогущий. Что бы он сказал, если бы ему стало известно, что в Лионе появился человек, который именует себя Дарвилем и под этим именем совершает необычайные злодейства, например, сжигает невинных и т. п.)
Прочность постройки вполне гармонирует с изумительной величавостью архитектуры; камни не соединены цементом, пазы между ними едва заметны, в них не просунешь даже лезвия ножа. По-видимому, именно благодаря своей исключительной прочности этот памятник смог устоять против яростного натиска гуннов, норманнов и других варварских племен.
Шесть верхних аркад стоят неправильно, то есть центру нижних аркад не соответствует пустота или пилястр верхних.
Я пошел осмотреть ворота св. Андрея, тоже очень древние и, по всей вероятности, той же эпохи. Они весьма напоминают первые ворота, только не так высоки и гораздо шире. Колонны, вделанные между маленькими аркадами, ионического стиля. Четыре перехода расположены не в один ряд, как в Арруйских воротах. Два главных отступают в глубину по отношению к двум меньшего размера.
Ворота св. Андрея, так же как и Арруйские, имеют две большие аркады и по бокам еще две - меньшего размера; на самом верху - шесть аркад, из которых недостает лишь одной. Эти ворота сохранились лучше, чем первые. Непонятно, как могли столь тонкие стены противостоять разрушительной силе веков и стольким варварским нашествиям.
Еще более удивительно, что жители Отена не разрушили этих триумфальных арок для постройки своих жилищ. Ведь ради этой высокой цели они до основания сломали упоминавшийся выше большой амфитеатр, который столь уважаемыми учеными, как, например, Монфоконом, был впоследствии запечатлен в рисунках, созданных их воображением. К такой своеобразной и дерзкой лжи, крайне типичной для археологической науки, прибегают еще и в наши дни!
Как мы видим, иллюстрации в археологических трудах столь же заслуживают доверия, как и рассуждения!
Осмотрев эти замечательные ворота, или триумфальные арки, я вышел за пределы города, по ту сторону речки Арру, чтобы осмотреть храм Януса. Это квадратное строение времен Византийской империи, от которого сохранились только две очень высоких стены - южная и западная. Вход в храм был с восточной стороны. Крестьянин, владелец поля, на котором находится храм, жалуется, что эта лачуга, привлекая любопытных, причиняет ему ущерб, и, мне думается, он в скором времени добьется у местных властей разрешения снести ее.
В одной деревне, расположенной по соседству с Отеном, можно увидеть Куарский камень - совершенно непонятный памятник. Какие варварские племена воздвигли его? Это пирамида, достигающая еще сейчас пятидесяти футов высоты. Она сложена из довольно крупных, неправильной формы камней, связанных очень твердым цементом. Крестьяне выламывают эти камни для постройки своих домов.
В Отене следует осмотреть прекрасную мозаику, изображающую борьбу Беллерофона с Химерой, а также резные камни и монеты в мэрии.
Это благороднейшее наследие древности настолько воспламенило мое воображение, что я, должен сознаться, с большим трудом и исключительно, чтобы выполнить свой долг путешественника, отправился в местный собор св. Лазаря. Он расположен на возвышенности, и, чтобы проникнуть в него, надо подняться еще по изрядному количеству ступеней. С этого удачно выбранного места открывается прекрасный вид на весь город и некоторую часть окрестностей. Эта церковь отмечает переход от романской архитектуры к готической, вошедшей в моду в более позднее время. Неф относится к 1140 году, и стрельчатые своды сочетаются в нем с круглыми.
Фасад собора св. Лазаря очень красив. Ризничий обратил мое внимание на волка с аистом и на Андрокла с его львом, изваянных на двух капителях с левой стороны от входа. Какой убогой кажется вам эта скульптура после того, как вы насладились созерцанием благородных пропорций античного искусства! Бог мой, какое уродство! Поистине, нужно обладать особой выдержкой, чтобы изучать нашу церковную архитектуру.
Я увидел в часовне, где стоит купель, довольно красивый барельеф, изображающий Магдалину и Иисуса Христа. Как далеко это от идеальной красоты! Магдалина на этом барельефе просто-напросто очень красивая женщина, и эта женщина - обыкновенная смертная.
Каменное обрамление - образец кропотливого труда. Мне думается поэтому, что вся работа исполнена каким-нибудь немецким художником.
И словно потому, что все в Отене должно быть варварски грубым, этот прелестный барельеф расписан маслом.
В двух часовнях - изумительные витражи, то есть стекла очень ярких красок. К красной краске в те времена примешивали золото, что, без сомнения, увеличивало удовольствие любовавшихся витражами богомольцев*.
* (Мне стало известно, что уже после моего пребывания в Отене там в одной церкви над входом обнаружили барельеф, изображающий Страшный суд.)
В соборе св. Лазаря имеется картина г-на Энгра, великолепные четыре или пять головок в жанре Рафаэля.
Изумление, вполне достойное провинции, вызывает то, что именуют здесь "большим тромпом". В самом деле, нет ничего более обманчивого*. Речь идет не о сводчатом выступе, а о шпиле на башне с левой стороны собора св. Лазаря. Он сделан из камня и внутри совершенно полый. В нижней части его камни толщиной в шесть дюймов; это шедевр смелости, которым мы обязаны XVI веку. Если смотреть изнутри храма, этот шпиль обманывает зрение: он кажется необычайной высоты, ибо благодаря его пирамидальной форме создается впечатление, будто он далеко уходит ввысь.
* (Непереводимая игра слов: архитектурный термин "trompe" является синонимом личной формы глагола "tromper" (обманывать).)
Отен, 1 мая 1837 г.
Вечерние часы, которые так приятны в Париже, очень тягостны во время путешествия, особенно когда тебя, к несчастью, не привлекает жизнь кафе и ты уже не находишь блаженства на дне бутылки шампанского. Читал Цезаря и привожу здесь замечания Наполеона об этом великом человеке, которые кажутся мне весьма разумными.
Цезарь описал историю своих походов в Галлию, и его "Записки" доставили ему больше славы, чем само завоевание этой страны.
Цезарь, обремененный в Риме долгами, человек весьма знатного происхождения, снискавший с .ранней юности всеобщую известность своими плутнями и отвагой, начал войну с шестью легионами. Число их в дальнейшем возросло до двенадцати. Легион состоял, если не ошибаюсь, из пяти с половиной тысяч солдат всех видов оружия.
"Он совершил восемь походов в Галлию,- пишет Наполеон,- во время которых дважды вторгался в Англию и дважды совершал набеги на правый берег Рейна. В Германии он дал девять больших сражений, провел три крупные осады и превратил в римские провинции территорию в двести лье, что доставило римской казне восемь миллионов одной лишь контрибуции" и что дало ему возможность подкупить в Риме всех граждан, которых можно было подкупить, то есть огромное большинство.
В течение этой войны, длившейся менее шести лет, Цезарь взял приступом или заставил сдаться более восьмисот городов, покорил триста народностей и разбил наголову в сражениях три миллиона воинов; третья часть их пала на поле боя, другая треть была обращена в рабство.
"Если бы слава Цезаря,- пишет Наполеон,- зиждилась только на галльской войне, она могла бы вызвать сомнения".
Галлы были полны воодушевления и проявляли изумительную храбрость. Однако они были разделены на большое число племен, ненавидевших друг друга. Один город нередко шел войной на соседний исключительно из зависти. Горячие, вспыльчивые, галлы любили опасность и лишь в редких случаях подчинялись голосу благоразумия.
Отсутствие дисциплины, распри, презрение к военной науке, примитивные способы нападения и защиты, неумение использовать победу, соперничество начальников, столь же запальчивых, сколь и храбрых,- все это отдавало их - одно племя за другим - в руки противника, такого же отважного, как они сами, но более искусного и упорного.
Только один галл понял преимущество единения. Это был Верцингеторикс, молодой вождь овернцев.
"Во время празднеств,- говорит Флор,- как и во время военных советов, на которые галлы собирались толпами в священных рощах, его речи, полные сурового патриотизма, призывали их вновь завоевать свою свободу".
Цезарь понял опасность. В то время он находился в Равенне, где был занят набором рекрутов. Он перешел Альпы, еще покрытые снегом; с ним было лишь несколько легко вооруженных отрядов. Вмиг он собрал свои легионы и появился во главе армии в самом центре Галлии, прежде чем галлам пришло на ум, что он мог быть на их границах. Он провел две достопамятные осады и заставил вождя галлов просить у него пощады. Тот явился в лагерь римлян и бросил к ногам Цезаря конскую сбрую и свое оружие.
"Храбрый человек,- воскликнул он,- ты победил!"*.
* (Флор, кн. III, гл. II.)
В наши дни ученые полагают, что можно писать историю, преувеличивая те данные, которые приводятся древними авторами, и имеют смелость утверждать, будто имя Верцингеторикса произносилось в Риме всегда с трепетом. Через две тысячи лет, быть может, найдется историк того же типа, который в поисках такого же рода славы, говоря о Франции XIX века, напишет, что одно имя Абдель-Кадера заставляло бледнеть парижан.
Хитрость, к которой прибегал Цезарь, большей частью достигала цели в борьбе против галлов, храбрых, но простодушных, представлявших себе, что достаточно одной смелости, чтобы одержать победу. Козням и предательству тщеславные варвары противопоставляли только безграничную храбрость. Такие враги были словно нарочно созданы, чтобы доставить славу римскому полководцу, не имевшему себе равного во всякого рода обманах.
Поэтому Цезарь, более всего стремившийся составить себе репутацию в Риме, не скупился, чтобы поразить бесхитростных галлов, на отважные и благородные поступки. Обычно он сам ходил на разведку в сопровождении лишь одного воина, несшего его меч. В случае необходимости он делал сто миль в день, один переправлялся вплавь или на бурдюках, наполненных воздухом, через реки, встречавшиеся на его пути, и нередко прибывал на место раньше, чем его посланцы. Как Ганнибал, он всегда шел во главе своих легионов, по большей части пеший и с непокрытой головой, невзирая на солнце и дождь. В пище он был очень нетребователен, и однажды этот хитрец, достойный нашего века, велел высечь в присутствии своих воинов раба, подавшего ему лучший хлеб, чем тот, каким кормили его армию.
Спал он в повозке и приказывал будить себя каждый час, чтобы самому следить за осадными работами и за тем, что делали в лагере. Он постоянно был окружен секретарями и когда не диктовал военных приказов, то работал над своими литературными произведениями. Так, по пути из Ломбардии в Галлию, во время перехода через Альпы, он продиктовал трактат "Об аналогии". Он сочинил речь "Против Катона" за несколько дней до битвы при Мунде, когда, как известно, чуть было не решился сойти со сцены, видя, что победа грозит от него ускользнуть. Светоний рассказывает, что в течение своего похода в Испанию, длившегося двадцать четыре дня, Цезарь написал поэму под заглавием "Путешествие".
Приводим некоторые подробности. Цезарь забрал себе все имущество галлов, владевших тогда огромными богатствами. Однако, уплатив свои личные долги, достигавшие, как говорят, тридцати восьми миллионов франков, он стал раздавать своим воинам все те деньги, которые собирал. В результате этого солдаты Римской республики мало-помалу сделались солдатами Цезаря.
Вот портрет Цезаря, оставленный нам Светонием, весьма несовершенным предшественником Тальмана де Рео.
У Цезаря была белая нежная кожа, он был подвержен частым головным болям и даже эпилептическим припадкам; он был тщедушен, и его телосложение не свидетельствовало о силе. Цезарь был отличным наездником и считал полезным блеснуть своей ловкостью перед воинами; в походах он любил пускать свою лошадь во весь опор и несся, заложив руки за спину.
В каждом человеке Цезарь ценил только те достоинства, которыми тот мог быть ему полезен. От своих воинов он требовал только храбрости и физической силы, мало заботясь об их нравственности. После победы он разрешал им какие угодно вольности и излишества, но стоило приблизиться неприятелю, как Цезарь сразу же возвращал их к железной дисциплине. Цезарь осыпал бранью тех воинов, которые пытались разгадать его планы; он держал их в полном неведении относительно дорог, которые им предстояло пройти, и сражений, в которых они должны были участвовать. Он требовал, чтобы в любое время и в любом месте они были готовы идти вперед и сражаться. С помощью этих и других подобных средств Цезарю удавалось заинтересовывать свои легионы и заставить себя бояться - словом, он умел вызвать в них энтузиазм. По этому поводу следует заметить, что он сам был творцом того энтузиазма, из которого извлекал пользу, тогда как Бонапарт в начале своей карьеры воспользовался энтузиазмом, рожденным революцией. Впоследствии одной из важнейших задач его жизни было заменить этот энтузиазм восторженным отношением к своей особе, к себе лично и вызвать самые низменные интересы.
Я привел все эти подробности, чтобы оправдать ложь и другие средства достижения успеха, к которым прибегал Наполеон для спасения отечества, например, при Арколе; ныне они приводят в негодование некоторых писателей - весьма добродетельных, высоконравственных и славных людей, которые никогда ничего не видели, не сделали ничего стоящего и, тем не менее, притязают на то, чтобы руководить общественным мнением.
У нас много говорят о лишениях и ненастье в течение трех дней в Маскаре. Что же пришлось бы сказать о пятидесяти пяти днях голода во время отступления из Москвы? Что бы сказал Наполеон, как бы отнеслось общественное мнение 1812 года, если бы солдаты стали жаловаться в первую же неделю отступления?
Тридцать восемь лет тому назад нам пришлось вести войну, подобную войне Цезаря с галлами,- я говорю о походе в Египет. Мамелюки проявили ту же исключительную и безрассудную храбрость, что и наши предки. Все незначительные опасности, встреченные армией в Египте, проистекали из-за отдаленности от родины. Цезарь же, когда он это считал ,нужным, набирал воинов в Милане и Равенне. И, окажись он побежденным, он нашел бы надежный приют в плодородной стране.
Наполеон, следовательно, прав; войны с галлами не ставят Цезаря в один ряд с Ганнибалом и Александром Македонским. Цезарь научился воевать в Галлии, он собрал там огромные средства, обучил своих воинов и с таким редким искусством сыграл свою роль, что вернулся в Рим увенчанный славой и охраняемый восторженным обожанием своих легионов.
Имея уже эти преимущества, он начал великую войну - настоящую войну. В битвах при Фарсале и Мунде он встретился с воинами не менее искусными, чем его собственные.
В 1796 году генерал Бонапарт, никому неведомый, весьма невысокого происхождения, совершил свой первый, самый блестящий поход против лучших европейских войск, которыми командовали прославленные генералы. Против него были духовенство и аристократия тех стран, где он сражался. Он вынужден был подчиняться приказам бездарного правительства, и все же он со своей армией уничтожил четыре австрийские армии, несмотря на численное превосходство врага.
Шомон, 3 мая.
Спешные дела привели меня из Нивернейских кузниц на заводы в окрестностях Шомона. Этот край очень богат железом, но поистине он так безобразен, что я предпочитаю о нем вовсе не упоминать. Боюсь прослыть "плохим французом". Я заслуживаю этот упрек в том нелепом смысле, какой придавал этому выражению Наполеон. Я вижу теневые стороны Франции. Мне кажется, что я с превеликим гневом защищал бы свою родину от нападок чужеземца, но, вообще говоря, я предпочитаю умного человека из Гранады или Кенигсберга умному парижанину. Последнего я знаю, как свои пять пальцев. Неожиданное, пленительное неожиданное можно встретить только у иностранца.
Я совершенно лишен патриотизма, присущего англичанину, который готов был бы сжечь все бельгийские города, чтобы увеличить благосостояние одного из лондонских предместий.
Шомон расположен как бы на приплюснутой сахарной голове. Из окон моей гостиницы виднеются только лишенные растительности бесплодные холмы и всего три чахлых деревца, которые красуются на этих холмах. В Шомоне во всем чувствуется нехватка: нет даже воды; не купишь здесь ни дичи, ни горячего пирога. Каждый буржуа везет для себя съестные припасы из своей деревни. Приезжих здесь бывает так мало, что кондитер умер бы с голода. В огромных лесах этого департамента водятся косули, вепри и дичь всякого рода, но все это попадает к г-же Шеве. Как жаль, что Шомон не стоит посреди одного из этих лесов!
Сегодня утром мне сказали: вечером собираются гости у г-жи такой-то. На этом вечере много было разговоров о диких выходках союзников, занявших Шомон в 1814 году, во время французской кампании. Положительно, эти люди менее цивилизованны, чем мы. В Германии в 1806 или 1809 году некоторые наши коменданты городов, оставленные в тылу, требовали от городских муниципалитетов ежедневной выплаты сорока франков; однако три раза в неделю такой комендант давал роскошные обеды, все время устраивал пикники в окрестности города и наконец в день отъезда был принужден занять у какого-нибудь из своих вновь приобретенных друзей десять луидоров, а чьи-то прелестные глазки его оплакивали. Немец же копит деньги.
Самым благородным патриотизмом отличается область, которая тянется вдоль восточной границы от Страсбурга до Безансона и Гренобля.
Минеральные богатства настолько велики в департаменте Верхней Марны, что они привели к разделению труда. Имеются люди, которые промывают руду и продают ее литейщикам. Природа повсюду прикрыла руду лесом.
Вот что я нашел из литературных произведений в Верхней Марне. Под небольшим, плохо нарисованным портретом молодого человека прекрасной наружности, которому в жизни важно лишь одно - охота на косуль, женщина, которой он, быть может, пренебрегал, нацарапала чуть заметно карандашом несколько строк из старика Вуатюра:
Он любит побеждать, но не любимым быть. В тщеславной прихоти, презрев чужие беды, Лишь славы ищет он, а не плодов победы
Вынужденный очень спешить в Шомон, я задержался в Дижоне всего на час, то есть ровно на столько времени, сколько понадобилось, чтобы осмотреть древнюю башню бывшего дворца трех герцогов Бургундских, которых г-н де Барант* ввел в моду несколько лет тому назад. Эта квадратная башня была закончена при Иоанне Бесстрашном. Во время распрей с орлеанцами он приказал построить ее выше, чем сначала предполагалось. Он хотел иметь возможность издали обозревать равнину, чтобы избежать неожиданностей.
* (Барант (1782-1866) - французский историк и государственный деятель. Стендаль имеет в виду его "Историю герцогов Бургундских" (1824-1827).)
У замка свода изображен рубанок, который этот государь избрал своей эмблемой, между тем как герцог Орлеанский (убитый впоследствии по его приказанию) избрал своей эмблемой суковатую палку.
Человек, показывавший мне башню, смышленый, как и все дижонцы, любезно предложил мне осмотреть- музей, хотя было всего половина шестого утра.
В этом музее среди многих посредственных произведений мне бросились в глаза семьдесят мраморных статуэток вышиной не более фута - изображения монахов различных орденов. Выражение страха перед адом, покорности судьбе и презрения ко всему земному замечательно передано. У многих монахов голова скрыта под капюшоном, а руки засунуты в рукава: тела совсем не видно,- и все-таки от этих фигур веет торжественностью и правдой. Религия кажется прекрасной в этих мраморных изваяниях.
Такая скульптура весьма поразила бы Перикла. Эти статуэтки когда-то окружали гробницу герцогов Бургундских в Картезианском монастыре в Дижоне. Имеющийся здесь св. Михаил очень любопытен своим вооружением.
Во время беглого осмотра я заметил среди картин "Смерть св. Франциска" Агостино Карраччи, "Св. Иеронима" Доменикино и пейзаж Гаспара Пуссена, который должен был бы отучить наших пейзажистов от излишней жеманности. Единственный пейзажист, которым я восхищаюсь, пишет деревья так, что их можно узнать; недаром же г-н Марилья ездил изучать пальмы в Аравию.
Я заметил также отличную копию "Афинской школы" - прекраснейшей фрески, известной у нас в Париже в замечательной копии г-на Константена*, сделанной им на фарфоре.
* (Константен, Авраам (1785-1855) - женевский живописец по фарфору, друг Стендаля.)
Расскажу о случившемся третьего дня происшествии, в котором я оказался замешан.
Какой-то богатый банкир отправил небольшим провинциальным дилижансом запечатанный мешок с пятьюдесятью тысячами франков. Но чтобы уменьшить расходы по пересылке, он заявил при сдаче мешка, что в нем только десять тысяч франков. Когда дилижанс прибыл к месту назначения, мешка не оказалось. Банкир, кавалер ордена Почетного Легиона, местный мэр, близко знакомый с префектом, и т. д., и т. д., тут же отправился в торговый городок, куда он послал мешок с деньгами. Это был человек огромного роста, страшно высокомерный. Он поднял невероятный шум в конторе дилижансов, заявляя, что ему должны вернуть пятьдесят тысяч франков, что он возбудит процесс, что он выпишет адвоката из Парижа и, если потребуется, не пожалеет еще пятидесяти тысяч франков, чтобы вернуть первые пятьдесят тысяч. Одним словом, он самым комичным образом разыгрывал из себя важную персону. Так или иначе, он своего добился; он насмерть запугал служащих дилижанса.
Форейтором дилижанса был итальянец, который отозвал в сторону слугу грозного банкира.
- Это правда,- спросил он,- что в мешке было пятьдесят тысяч франков?
- Безусловно,- ответил слуга,- он при мне считал деньги.
- Но мешок ведь был очень мал.
- Потому что в нем было золото.
- Ну, так скажите вашему господину, что, если он откажется от всяких претензий и выдаст об этом расписку на гербовой бумаге, заверенную нотариусом, я помогу ему получить эти деньги обратно.
Три часа спустя толстый банкир получил свой мешок с деньгами. Оказалось, что форейтор под предлогом, что одна лошадь потеряла подкову, сделал остановку и зарыл мешок под деревом в лесу, по которому дилижанс проезжал ночью.
У этого человека хватило смелости украсть десять тысяч франков, но освоиться с мыслью, что он украл, ничем не рискуя, пятьдесят тысяч, было выше его сил.
Лангр, 5 мая.
Дорога из Шомона в Лангр. Ввиду того, что на ландшафт смотреть невозможно, не приходя в дурное расположение духа, я хочу в виде вставного эпизода рассказать о своей жизни. И вот по каким мотивам.
Если бы я мог позабавить читателя занимательными приключениями, ему было бы безразлично, кто я такой. Но, как известно, я могу предложить его вниманию лишь несколько беглых, весьма незначительных заметок, лишь несколько более или менее верных штрихов; и, чтобы хоть слегка посочувствовать высказываниям туриста, нужно знать, с кем вы имеете дело.
Жизнь моя могла быть самой обычной, а между тем она оказалась очень беспокойной. До шестнадцати лет меня изводили латынью и греческим языком,- только сейчас я перестаю их ненавидеть. Я поступил в таможенную контору. Мой отец, член Палаты депутатов, просил, чтобы мне давали как можно больше работы. Однажды вечером, гуляя по лугу с девицами из деревни, где я служил, я стал напевать песенку Беранже. Это услышал мой начальник, и через месяц я был переведен на остров Мартинику.
Там меня встретили с распростертыми объятиями. Положение жертвы иезуитов помогло мне приобрести очень преданных друзей. Я бы и по сей час там оставался, ибо эта своеобразная жизнь пришлась мне очень по вкусу, но однажды, когда я работал на солнцепеке, со мной случился солнечный удар. Полумертвым меня отправили на корабле в Европу. Я выжил. Приехал я на место совершенно здоровым. Я собирался уже было вернуться на Мартинику, но отец вздумал меня женить на дочери богатого торговца железом, который привлек меня к участию в своем деле.
Я потерял жену, но продолжаю торговать железом. В течение двенадцати лет я работал так же упорно, как когда-то изучал греческий и латынь. Неожиданно для себя я разбогател. Теперь отец стал моим лучшим другом, и я рассчитываю, как только это станет возможным, вернуться на Мартинику уже не для того, чтобы зарабатывать на жизнь, а чтобы ею наслаждаться.
В Париже жизнь кажется мне слишком сложной. Я люблю ходить в гости в соломенной шляпе и нанковой куртке.
В качестве коммивояжера я ежегодно объезжал Францию, Германию и Италию. Но я так добросовестно исполнял свои обязанности, что почти не решался смотреть по сторонам. В этом году, разъезжая по делам, я позволил себе удвоить время пребывания в Лионе, Женеве, Марселе и Бордо и стал вглядываться в окружающее.
Бесспорно, нет страны на свете, где ваш сосед причинял бы вам меньше зла, чем во Франции. Этот сосед хочет лишь одного: чтобы вы ему показывали, что считаете его первым человеком в мире. Он более или менее воспитан; но если он принадлежит к хорошему обществу, то никогда не меняется, а мне хотелось чего-нибудь неожиданного.
В течение двенадцати лет, что я занимался коммерцией, я путешествовал только в почтовой карете. Три дня езды от Парижа до Марселя. Чудесно! Но человек низведен при этом до животного состояния: он либо ест паштет, либо полдня спит. У меня никогда не хватало времени, чтобы осведомиться, или, точнее говоря, постараться уяснить себе, каким же образом люди, у которых я останавливался проездом, гонятся за счастьем. А между тем ведь это главное в жизни. По крайней мере меня это в первую очередь интересует.
Я люблю живописные пейзажи; порой они производят на меня такое же впечатление, как смычок, управляемый искусной рукой, когда он скользит по звучным струнам скрипки. Такие пейзажи рождают безрассудные чувства: они увеличивают радость и облегчают горе.
Впрочем, думается мне, неудобно говорить, что любишь искусство. Это почти равносильно утверждению, что ты таков, каким должен быть человек. По-моему, Франция представляет восхищенному взору туриста лишь тысячи готических церквей и кое-что из наследия романской архитектуры на юге. Я, признаться, с самого детства восторгался прелестной церковью св. Уэна в Руане.
Мысленно я всегда делил Францию на семь либо восемь больших районов, которые, по существу, весьма отличны друг от друга и сходны лишь по чисто внешним признакам.
Я хочу поговорить о том, что обусловливается деятельностью правительства.
Во всех департаментах жена какого-нибудь мелкого чиновника задирает нос, потому что получила приглашение на бал к г-ну префекту, и чуть ли не готова разлюбить свою подругу детства, которую обошли таким приглашением. С этой стороны нравы одинаковы как в Ванне, так и в Дине.
Возвратимся, однако, к большим районам, на которые я делю Францию.
Назову сначала Эльзас и Лотарингию. Эти провинции отличаются искренностью; им свойственны серьезность чувств и страстный патриотизм. Мне нравится немецкий язык, на каком говорят в Эльзасе, хотя он и ужасен.
Затем идет Париж и широкий круг эгоизма, охватывающий его во всех направлениях радиусом в сорок лье. За исключением самых низших слоев населения, всякий здесь старается извлечь какую-нибудь пользу из правительства, каково бы оно ни было; но подвергнуть себя опасности для того, чтобы его защитить или изменить, считается величайшей глупостью. Следовательно, нет большего различия, чем между Эльзасом и окрестностями Парижа.
Продолжая двигаться к западу, мы находим около Нанта, Орэ, Савенэ и Клиссона бретонцев - народ XIV века, преданный своему кюре и готовый отдать жизнь, когда дело идет о том, чтобы отомстить за бога.
К северу от них - нормандцы, люди ловкие, хитрые, которые никогда не дадут прямого ответа на заданный им вопрос. Если край этот и не блещет умом среди других частей Франции, то уж, несомненно, он самый цивилизованный. От Сен-Мало до Авранша, Кана и Шербурга это наиболее лесистая местность Франции, и холмы здесь наиболее живописны. Пейзаж заслуживал бы величайшего восхищения, если бы были высокие горы или по крайней мере вековые деревья, но зато здесь имеется море, вид которого наполняет душу глубокими чувствами, море, которое своей изменчивостью наполовину излечивает буржуа маленьких городов от свойственной ему мелочности.
После четырех северных районов: великодушного Эльзаса, Парижа с его эгоистическим окружением, имеющим восемьдесят лье в диаметре, после набожной и храброй Бретани и цивилизованной Нормандии - мы попадаем на юге в Прованс с его грубоватой прямолинейностью. Политические партии в этом крае прибегают к убийствам*: маршал Брюн, марсельские мамелюки в 1815 году, резня в Ниме.
* (...прибегают к убийствам.- После реставрации Бурбонов во Франции начался белый террор. В южных провинциях происходили погромы и совершались массовые убийства. В 1815 году роялистские банды перерезали в Тулоне сторонников Наполеона и мамелюков - солдат наполеоновской армии, привезенных из Египта; в том же году такая же резня повторилась в Ниме, а в Авиньоне 2 августа был убит маршал Брюн, примкнувший к Наполеону во время "Ста дней".)
Мы добрались до большого Лангедокского района. Я считаю, что он тянется от Бокера и Роны до Перпиньяна. В этих местах люди отличаются умом и деликатностью. Любовь не заменена здесь таблицами Барема. Поближе к Пиренеям заметен даже некоторый намек на романические чувства и любовь к приключениям, что говорит о близости благородной Испании.
Тулуза отличается подлинной склонностью к музыке. Я наспех записываю впечатления, которые вынес из своих путешествий, и знаю, что не все в них может выдержать строгую критику; мне известно, например, что Ним расположен на правом берегу Роны.
Двигаясь от Пиренеев к северу, мы попадаем в блаженный край, где люди всё рисуют себе в радужных красках и не знают никаких сомнений. Гасконь - от Байонны до Бордо и Перигё - дала Франции две трети знаменитых маршалов и генералов: Ланна, Сульта, Мюрата, Бернадота, и т. д., и т. д. В Вильнев-д'Ажане и в Бордо люди отличаются большим природным умом, но зато им недостает образования, чем и вызвана черная окраска этих департаментов на карте барона Дюпена. Крестьянин близ Родеза и Сарла абсолютно невежествен, однако ничто не может сравниться с его природным умом. Чтение "Дон-Кихота" доставило бы ему большое удовольствие, тогда как нормандец отметил бы в нем лишь некоторые здравые суждения Санчо-Пансы. Во всем этом районе буржуа целиком во власти одного желания - приобретать земли. Если человек имеет поместье стоимостью в восемьдесят тысяч франков, он покупает соседнее поле, которое стоит тридцать тысяч, рассчитывая уплатить за него из своих сбережений; в результате ему всю жизнь не хватает одного экю. Но он довольствуется своим бахвальством: свой дом он называет "замком", на каждом слове повторяет, что он крупный землевладелец, и в конце концов сам этому верит.
Я не назвал на юго-востоке еще один край - край тонкого ума и просвещенного патриотизма - Гренобль. 6 июля 1815 года*, через двадцать дней поле Ватерлоо, когда вся Франция впала в уныние, Гренобль, хотя и покинутый регулярными войсками и маршалом Сюше, отступавшим на Лион, все же решил защищаться. Он храбро сражался с пьемонтскими войсками - теми великолепными полками, которые император набрал в Пьемонте. Такой пример доблести, не только воинской, но еще в большей степени гражданской, среди разгрома, постигшего Францию при Ватерлоо, не находит себе равного в истории нашей революции.
* (6 июля 1815 года, вскоре после битвы при Ватерлоо, Гренобль подвергся нападению австро-сардинской дивизии под командованием генерала Латура, действовавшего по приказанию Людовика XVIII. Гренобльцы встретили противника артиллерийскими залпами; однако после нескольких дней сопротивления город вынужден был капитулировать.)
В провинции правительство - это префект. Он почти одинаков повсюду, и, тем не менее, я многое мог бы сказать по этому вопросу.
Есть на юге такие департаменты, где правительство почти не имеет никакого влияния на моральный облик населения; это объясняется либо низким интеллектуальным уровнем жителей, либо обуревающими их страстями, а также и неспособностью префектов. Господа префекты награждают не по заслугам, да и к тому же их сменяют в конце третьего или четвертого года их пребывания в должности, то есть в тот самый момент, когда они начинают хоть немного знакомиться с краем, которым управляют. Большинство из них, даже через несколько лет, не имеют понятия о том, что творится вокруг. Они почти всегда действуют в соответствии со склонностями генерального секретаря или советника префектуры, которого они считают честнейшим человеком на свете, а у этого заправилы столь же возвышенные взгляды и столько же великодушия, как у жадного и хитрого прокурора. До 1830 года префекты не могли похвастать тем, что они руководят волею хотя бы одного человека в департаменте. В лучшем случае они подкупали людей табачными лавками и орденами, если только депутаты сами не забирали эти средства в свои руки, чтобы пользоваться ими в своих собственных интересах.
Если когда-нибудь выборы станут более честными, чем это было до 1830 года, эти южные народности начнут, хоть немного, считаться с правительством. До тех пор они смотрели на него как на всесильного врага, который требует от них налогов и новобранцев, но с которым иногда можно вступить в выгодную сделку, заставив его заплатить за посылку в Париж желательных ему депутатов.
Наполеон воодушевил народы. После его падения и всякого рода мошенничеств, как при выборах, так и в других областях эгоистические и низменные страсти вновь овладели людьми. Мне нелегко это говорить, я хотел бы ошибиться, но я не вижу вокруг себя и тени благородства.
Каждый хочет разбогатеть, хочет нажить огромное состояние быстро и не работая. Отсюда, особенно на юге, безграничная зависть к человеку, сумевшему вырвать у правительства должность с окладом в шесть или хотя бы в три тысячи франков, причем не учитывается то, что человек отдает взамен труд и свое время, которое он мог бы использовать для зарабатывания денег в адвокатуре или коммерции. Каждого чиновника считают мошенником, завладевшим казенными деньгами.
Эти нелепые взгляды редко встречаются в цивилизованной части Франции, которая находится, по - моему мнению, к северу от черты, проходящей от Дижона к Нанту. К югу от этой черты исключением являются только Гренобль и Бордо. Гренобль слегка возвысился над атмосферой окружающих его предрассудков благодаря своей большой рассудительности, а Бордо - благодаря блесткам остроумия. Люди умеют читать на родине Монтескье и на родине Варнава.
Однако, не говоря уже о влиянии правительства в семи или восьми больших характерных районах Франции, следовало бы прожить по крайней мере год в каждом из них, чтобы хоть в слабой степени с ними познакомиться, занимая еще при этом должность префекта или генерального прокурора.
Для нас, жителей Парижа, это изучение представляет тем большие трудности, что мы совершенно не подготовлены к тому, что наблюдается в провинции. Париж - это республика. Человек, в материальном отношении обеспеченный и не вынужденный обращаться с ходатайствами, никогда не сталкивается с властями. Кто из нас станет осведомляться о характере г-на префекта?
И это еще далеко не все: министерство награждает орденом какого-нибудь глупца, заведомо ничтожного человека, и мы в Париже над этим смеемся. Не было бы причин смеяться, если бы орден получил наиболее достойный человек: министерство заботится о том, чтобы нас позабавить. В провинции возмутились бы в подобном случае, стали бы негодовать. Провинция еще до сих пор не знает, что в этом мире все - одна комедия.
Департамент Верхней Марны, 6 мая.
Немало людей любят поразмыслить над выводами нравственного порядка, вытекающими из того или иного факта, но, к несчастью, они не способны запомнить ни единой цифры, ни одного имени собственного.
Любой дурак, который знает хотя бы одну дату, может среди оживленной беседы оборвать таких людей на полуслове. Следует лишь обзавестись часами с эмалевым циферблатом и написать на нем несколько нужных и легко используемых цифр.
Сегодня вечером в гостиной собралось множество благовоспитанных людей, которые старались очернить в моих глазах деятельность королевского правительства в области экономики.
Я же ответил тоном оракула:
"Торговый баланс Франции, то есть сумма вывоза и ввоза, достиг в 1836 году 1 866 миллионов франков; в 1828 году он равнялся 1 216 миллионам, следовательно, разница в пользу царствования Луи-Филиппа 650 миллионов.
Париж экспортировал в 1836 году на 134 миллиона, а в 1828 году -всего на 67 миллионов, несмотря на то, что восстание происходило в Париже.
В 1836 году сельскохозяйственная Франция вывезла вина на 70 миллионов франков. Франция в 1836 году предоставила Соединенным Штатам 159 миллионов, а Англия - всего 66 миллионов. Что ж, провозгласите республику или призовите к власти Генриха V*, и тогда взгляните на цифру таможенных пошлин".
* (Призовите к власти Генриха V.- Речь идет о сыне герцога Беррийского графе де Шамборе, последнем представителе старшей линии Бурбонов, которого легитимисты считали французским королем Генрихом' V.)
Лангр, 9 мая.
Когда мы подъезжали к Лангру, расположенному на горе, возница сказал мне, что, не считая Бриансона, нет города во Франции, который стоял бы так высоко над уровнем моря. Я нахожу, что Лангр напоминает, насколько можно судить по рассказам, Константину,
Я велел подвезти себя к подножию башен старинного собора. Кажется, будто он построен на развалинах римского храма. Перистиль хоров - в коринфском стиле, на нем встречаются черепа баранов, вроде тех, которыми греки и римляне отмечали, что храм усиленно посещается и что в нем часто приносятся жертвы. Собор построен в романском стиле, а некоторые его части - в готическом. Портал - нелепое произведение XVIII века. Амвон в форме триумфальной арки относится к 1560 году. Окрестные крестьяне таращат глаза на престол из красного мрамора.
Осмотрев собор, я, несмотря на холодную, ветреную погоду, совершил весьма длинный путь к развалинам римских ворот, вделанных в крепостную стену. Я увидел четыре коринфских пилястра очень тщательной работы; на фризе изображены воинские доспехи.
Лангр - это родина Сабина* и Эпонины, смерть которых производила столь сильное впечатление на нас в коллеже. Это единственная трогательная история, на которую не наложили запрета наши учителя-педанты. Боялись за нашу нравственность - и заставляли нас комментировать Овидия.
* (Сабин - воин племени лингонов, поднявший в 67-70 годах н. э. восстание против римлян; потерпев неудачу, он в течение девяти лет скрывался в лесу в пещере вместе со своей женой Эпониной. Выданный римлянам, он был казнен, после чего Эпонина покончила с собою.)
С большим удовольствием я увидел, что в Лангре возводятся еще новые укрепления. В случае войны местные жители возьмут на себя защиту своего города, потребовав лишь несколько артиллеристов. Ужасы и грабежи 1814 года еще не изгладились из памяти.
Полюбовался бульваром Бланш-Фонтен и его чудесными деревьями.
Холм, на котором стоит Лангр, является ответвлением длинной горной цепи, тянущейся и к северу и к югу, от Мезьера к Бону, к Манду и к Сен-Пону. Из Лангра открывается широчайший вид на окрестности. Какой-то весьма любезный человек, гулявший по бульвару одновременно со мной, указал мне гору, где берут начало четыре реки: Марна, Меза, Венжанн и Мане,- которые несут свои воды - одни в океан, другие в Средиземное море.
Местоположение Лангра и его облачное небо, напомнившее мне о древних галлах, необычайно усилили впечатление, произведенное на меня собором. С удовольствием перечитываю у Цезаря описание характера наших предков.
Покончив с делами, я должен был искать убежища от ледяного ветра в соборе. Сперва я там читал Цезаря. Немного согревшись, я стал думать о готическом искусстве и о стрельчатом своде, который вовсе не является характерным для одной только готики, родившейся, говоря точно, в 1200 году.
Стрельчатая арка встречается во все времена в Египте. Она имеется также у моста через Иордан в Сирии. В X веке арабы привнесли стрельчатую арку в Сицилию.
Еще более для меня убедительным - ибо я это видел собственными глазами - является то, что свод отводного канала озера Албано, построенного во время осады города Вей, тоже стрельчатой формы. Во многих постройках в Сицилии встречаются стрельчатые своды. Тут нет ничего удивительного, это самый крепкий свод, раньше всего пришедший в голову человеку. Для выступов здания проще всего прибегнуть к стрельчатой арке.
Романская, а затем готическая архитектура мало-помалу рождалась среди людей, которым наскучили греческая и ее младшая сестра - римская архитектура или же которые потеряли надежду сравняться с ними.
Общество X века некоторыми весьма существенными своими чертами напоминает парижское общество 1837 года. Северные завоеватели, дикие и полные энергии, незадолго до того вторглись в утонченное римское общество, - простые колонны уже не удовлетворяли его, оно требовало колонн, украшенных мозаикой (см. в Равенне); они вторглись, повторяю, в утонченное, расслабленное, хилое общество, утратившее вкус ко всему, что требует последовательной работы мысли, и разбудить которое могла одна ирония,' ибо она требует от ума только минимум внимания.
Если бы не книгопечатание, благодаря которому дикарь-мастеровой вроде Ж.-Ж. Руссо может взять слово и заставить себя слушать, хорошее общество тех времен, когда маршал де Ришелье брал приступом Пуэрто Маон, было бы столь же неспособно испытывать страсти, как Рим, запечатленный в романе Петрония.
Процесс смешивания варваров с этим расслабленным обществом сопровождался жесточайшими и долгими конвульсиями и привел к полному варварству X века. Но в конце концов получился единый сплав, и родилось социальное целое, именуемое Францией.
Теперь же в результате революции народ полон энергии,- обратите внимание на самоубийства. Треть богачей, абонирующих ложи в Опере, попали бы в затруднительное положение, если бы им пришлось доказывать, что их деды были грамотны.
Отсюда энергия, которая старается пробить себе дорогу в литературе 1837 года, к великому негодованию Академии, а также утонченных и кротких людей, родившихся до 1780 года или же сохранивших тогдашние обычаи.
Энергия имела большее значение в обществе X века, чем у нас. Сын римлянина повсюду уступал дорогу сыну варвара.
Сицилии, менее опустошенной северянами, надоела греческая архитектура, и она постепенно создала готику. Затем наступили двенадцатый и тринадцатый века, которые стыдились своего варварства и страстно увлекались строительством. Об этом свидетельствуют соборы в Страсбурге, Реймсе, Руане, Оксере, Бовэ, Париже и тысячи готических церквей во французских деревнях.
Известно, что для душ тщеславных и холодных все сложное, все трудное и есть красота, поэтому готическая архитектура старается придать своим постройкам как можно более необычный вид. Тем же объясняется успех александрийского стиха в трагедии. Ценители такой красоты рукоплещут словам:
Что слышу я? Всего лишь час тому, Сама назначила ты эту казнь ему.
Они поражены талантом автора, сумевшего найти такую жестокую ситуацию. Видно, что Расин умел страстно любить, говорят они. К тому же и сами слова им нравятся. Люди заурядные, хилые, педантичные восторгаются богатыми рифмами, которые так трудно было найти. Но самую мысль они объявили бы грубой и слишком простой, если бы у них хватило на это смелости.
Итак, можно надеяться, что во французской литературе наступит все же прекрасная пора энергии,- это произойдет, когда в литературу придут внуки тех, кто разбогател во время революции.
Лангр исполнен зависти к Шомону. Проходя по довольно красивым улицам Лангра и видя со всех сторон лавки ножовщиков, я не мог не вспомнить о Дидро*. Без сомнения, этот писатель не чужд напыщенности, но насколько ясно будет в 1850 году его превосходство над большинством нынешних наших высокопарных писателей! Его напыщенность происходит не от умственного убожества и не от необходимости его скрывать. Напротив, Дидро затруднен богатством собственной души. Следует вырвать шесть страниц из "Жака Фаталиста", но после такого улучшения романа какое произведение нашего времени смогло бы сравниться с ним? К несчастью для своего таланта, Дидро не имел возможности ухаживать в двадцать лет за женщиной хорошего общества и смелости появляться в ее салоне. Его напыщенность тогда исчезла бы, она является лишь остатком провинциальных привычек.
* (Дидро был уроженцем Лангра и сыном ножовщика. В своем романе "Жак-фаталист" (1773) он высмеивает фатализм; роман состоит почти сплошь из юмористических диалогов слуги Жака и его хозяина, перемежающихся вставными новеллами.)
Быть может, он думал, как и Вольтер, что важнее наносить сильные, чем точные удары; это нравится огромной массе читателей, хотя способно глубоко возмущать души, преклоняющиеся перед Корреджо и Моцартом. Дидро мог бы ответить, что такие души встречались редко в 1770 году, но на это я возразил бы, что в 1837 году трагедии Вольтера наводят на нас смертельную скуку. В 1837 году Дидро восхищаются в Мадриде и Петербурге; к нему относятся с отвращением, как к презренному распутнику, в Эдинбурге, а через двадцать лет ему воздадут должное даже на улице Таранн.
Дорога от Лангра до Дижона, 10 мая.
Невысокий лесистый холм, который при выезде из Шомона едва привлек бы ваше внимание, поражает здесь своей красотой и ласкает глаз.
Именно так случилось со мной сегодня. Какое впечатление произвел бы здесь Мон-Ванту или какая-нибудь другая гора, на которую даже не взглянешь в окрестностях Воклюзского источника!
К сожалению, близ Парижа нет высоких гор. Если бы небо даровало этой местности озеро и хотя бы невысокую гору, французская литература была бы гораздо "живописней". В эпоху расцвета нашей литературы разве только Лабрюйер, писавший обо всем, осмелился мимоходом посвятить несколько слов тому глубокому впечатлению, которое производят на некоторые души такие ландшафты, как вид на По или на Кра в Дофине. Жалким образом восполняя этот пробел, бездарные писатели нашего века расхваливают эти красоты без всякой меры и чувства такта и портят их, как только могут.
Понятие живописного*, так же как и хорошие дилижансы и пароходы, мы заимствовали из Англии. Восхищение красивым пейзажем у англичан неразрывно связано с религией и аристократизмом; у них это - искреннее чувство.
* (Слово "живописный" впервые вошло в употребление во Франции в XVIII веке (1732).)
Первым проявлением внимания к природе, с которым я встретился в книгах, пользующихся успехом, было описание ивовой аллеи, в тени которой нашел себе убежище герцог де Немур*, приведенный в отчаяние недоступностью принцессы Клевской.
* (Герцог де Немур и принцесса Клевская - герои романа г-жи де Лафайет "Принцесса Клевская" (1678). В четвертой части романа герцог Немур, спрятавшись в саду под ивами, тщетно пытается проникнуть в беседку, где находится принцесса Клевская.)
Франция изрезана пятью горными цепями. Две цепи холмов, служащие контрфорсами для Сены, кажутся словно срезанными на определенной высоте. На них следует смотреть из глубины небольших долин; если же смотреть на них с возвышенности, они безобразны. Мон-Валерьен с вершины прелестного холма Монморанси ничего не говорит вашему сердцу. Как жаль, что добрая фея не перенесла сюда одну из огромных гор, расположенных в окрестностях Гренобля!
Если бы эта фея отделила морскими проливами шириною в четыре лье Францию от Испании и Германии и несчастную Италию от Германии, Европа приблизилась бы на два века к счастью, доставляемому цивилизацией, что не мешает, впрочем, людям, получающим за это плату, беспрестанно говорить о доброте фей.
Представьте себе Рейн, Вислу, По и Эбро шириною в десять лье от самых истоков. Как могла бы тогда Россия угрожать цивилизации и посылать своих казаков на юг Европы?
Прошлый год я провел в Кенигсберге и знаю, что Россия не располагает двадцатью миллионами, необходимыми для переброски войск, но что буржуа дают себя запугать паническими и хорошо оплачиваемыми статьями, которые аугсбургская газета переводит с русского.
Однако вернемся к нашему печальному миру, каков он есть в действительности. Представьте себе горы Франции, которые я наблюдал по пути из Лангра в Дижон.
Первая цепь
Цепь холмов тянется от Бреста до вершины Бевре через Корле,
Фужер,
Лэгль,
Жиен
и Кламси.
К югу от Байе эту цепь крестообразно пересекает другая, которая простирается частью к северу, частью к югу, от пункта южнее Сен-Ло до Шатобриана.
От горы Бевре эта цепь, начиная от Мулена, к северу от Мортани, тянется на юго-восток, затем сворачивает на северо-восток до Бурбонна, а затем прямо на север до Мезьера и Сен-Поля. Эта цепь расположена двумя рядами от Ла-Марш до Вердена и образует долину Мезы.
От Ремиремона она начинает примыкать к горным отрогам, окружающим долину Рейна с французской стороны, от Баллон-д'Альзаса до Бича.
Вторая цепь
От Дижона и Кот-д'Ора эта цепь доходит до горы Сен-Венсан близ центрального канала, затем идет параллельно Роне до Шеланда, против Баланса. Здесь она достигает большой высоты, затем сворачивает на юго-восток по направлению к Флораку, Лодеву и Сен-Папулю близ Кастельнодари.
Третья цепь
Небольшой неправильной формы угол образуется горами, которые от Кагора поднимаются к северо-востоку до Сен-Пурсена и образуют в этом направлении Кабрское ущелье и Мон-д'Ор. В Монмаро эта цепь тянется на юго-запад до Шалю близ Лиможа.
Если хочешь полностью представить себе рельеф Франции, не следует забывать небольшую горную цепь, которая от Шатеньера доходит до Сивре и Лузиньяка, неподалеку от Сен-Жан-д'Анжели. Невысокими холмами, в направлении Конфолана она примыкает к Шалю в Монмаро, через Сен-Жермен-ла-Куртин и Монтегю.
Четвертая цепь
Невысокая цепь тянется на север и на юг от Пото, к югу от Базаса, к Пиренеям в направлении Ансиньяна.
Пятая цепь
Бесполезно напоминать о Юрском горном кряже, который простирается от Базеля до Белле, и об Альпах, которые, начинаясь отрогами от Юдербурга и Бреннера, образуют Монблан и спускаются к югу до Вентимильи, где теряются в море, чтобы вновь появиться в Корсике. На западе Альпы высятся по всему Дофине до Мон-Ванту близ Авиньона, на востоке же, наоборот, они внезапно понижаются перед Турином. Здесь начинается огромная равнина, самая прекрасная в цивилизованном мире. Когда-то ее завоевали галлы, усеявшие ее городами; таковы, например, Милан, Кремона и др. Эта равнина расстилается от Турина до Венеции и от Брешии до Болоньи.
Прошу читателя извинить меня за эти серьезные страницы, но, только написав их, я представил себе рельеф Франции.
А теперь я собираюсь поговорить о погоде.
Исходя из своих хитроумных наблюдений, г-н де Гаспарен, который, прежде чем стать министром внутренних дел, долгое время успешно работал в области сельского хозяйства, решил, что Францию в отношении дождей можно разделить на два района. В районе № 1 дожди идут весной и осенью, в районе № 2-летом. Район № 2 расположен на юге, район № 1 - на севере. Линия, разделяющая эти большие районы, весьма далека от прямой. Она чрезвычайно извилиста, что вполне понятно, если вспомнить, что эта линия в большой степени зависит от гор и от разницы в высоте над уровнем моря.
Если представить себе, что один из тех круглых мраморных шариков, какими играют дети, подвешен в яйце так, что диаметр шарика, изображающего землю, сливается с поперечным диаметром яйца, то яичная скорлупа будет изображать область, где на высоких горах лежат вечные снега. Под экватором гора должна быть огромной высоты, чтобы снег на ней мог удержаться до июля месяца.
Под экватором вечные снега лежат только на высоте пятнадцати тысяч футов, что и находит свое отображение в двух крайних точках яйца. В Швеции же мы находим вечные снега на высоте четырех или пяти тысяч футов.
Теперь вам должно быть понятно, до какой степени горы различной высоты влияют на температуру и линию дождей во Франции.
Отсюда явствует, что требуются различные сельскохозяйственные культуры - одни в районе № 1, где идут дожди весной и осенью, и другие - в районе № 2 (юг Франции), где дожди выпадают только летом.
Линия, разделяющая эти два района, установленные г-ном де Гаспареном*, проходит возле Парижа. Вот почему у нас такой изменчивый климат, способствующий тому, что к шестидесяти пяти годам мы становимся идиотами.
* (Де Гаспарен (1783-1862) - французский писатель и общественный деятель, специалист по вопросам сельского хозяйства; в период Июльской монархии некоторое время занимал пост министра внутренних дел и сельского хозяйства.)
Есть еще другая, очень любопытная линия, которая проходит тоже неподалеку от Парижа,- линия виноградников. Она тянется примерно от Нанта до Кобленца. Тщетно Италия, с ее жарким солнцем, пытается вырабатывать французские вина. Ей удается производить только испанские (слишком крепкие).
Бон, 12 мая.
Вторично проезжая через Дижон, я еще раз на полчаса зашел в музей. Здесь готовят выставку картин местных художников - картин, еще более напыщенных и ходульных, чем у нас в Париже. Об искусстве в провинции можно судить по литературным статьям в журнале "Revue des deux Bourgognes", который я сейчас купил в Дижоне. Одни только письма президента де Броса, опубликованные в нем, написаны чистым французским языком.
На улицах Дижона, по моему мнению, можно встретить людей двух различных пород: уроженцы Франш-Конте, высокие, стройные, медлительные в движениях, с тягучей речью,- это кимры; они представляют разительный контраст с гэлами, круглоголовыми, с веселым взглядом, часто попадавшимися мне здесь навстречу.
Счастливы те из дижонских художников, которые снискали благоволение парламентских кругов, составляющих местную аристократию. Говорят, что она отличается светлым умом.
Мимоходом я осмотрел большой зал бургундского парламента - Сен-Бенинь; свод у него вышиной в восемьдесят четыре фута, а флюгер на крыше находится на высоте в триста футов. На портале можно видеть барельеф Бушардона, изображающий мученическую смерть св. Стефана и напомнивший мне южный портал Собора Парижской богоматери. Собор богоматери в Дижоне построен в 1354 году; он готического стиля и богато орнаментирован. Я снова поднялся на высокую башню, постройка которой была начата в 1367 году Филиппом Отважным и закончена Карлом Смелым*. Последним я осмотрел дом Боссюэ; был ли он искренен?
* (Филипп Отважный (1342-1404) и Карл Смелый (1433-1477) - герцоги Бургундии.)
Во время поездки на почтовых я узнал любопытные эпизоды из жизни г-на Риуфа, бывшего префектом департамента Кот-д'Ор в 1802 году; он был другом моего отца. Известно, что его агония длилась тридцать шесть часов и что он выказал большое мужество. Этот префект, приятнейший человек, который, казалось, был создан, чтобы служить украшением самого избранного общества, осмеливался противоречить императору и наотрез отказывался исполнять распоряжения министров, если считал их несправедливыми. Поэтому его чуть было не сместили с должности в Дижоне, но несколько месяцев спустя император вновь вернул ему свою милость и назначил в Нанси.
Однажды префект узнает, что несколько телег с тифозными больными стоят у дверей больницы и никто не хочет перенести больных и уложить их в постель. Он бежит туда, собственноручно переносит нескольких больных - и через три дня умирает. Многие не смогут примириться с тем, что г-н Риуф не был ни важен, ни надут, ни лицемерен. Дижону повезло с префектами; после г-на Риуфа был назначен г-н Моле.
Дижон, с которым в умственном отношении может соперничать во Франции один только Гренобль, состоит из небольших домиков, построенных из маленьких квадратных камней; в них имеются только два этажа и небольшой третий. Такие постройки придают городу сельский вид. Жить в них более удобно, более здорово и т. д., чем в шестиэтажных домах, но все здесь лишено строгости и стиля: вы чувствуете себя в деревне. Мне захотелось снова посмотреть на прелестных маленьких монахов из мрамора величиной в десять дюймов; нередко их лица глубоко запрятаны под капюшонами (так же, как у статуй собора богоматери в Бру).
Обратимся теперь к метафизике. В Париже человек из общества не должен отличаться особым умом, чтобы разрешить себе презрительно отозваться об актере, способном лишь подражать жестам Берне (из "Варьете"), но этот же человек дает высокую оценку скульптору, бездарно копирующему греческие статуи. Происходит это оттого, что этот светский человек ничего не смыслит в скульптуре и прекрасно может судить о таланте Берне. Он мог бы сказать актеру: "Сударь, нужно копировать самую действительность, а не изящную копию действительности, которую дает нам Берне в "Проспере и Венсане"*.
* ("Проспер и Венсан" - водевиль Дювера, имевший большой успех (впервые представлен в 1833 году).)
В отношении же скульптуры светский человек занят лишь нелегкой задачей подыскивать фразы, приятные дамам, с которыми он пришел на выставку.
К тому же мрамор такой твердый! Так трудно с ним работать! Остается лишь повторять фразы, взятые из газеты.
В прошлом году я убедился в Лионе и Марселе, что человеку, целый день занятому спекуляцией перцем и шелками, книга, написанная простым стилем, непонятна; ему действительно необходимо найти к ней комментарии и разъяснения в своей газете. Он лучше воспринимает высокопарный стиль; неологизмы поражают его, забавляют и создают иллюзию красоты.
Чтобы здраво судить о совершенстве языка, не следует обращаться к шедеврам; гениальный автор вводит в заблуждение. На мой взгляд, совершенным французским языком написаны переводы, изданные около 1670 года отшельниками Пор-Рояля. Вот именно этот французский язык менее всего и понятен марсельским и лионским негоциантам; да к тому же они боялись бы себя опозорить, высказав одобрение тому, что, по их мнению, кажется простым. Акцизный чиновник Фильдинга встречается повсюду.
Люди, которых я проездом встречал на дорогах возле Дижона, небольшого роста, худощавы, вспыльчивы, румяны - по всем признакам видно, что доброе вино влияет на их темперамент. А для того, чтобы быть выдающимся человеком, недостаточно иметь умную голову, нужен еще пылкий темперамент.
Дижон, городок с тридцатью тысячами жителей, дал Франции Боссюэ, Бюффона, Кребильона, Пирона, Гитона де Морво, Рамо, президента де Броса, автора "Писем об Италии"*, и нашу современницу г-жу Ансело, тогда как Лион с его ста семьюдесятью тысячами жителей дал лишь Ампера и Лемонте**.
* (В 1836 году г-н Коломб выпустил прекрасное издание этой книги (у Левавассера). Этот добросовестный издатель поехал в Италию, чтобы на месте исправить текст президента де Броса, непонятным образом искаженный в первом (сокращенном) издании 1797 года.)
** (Лемонте (1762-1826) - политический деятель и историк умеренно-либеральных взглядов, автор ряда трудов по истории Франции.)
Выезжая из Дижона, я во все глаза смотрел на знаменитые холмы Кот-д'Ор, столь прославленные в Европе. Вспоминается стих:
Когда же умники бывают безобразны?
Не будь здесь превосходных вин, я бы нашел, что в мире нет ничего более безобразного, чем знаменитые холмы Кот-д'Ора. Согласно теории г-на Эли де Бомона*, это одна из первых горных цепей, образовавшихся на поверхности земного шара, когда земная кора начала охлаждаться.
* (Эли де Бомон (1798-1874) - современный Стендалю геолог, автор "Геологической карты Франции" и ряда работ по геологии.)
Итак, Кот-д'Ор - это невысокие горы с засушливой почвой и очень безобразные. Но повсюду виднеются здесь виноградные лозы с воткнутыми среди них колышками, и ежеминутно встречаешь названия, стяжавшие себе бессмертную славу: Шамбертен, Кло-Вужо, Романе, Сен-Жорж, Нюи. Такая слава в конце концов примиряет с Кот-д'Ором.
Генерал Биссон еще в бытность его полковником шел со своим полком на соединение с рейнской армией. Проходя мимо Кло-Вужо, он велел сделать остановку, скомандовал: "Налево развернутым флангом!" - и приказал отдать честь.
В то время как мой спутник рассказывал мне этот поучительнейший анекдот, я увидел обнесенный изгородью квадратный участок приблизительно в четыреста арпанов, с небольшим наклоном к югу. Мы подошли к деревянным воротам, на которых крупными безобразными буквами сделана надпись: "Кло-Вужо", Название это произошло от ручья Вуж, протекающего поблизости. Этот бессмертный участок, недавно приобретенный г-ном Агуадо у гг. Туртона и Равеля, принадлежал когда-то монахам аббатства Сито. Добрые отцы не продавали своего вина; они дарили то, чего сами не выпивали. Поэтому в те времена здесь полностью отсутствовал коммерческий расчет.
Сегодня вечером в Боне я имел честь присутствовать на длительной дискуссии: следует ли производить сбор винограда поперечными и параллельными дороге полосами или же вертикальными, идущими от дороги к вершине холма. Дегустировали вина 1832 года, выделанные по одному из этих способов, и вина, кажется, 1834 года, приготовленные по противоположному способу.
Каждый год имеет свои особые свойства, или, точнее, свойства эти последовательно меняются; например, вино 1830 года, простоявшее три года, то есть дегустированное в 1833 году, может оказаться более низкого качества, чем вино 1829 года, и превзойти его по качеству в 1836 году, когда простоит шесть лет.
В конце беседы, продолжавшейся более двух часов, я действительно начал разбираться в различном качестве вин. Всем известно вино кометы, возвестившей о падении Наполеона в 1811 году; каждые пять - шесть лет бывают вина особо высокого качества.
Вина этих краев пьют большей частью в Бельгии. Владельцу Кло-Вужо нетрудно обмануть своих покупателей: ему стоит только воспользоваться для удобрения виноградника лошадиным пометом,- урожай будет гораздо богаче, но вино получится более низкого качества. Бутылка Кло-Вужо, которая продается в парижских ресторанах за десять франков, на месте вовсе не продается; вы можете ее получить, лишь в виде исключительной любезности, за пятнадцать франков. Однако следует признать: ничто не может сравниться с такой бутылкой вина. Это вино не особенно вкусно первый, а часто и второй год; поэтому владельцы Кло-Вужо всегда имеют в запасе около ста тысяч бутылок.
Поэзия, с ее ласкающими слух преувеличениями, избрала эту тему, столь любезную сердцу бургундцев. Сегодня вечером, в порыве энтузиазма, наш корреспондент из Бона обещал распить со мной бутылку вина Кло-Вужо времен аббатства Сито. Но можно ли поверить, что эта бутылка - продукт седой старины, если уже через двенадцать - пятнадцать лет вино начинает портиться?
Во времена монахов, тонких ценителей, не торговавших своим вином, участок этот давал меньше и вина были лучшего качества; но в наши дни как устоять перед искушением слегка удобрить виноградник навозом, если бутылку вина можно продать по пятнадцать франков? Правда, сборщиков винограда кормят прекрасными обедами и особенно блюдами, к которым они не привыкли, чтобы у них даже и в мыслях не было есть виноград.
Вина Нюи прославились со времени болезни Людовика XIV в 1680 году. Врачи предписали королю старое вино Нюи для восстановления сил. Это предписание Фагона* создало городок Нюи.
* (Фагон (1638-1718) - французский ботаник, придворный врач Людовика XIV.)
Я узнал, выражаясь точно, что цепь Кот-д'Ор кончается в Боне. Прекрасные вина этого края приобрели с 1830 года еще одно достоинство: за столом бургундцы только и делают, что сравнивают их качества, обсуждают их недостатки и преимущества, чем совершенно изгоняются скучнейшие разговоры о политике, которые отличаются в провинции такой грубостью.
В Боне почва известковая. Вдоль крепостного вала провели прелестный бульвар, и речонка Ла Буржуаз, очень прозрачная и полная высоких зеленых трав, плывущих по воде, пересекает город. Во дворе богадельни сохранились любопытные остатки готической архитектуры. Эту богадельню основал в 1443 году Никола Роллен, канцлер Филиппа, герцога Бургундского.
"Только справедливо, - сказал как-то Людовик XI,- что Роллен, который пустил по миру стольких людей, выстроил для них богадельню".
Неприязнь жителей Шомона к жителям Лангра ничто по сравнению с враждебностью дижонцев к жителям Бона. Если верить дижонцам, можно отупеть от одного воздуха Бона; все наперебой рассказывают о глупости бонцев. Прочтите "Путешествие в Бон" Пирона. Пирон после того, как он в течение двух лет насмехался над бойцами, имел дерзость приехать в Бон. Он понимал, что это ему дорого обойдется, если судить по его же собственным словам*. Он пошел в театр. Его узнали в партере, молодые люди поднялись на подмостки и стали осыпать его бранью. С большим трудом начали спектакль. Представление закончилось бы без особых помех, если бы один молодой бонец, которому надоели злобные выходки против Пирона, не крикнул: "Да замолчите же! Ничего не слышно!" "Но не из-за отсутствия ушей!" - отозвался Пирон. Этому ответу нельзя отказать в смелости. Все зрители бросились на Пирона; ему удалось выбраться из зала, но его преследовали на улицах, нанося удары шпагами и палками. Возможно, он бы погиб, но какой-то местный житель великодушно открыл ему свои двери и приютил его у себя.
* (Собрание Ла-Мезанжера, т. I, стр. 149.)
Пирон сочинил на жителей этого несчастного города массу эпиграмм, а дижонцы наперебой вторили ему. Всякая игра слов, в которой дурак сравнивался с ослом, повторялась до тошноты. Бойцам же не хватало ума, чтобы написать или заказать в Париже хотя бы одну хорошую эпиграмму на дижонцев.
Несколько лет тому назад один писатель, человек неглупый, поселился в Боне. Местные жители испугались, как бы он не стал смеяться над ними, и ему пришлось, как рассказывают, продать свой домик с садом и устроиться в десяти лье от города.
Однажды, приблизительно в 1803 году, бонцы нашли в русле своей речки Ла Буржуаз большое количество древних золотых монет. Говорят, их было на двадцать тысяч франков. Один коллекционер предложил купить золото по весу, но жители Бона ответили, что они предпочитают расплавить монеты.
Бон дал стране сенатора Монжа. По правде сказать, он не отличался умом, это был просто одаренный человек, с которым Наполеон любил побеседовать, когда к тому представлялся случай. Мой приятель из Бона был, как мне показалось, очень обижен насмешками над его городом.
- Пусть муниципальный совет Бона,- сказал я ему,- освободит от причитающихся ему процентов часть налоговых отчислений в шесть франков и ниже в тех случаях, когда налогоплательщик сумеет доказать, что он и его дети грамотны. Все газеты отметят такую оригинальную меру, и дурная слава города мало-помалу забудется.
Когда я в прошлый раз ехал в Шомон, я проезжал мимо Поммара, Вольне и Мёрсо. Но только теперь я узнал скрытую от всех причину богатства этих прославленных мест - они производят белое вино, обладающее следующим свойством: когда его примешивают к красным винам, оно придает им крепость, не ухудшая качества.
Мне рекомендовали посмотреть знаменитую колонну Кюсси близ Ноле - родины Карно*. Однако для этого пришлось бы ехать по проселочной дороге,- почтовая карета тут не ходит, и местные жители, как говорят, злоупотребляют положением путника, который всецело от них зависит. Я воздержался от этой поездки.
* (Карно (1753-1823) - государственный деятель Французской революции, осуществлявший высшее руководство военными действиями французской армии с 1793 года.)
На живописной маленькой равнине, окруженной со всех сторон горами, посреди возделанных полей, возвышается колонна. От нее сохранилось только двенадцать каменных глыб. Капитель колонны была перенесена на ферму Одене; в ней продолбили отверстие и сделали из нее верхний край колодца. Он имеет двадцать один дюйм в высоту.
Колонна была, вероятно, воздвигнута в честь какой-нибудь победы, и ее пьедестал украшен восемью фигурами в виде барельефов, размещенных в слегка углубленных нишах. Первая - это фигура Геркулеса, вторая - фигура пленника: он одет в галльский sagum (блузу), и руки его закованы в цепи. Осматривая колонну со всех сторон, видишь Минерву, Юнону, Юпитера и рядом с ним Ганимеда; седьмая фигура стерлась, восьмая - это нимфа.
Архитектурный стиль этой колонны указывает, что она относится ко временам Диоклетиана. Раскопки в долине, где она водружена, обнаружили множество человеческих костей, из чего можно заключить, что колонна является памятником в честь победы и была воздвигнута на поле битвы. Официальная запись, которую здесь дают для обозрения, удостоверяет, что когда-то было найдено вокруг колонны большое количество скелетов, таким образом расположенных, что все черепа касались фундамента колонны.
Я имел возможность убедиться во время этой поездки, что сейчас крестьяне уже не питают личной ненависти к карлистам. Последние поселились среди них и приносят им пользу. Женщины легитимистской партии необычайно добры к крестьянам; их бы просто обожали, если бы они порой не поддерживали священника, который далеко не всегда является образцом здравого смысла и терпимости. После "миллиарда" г-на Виллеля крестьяне перестали бояться возвращения прежним собственникам национализированных земель. Я утверждаю, что Франция с удовлетворением приняла бы разумную реформу католической церкви. Если бы г-ну де Ламенне* было тридцать лет и у него были здоровые легкие, он мог бы создать себе положение, удовлетворяющее его тщеславие. В будущем каждому священнику надлежало бы познакомиться с сельскохозяйственной наукой, хотя бы в небольшом объеме, и кражу у соседа следовало бы считать грехом более тяжким, чем непосещение воскресной обедни.
* (Ламенне (1782-1854) - философ и богослов, предложивший в 1832 году реформу церкви в духе либерального католичества.)
Из Бона я очень хорошо видел Монблан.
Шалон на Соне, 14 мая.
Дело, которое привело меня в Отен, потребовало не более двух часов, но я доставил себе удовольствие провести там полдня, любуясь замечательнейшими памятниками старины. Какая благородная простота! Античное искусство, даже времен Диоклетиана, возвышает душу, и она преисполняется безмятежностью, той подлинной добродетелью, когда человек готов на всякую жертву. Но кто в наши дни чувствует прелесть простоты?
Если в Париже найдется какой-нибудь бедный юноша, испытывающий отвращение к водевилю и ту безотчетную склонность, родственную глупости, которая заставляет восхищаться прекрасной архитектурой, пусть он приедет в Отен, если не может добраться до Нима. Глядя на две почти полностью уцелевшие триумфальные арки, он поймет, почему питает отвращение ко всем постройкам в галло-греческом стиле, которые в официальных изданиях называют великолепными.
Тридцать лет тому назад в Опере аплодировали Лене, в наши дни аплодируют г-ну Дюпре*. Пятьдесят лет тому назад строили склад для хранения мебели (это здание будет приемлемо, лишь когда оно превратится в развалины), в наши дни строят церковь св. Магдалины. Безусловно, это прогресс. Сделаем, однако, еще один шаг вперед: когда потребуется маленькая церковь, решимся взять за образец какой-нибудь афинский храм, или римский Пантеон, или по крайней мере Квадратный Дом. Но такую церковь подавила бы высота наших домов.
* (Дюпре (1806-1896) - знаменитый французский певец.)
В Отене какой контраст! Храбрый галл, преисполненный гнева против римских воинов Цезаря,- и буржуа, стоящий в штатском платье на часах у Арруйских ворот!
И, тем не менее, предок в шестидесятом колене этого жалкого буржуа был галл, гражданин города Бибракты! Вот, несомненно, блистательный результат нашей цивилизации! Теперь создаются диорамы и строятся железные дороги; превосходно отливают с натуры птиц и растения; в двадцать один час парижанин добирается до Марселя; но что за человек этот парижанин?
Оберегая нас от каждодневных опасностей, славные жандармы лишают нас половины нашей подлинной ценности. Как только человек освобождается от жестокого гнета насущных потребностей, как только его оплошность не наказывается смертью, он теряет способность правильно рассуждать и тем более желать.
Вчера я имел дело с одним молодым адвокатом из Макона. Принадлежащий ему дом приносит пять тысяч франков дохода, и зарабатывает он десять тысяч. Ему всего тридцать лет. Он надеется умереть пэром Франции и оставить миллионное состояние. И все же он жаловался на свою судьбу, а я ему доказывал, что он самый счастливый человек во Франции. Он деятелен; если бы наши государственные учреждения были более мощны, он стал бы Фоксом или Питтом. Во времена императора он был бы государственным советником, подобно г-ну Шабану, и управлял бы Гамбургским округом.
Но если не случится чудо, чем может стать молодой человек, родившийся с рентой в восемьдесят тысяч франков, да еще, с вашего разрешения, титулованный? При Наполеоне он был бы по крайней мере вынужден стать сублейтенантом или состоять в личной охране императора.
Насколько Отен, из которого я сегодня утром сбежал, мертв, настолько Шалон деятелен, молод и полон жизни. Это - морская деятельность, предвестие Марселя. В городе множество пятиэтажных гостиниц, где бесцеремонно обращаются "с рыбой, раз она попалась в сеть". Так выразился мой сосед по табльдоту, услышав мои жалобы.
- Увы, милостивый государь,- ответил я ему,- это совсем как в Париже.
Содержатель кафе готов "выбросить" сто тысяч франков на его отделку, во ему и в ум не придет платить полторы тысячи франков венецианцу, ученику Флариана, который умеет приготовить чашку кофе.
На всех этих шалонских гостиницах - чрезвычайно неуютных - красуются огромные вывески.
Я осмотрел красивую античную колонну из гранита на одной из площадей, а также готический собор конца XIII столетия.
Шалон - один из самых коммерческих городов Франции. Человек деятельный, не рискуя, получает здесь пятнадцать процентов со своего капитала.
Я встретил в Шалоне г-на Д., одного из лучших экономистов Франции, который приехал из Безансона. Всю жизнь я останавливался в Безансоне исключительно ради своих дел. Но всякий раз как я отправлялся по делам или возвращался к себе в гостиницу, я заходил в одну церковь, вернее сказать, в собор, где находится великолепный "Святой Себастьян" Фра Барто-ломео. Напротив висит "Смерть Сафиры", картина талантливого колориста Себастьяно дель Пьомбо.
Иногда Микеланджело снабжал его рисунками, желая подшутить над учениками Рафаэля. Этот великий художник, которому покровительствовал его дядя Браманте, первейший интриган, добился весьма серьезных преимуществ над Микеланджело. Вспомним старика Корнеля, которого затмил нежный Расин.
Часть Безансонского моста построена римлянами. Все дома из прекрасного тесаного камня. Мне доставляло удовольствие посещать палаццо Гранвелла.
"Безансон,- сказал мне г-н Д.,- еще и теперь испанский город, суровый и подлинно католический".
Нужно это иметь в виду, чтобы почувствовать всю прелесть анекдота, рассказанного мне г-ном Д. Это история борьбы высших властей департамента с двумя девицами, излишне любезными и находившимися под высоким покровительством, которые пожелали поселиться в городе. Случай этот очень забавен, но слишком еще памятен всем. Безансон обожает своего префекта г-на Туранжена.
На пароходе, 15 мая.
Я решился на поступок, который навсегда опозорил бы меня в глазах моего благоразумного тестя, если бы он о нем узнал. Мне наскучил мой камердинер, как выразился бы истый аристократ, и я отправил его в Лион в своей коляске, а сам сел на пароход, взяв с собой лишь свой плащ и толстый том Шекспира в издании Бодри. Жозеф, несмотря на всю свою почтительность, которой я от него, безусловно, требую, смотрит на меня многозначительно. Он не сомневается, что его благоразумный патрон затеял какую-нибудь любовную интрижку. Дай-то бог!
Я бы хотел без памяти влюбиться и быть любимым хотя бы самой безобразной крестьянкой на пароходе! Этим многое сказано.
Но, увы, я сел на пароход только потому, что слыхал (от нашего корреспондента, о котором я недавно упоминал, того самого, что имел в 1830 году десять тысяч франков, а в 1837 году - больше двухсот тысяч), будто берега Соны похожи на берега Гвадалквивира и что между Треву и Лионом они очаровательны.
В отношении красоты каждый человек имеет собственное мерило: то, что прекрасно для моего соседа, на мой взгляд, может быть очень заурядно; то, что, по моему мнению, прекрасно, в его глазах несуразно. Я очень подозрительно отношусь к такого рода сведениям, особенно если получил их от француза. У нас называют прекрасным то, что похвалили в газете или что выгодно и приносит много денег.
После Шалона (купол больницы, построенной в 1528 году, производит издали приятное впечатление) пароход движется вдоль огромных лугов, слишком часто заливаемых водами Соны - реки, которая кажется погруженной в дремоту. Ее воды напоминают мне чудесные истоки реки Ду; я видел, как они бьют из скалы.
В Маконе красивая набережная, служащая местом прогулок для хорошего общества. Мы видели там прирученную львицу, которую один молодой офицер привез из Африки. Эта война просто замечательна, и нельзя сказать, чтобы она нам дорого обошлась - всего двадцать миллионов в год. Она показала русским, чего мы еще стоим, и выдвинула таких генералов, достойных уважения нации, как Дювивье и Ламорисьер.
Макон гордится своим огромным мостом - длинным, массивным и, безусловно, очень полезным, но мало привлекательным с виду. Этот мост ведет в один из самых отсталых и любопытных уголков Франции - в Домб.
Крестьяне там отличаются тупостью, и половину года их трясет лихорадка. Чтобы извлечь доход из земли, ее запружают водой в течение семи лет подряд, что дает много рыбы. Потом воду спускают и снимают без удобрений три или четыре прекрасных урожая. Пять шестых населения Домба верит в колдунов, и раз в три или четыре года там совершается какое-нибудь чудо. Такое невежество простого народа очень по душе некоторым людям, которые и без меня известны читателю. Когда я довольно неосторожно сказал, что Франции следовало бы отпускать ежегодно по двадцать тысяч франков на содержание в этом несчастном крае учителей, которые обучили бы народ грамоте и искоренили веру в колдунов, г-н де М. воскликнул не без горячности: "Упаси нас боже от этого, сударь!".
Что касается меня, то я сужу о политической морали человека по большей или меньшей ненависти его к просвещению. В районах передовых, где, чтобы сохранить свое положение, уже не осмеливаются проявлять ненависть к просвещению, довольствуются тем, что ненавидят ум и покровительствуют ученым. Еще одна неосторожность. Обо мне скажут, что я злой и испорченный человек; увы, я ежедневно убеждаюсь в противном.
Мы быстро проплываем мимо Турню - красивого городка на правом берегу Соны.

Никола-Мари-Жозеф Шапюи. Берега Соны. Рисунок с натуры. 1835. Литография П.Лаутерса
Господин де М., тот самый, что возражает против просвещения, которое, по моему мнению, необходимо распространять среди крестьян Домба, прекрасно знает этот край, так как он сам из этих мест. Это сухой, точный, но довольно изощренный ум. Он предпочитает больше говорить о физических и исторических особенностях этого края, чем о его духовной жизни. От него я узнал, что в Турню, так же как в Шалоне, имеется античная колонна, извлеченная из Соны несколько лет тому назад.
В беседе г-н де М. исполнен изысканной вежливости, по которой я мог бы легко угадать, каковы его политические убеждения, даже если бы он не выдал себя выпадом против школьных учителей. Я стараюсь, как могу, не задевать его убеждений и спустя некоторое время решаюсь задать ему несколько вопросов относительно аббатства Турню, которое отлично видно с парохода.
- Это аббатство, носящее имя св. Филиберта,- ответил он,- было основано в IX веке. Оно дважды было разрушено: в первый раз в конце X века - венграми, затем около 1006 года - пожаром. Теперь аббатство св. Филиберта,- добавил мой любезный собеседник,- имеет форму латинского креста. Внутри достойны внимания только толстенные, очень низенькие столбы, имеющие в диаметре восемь футов.
- Романская архитектура.
- Таково ваше мнение, сударь? Я его не разделяю. Тем не менее, будучи великодушным противником, я сообщу вам данные, которые могут его подтвердить, добавлю, что окна там маленькие, узкие и закругленные сверху. Нет ничего более массивного, более тяжелого и прочного, чем основные части этой церкви, причем хоры не лишены изящества и напоминают архитектуру XII века.
- Насколько могу разобраться, я сказал бы, наоборот, что хоры готического стиля и сооружены после 1200 года.
- Об этом мы еще горячо и крепко поспорим,- улыбаясь, возразил г-н де М. - Однако, чтобы закончить описание, скажу, что портал - уродливейшее сооружение XVIII века.
Спор был долгим и очень интересным. После того как мы высказали друг другу приблизительно все, что каждый из нас знал относительно различных архитектурных стилей, предшествующих Ренессансу 1500 года, мне показалось, что впереди маячит нудный разговор о политике, поэтому, попрощавшись с моим вежливым собеседником, я спустился к себе в каюту. Скользя среди лугов по этой прекрасной реке, я с наслаждением прочел двадцать страниц Шекспира. Кругом высились очаровательные холмы; край этот полон сладостной и нежной прелести, от которой становится легко на душе. С тех пор как я покинул Париж, это первый ландшафт, стоящий внимания. Высокие восемнадцатилетние девушки резвились на берегу.
Когда мы проезжали мимо Макона, кто-то во всеуслышание рассказал о случае с хозяйкой постоялого двора "Дикий бык" (о пожаре, спалившем комнату, из которой исчез молодой приезжий). Тогда же я услышал знаменитую остроту, которая прославила этот край в отместку за мнимое превосходство Парижа.
Кто-то упомянул о Соне в присутствии парижанина, который, гуляя по прелестной маконской набережной, разыгрывал из себя снисходительного ученого.
- Мы в Париже это называем Сеной,- сказал он, улыбаясь.
- Как видно, парижанин полагал,- язвительно добавил маконец,- что на свете существует только одна река.
Вид Треву, расположенного амфитеатром на левом берегу Соны, очень приятен. Это один из городков, о которых говорит Лабрюйер. Со стороны кажется, что здесь с удовольствием можно было бы провести полтора месяца, но люди, которые в нем живут, горят желанием отсюда уехать. 19 февраля 197 года*, по Р. X., здесь разыгралась кровавая битва, решившая, кто будет властителем мира - великий и жестокий император Септимий Север или мятежник Альбин; судьба дала победу более достойному.
* (В 197 году под Tres Viae (древнее название Треву) император Септимий Север разбил мятежные войска, возглавленные Альбиной. Альбина, провозгласившего себя цезарем, он казнил и его голову на страх сенаторам, способствовавшим его возвышению, отослал в Рим.)
Лион, 15 мая 1837 г.
Я приказал высадить себя, не доезжая острова Барб, который соединяется теперь с берегом решетчатым мостом. Честное слово, г-н С. меня не обманул. Берега Соны в двух лье выше Лиона живописны, своеобразны и очень привлекательны. Они напоминают мне самые красивые итальянские холмы - холмы Дезенцано*, прославленные сражением, которое Наполеон, невзирая на предостережения искуснейших генералов своей армии, дал там маршалу Вурмзеру. На холмистых берегах Соны лионские "каню" выстроили себе загородные дома, такие же несуразные, как и их представление о красоте. В каком бы стиле эти дома ни были построены, они все во вкусе времен Людовика XV, но природная красота этого края берет верх над всеми этими китайскими павильонами, которыми стремились его украсить. Эти очаровательные скалы, покрытые лесами, словно низвергнутые в Сону, заставляют ее делать резкие повороты.
* (...холмы Дезенцано, прославленные сражением...- Во время первого итальянского похода 1796 года, в сражении под Кастильоне, поблизости от Дезенцано, Наполеон разбил австрийскую армию под командованием Вурмзера.)
Какой-то негоциант, ехавший с нами на пароходе,- человек с красивым, но маловыразительным лицом, высокопарный и отличающийся пылким патриотизмом,- любезно называл загородные виллы, мимо которых мы проезжали: "Дикарка", "Душечка", "Красотка", "Башня красавицы-немки" (он рассказал историю, весьма обыкновенную в наши дни, - самоубийство из-за любви), "Маленькая Клер", "Безмятежная", и т. д., и т. д.
Думается мне, что где-то поблизости от этого края, носящего название Невиль, жила в небольшом поместье женщина, которую я уважаю больше всех на свете*. Она думала спокойно провести там остаток своих дней, когда революция призвала вершить делами всех способных людей, и министры, подобные г-ну Ролану, заменили таких министров, как г-н де Калонн**.
* (...женщина, которую я уважаю больше всех на свете.- Имеется в виду г-жа Ролан (1754-1793), деятельница партии жирондистов, окончившая свою жизнь на гильотине. Ее мемуары Стендаль ценил очень высоко.)
** (Де Калонн (1734-1802) - генеральный контролер финансов при Людовике XVI.)
Я провел два очень приятных, скажу, не стыдясь, два восхитительных часа, блуждая по дорогам и тропинкам вдоль Соны. Я погрузился в размышления о героических временах, когда жила г-жа Ролан. Мы были тогда так же сильны духом, как первые римляне. Идя на смерть, она поцеловала всех узников своей камеры, ставших ее друзьями.
Один из них, г-н Р., заливался слезами, рассказывая мне это.
"Что с вами, Ребуль, вы плачете, мой друг? - сказала она.- Какое малодушие!" Сама она была оживлена, смеялась; священный огонь сверкал в ее глазах.
"Вот видите, друг мой,- обратилась она к другому узнику,- я умру за родину, за свободу. Ведь о такой смерти мы всегда мечтали".
Пройдет много времени, пока снова появится такая душа!
На смену женщине такой моральной силы пришли дамы Империи, плакавшие, возвращаясь из Сен-Клу в своих колясках, если император неодобрительно отозвался об их платьях; их сменили дамы Реставрации, которые бывали на мессе в Сакре-Кер, чтобы добыть место префекта своим мужьям, и наконец дамы "золотой середины" - образцы естественности и любезности. После г-жи Ролан история знает только г-жу де Лавалет* и герцогиню Беррийскую**.
* (Г-жа де Лавалет, урожд. Богарне,- жена французского политического деятеля графа Антуана де Лавалета (1769-1830). Лавалет, примкнувший к Наполеону во время "Ста дней", был обвинен в государственной измене и приговорен к казни. Проникнув к нему в тюрьму накануне казни, г-жа де Лавалет обменялась с ним платьем и осталась в его камере, дав ему возможность бежать. Впоследствии она сошла с ума.)
** (Герцогиня Беррийская - жена второго сына Карла X, пытавшаяся в 1832 году поднять восстание в Вандее в пользу Карла X и своего сына графа де Шамбора.)
В IV книге своей "Исповеди" Руссо рассказывает о ночи, проведенной им на открытом воздухе на берегу Соны; наутро ему повстречался некий Ролишон, который, услышав, как Руссо пел кантату Баттистини, пригласил его к себе переписывать ноты, накормил и снабдил на дорогу деньгами.
Следуя по очаровательным тенистым холмам, тянущимся вдоль Соны, я не пропускал ни одной рощицы, которая казалась мне живописно расположенной. Я думал о ночи, которую провел здесь, под открытым небом, Жан-Жак Руссо в воротах какого-то сада. Столько лет не перечитывал я этого места из "Исповеди", а между тем припомнил почти каждое слово того, кого так ненавидят черствые души. Бесспорно, он иногда высокопарен, но только в тех случаях, когда он не находится во власти своего сюжета. Писатели же, неспособные к нежным чувствам - Вольтер, Бюффон, Дюкло,- тщетно терзали бы свой ум, чтобы описать такую ночь, проведенную у садовой калитки под сенью ветвей дикого винограда. Читатели через две недели не помнили бы такого рассказа и даже возможно, что сочли бы его "эготическим". По тем же тропинкам, по которым я шел, бродил когда-то Жан-Жак Руссо, повторяя свою Батистинскую кантату, за которую его на следующий день угостили хорошим обедом. Это был последний раз, когда у него не было хлеба.
Добравшись, наконец пешком до Лиона, я заметил, что вызываю презрение даже у мальчишки, которому я уплатил, чтобы он донес мой плащ и томик Шекспира. Я оскорбляю местное божество - деньги: у меня вид бедняка.
Когда я сказал мальчишке, что хочу остановиться в гостинице "Жуванс", рядом с почтой, он возразил, растягивая слова:
- Простите, сударь, но это очень дорогая гостиница!
Мне кажется, что, если бы не мой удивленный взгляд, он бы закончил свою мысль: "Очень дорогая для вас".
И вот я в гостинице и записываю все это в роскошном номере, обитом темно-красным шелком с золоченым багетом. Половина стен этой комнаты покрыта деревянной обшивкой, которая выкрашена в белый цвет, отливающий голубым, и отлакирована, что придает ей унылый и в то же время грязный вид. Я хожу по хорошо начищенному паркету из квадратных, образующих сложный рисунок дощечек, название которых я позабыл и которые скрипят под ногами. Матерчатые обои моей комнаты окружены золоченым багетом (правда, поломанным и потускневшим в двадцати местах). Однако, когда я попросил повесить над кроватью кисейный полог, чтобы спастись от комаров, мешающих спать, слуга самодовольно усмехнулся и ответил со всем присущим лионцам высокомерием, что гостиница не держит таких вещей и что никто никогда их еще не требовал. Мое сердце сжимается от убожества и ничтожной глупости этой поддельной роскоши, этой цивилизации, не достигающей цели. Мне кажется, что я присутствую на обсуждении в голландской Палате депутатов вопроса о железных дорогах или таможенных пошлинах.
Невозможно, чтобы в таком городе, как Лион, с его ста шестьюдесятью шестью тысячами жителей не нашлось нескольких действительно достойных людей, но я их никогда не встречал и заранее прошу их извинить меня за все нижеследующее.
Я приезжал в Лион пять или шесть раз, всегда в почтовой карете; занят я был исключительно делами и даже не располагал временем, чтобы посетить музей на площади Терро.
Каждый раз при выходе из кареты меня встречал г-н К., кузен моего тестя. Он как две капли воды походит на Баррема, на разобиженного Баррема, только что потерявшего двадцать франков. Нужно было видеть, с каким беспокойством этот лионский кузен бросался мне навстречу и не давал мне произнести ни слова как раз в ту минуту, когда я просил служащего почтовой станции взять мой чемодан и отнести его к моему родственнику. Он боялся, что я слишком дорого заплачу за эту маленькую услугу.
"Вы за это получите двенадцать су",- говорил он служащему станции с дрожью в голосе. Его физиономия становилась еще более сердитой. Служащий не соглашался и чуть ли не отвечал ему грубостями. Должен признаться в своей слабости: с этой минуты ничто не доставляло мне удовольствия в Лионе; я мечтал лишь о том, чтобы скорей оттуда уехать.
Сегодня г-н К. начал с того, что заговорил о законах против роскоши, запрещающих тунисцам с 1830 года ношение богатой одежды и причинивших непоправимый ущерб его торговле. И тут он скорчил отчаянную гримасу. Г-н К., очень почтенный, порядочный человек, прекрасный отец семейства, в срок платящий все налоги,- но, боже мой, какая физиономия! Так же, как и все коммерсанты, его коллеги, он пользуется рабочими, которые ткут шелк у себя на дому и которых прозвали "каню". А я так называю и самих коммерсантов. Все, что порождается мелкой торговлей, требующей в первую очередь терпения, постоянного внимания к мелочам, привычки расходовать меньше, чем зарабатываешь, боязнь всего необычного, то есть глупость себялюбца, убожество, горечь, скрываемая из страха потерять заработок,- все это выражено, по моему мнению, в слове "каню".
Сами лионцы присвоили это прозвище беднейшим слоям населения своего города. Однако в местностях, где тщеславие не возводит непреодолимых преград, как в Париже, простой народ оказывает воздействие на Душевный склад высших классов. Совокупность привычек и суждений, восхищающих вас у вашего ребенка,- то, что вы называете его характером, почерпнуты им прежде всего от кормилицы, а позднее от общения со слугами. Обратите внимание, что ваш ребенок всегда раб в вашем присутствии, со слугами же он чувствует себя равным, больше того, обретает превосходство. Меж тем никто так сильно, как ребенок, не ценит своего превосходства. Поэтому взгляните, с какой искренней радостью семилетний мальчуган бежит в переднюю или в конюшню, как только может вырваться на свободу. Самые снисходительные родители вынуждены категорически это запретить.
Французская революция оказала благотворное влияние на нравственный облик слуг. Многие из них служили в солдатах, другие уважают эту благородную профессию. С недавних пор сберегательные кассы внушили им разумные привычки. Поэтому детям не приходится слышать все те пошлости, которые портили наше детство двадцать пять лет тому назад. Порой мне приходит в голову какая-нибудь ходячая фраза, выражающая абсурднейшую мысль; копаясь в памяти, я вспоминаю, что слышал ее от Барбье, любимого лакея моего отца.
Чтобы представить себе умственный кругозор лисица, нужно прислушаться к болтовне коммерсантов в кафе. Отыщите в Лионе человека, который сыграет с вами партию в домино.
Лионские девушки беднейших слоев населения высоки ростом и прекрасно сложены, в Париже они не выше четырех футов.
Лион, 16 мая.
Я зашел в богадельню, которая располагает большими средствами и, говорят, хорошо управляется. Я увидел там палаты в тридцать футов высоты, благодаря чему в них очень хороший воздух. Туда принимают всех бедняков, не требуя от них никаких справок о нуждаемости, как в парижском "Отель-Дье". Имеются палаты, куда допускаются те, которые платят по тридцать су в день. Я зашел в одну из таких палат навестить старого товарища, впавшего в нужду. Он сказал мне, что чувствует себя здесь очень хорошо. Люди, платящие по тридцать су, могут выходить из богадельни, когда им вздумается. Здешняя аптека - лучшая в Лионе; она настолько лучше других, что богатые люди, заболев, посылают туда за лекарствами. Доход богадельни равняется восьмистам тысячам франков в год, не считая сумм, отпускаемых ей городом. Богатеют ли там начальствующие лица?
На лионских улицах не толпятся распевающие песни бедняки, чего я опасался. Всех, кто не является уроженцем этого города, выслали оттуда.
Вспомните финансовые затруднения Соединенных Штатов. В 1836 году Франция отправила в Америку ценностей на 159 миллионов, из которых немало миллионов дал Лион.
Господин Н. (человек довольно глупый) говорил вчера в моем присутствии: "Знаете, в Париже я никогда не хожу пешком. А вот в Лионе я бы не решился показаться в своей карете". Чего же он боится?
Вообще же лионцы не лишены некоторых благородных черт. Лионец, оставивший торговлю, когда рента его достигла шести тысяч франков, принимает важный вид и шествует, высоко подняв голову, величественно поглядывая на окружающих. Мне это напоминает портреты времен Людовика XV. Вместе с тем у лионца физиономия человека, у которого дурное настроение вечером, потому что утром он упустил случай заработать двенадцать су. Иногда я встречаю такие лица и на улицах Парижа; бьюсь об заклад, что это лионцы.
Простота - этот идеал парижанина, к которому он с такими усилиями стремится всю жизнь,- показалась бы лионцу чем-то низменным и недостойным.
Но ничего не поделаешь: здесь, как и всюду, положение обязывает. Во время замечательной защиты своего города в 1793 году лионская национальная гвардия потеряла тысячу двести человек* (в Лионе говорят, что пятнадцать тысяч). Правда, что командирами было множество офицеров-эмигрантов и храбрый Преси. Начальники умели вести бой, а солдаты были полны энтузиазма. Вот прекрасная черта характера лионца: он способен заражаться энтузиазмом,, который может не угасать иной раз и два месяца. В Париже горят энтузиазмом не более шести часов, как это было, например, когда Наполеон показал национальной гвардии своего сына в большом зале Тюильрийского дворца.
* (...лионская национальная гвардия потеряла тысячу двести человек...- В 1793 году в Лионе вспыхнуло восстание роялистов. После двухмесячной осады Лион был взят революционными войсками, и восстание было подавлено. Граф Преси руководил восставшими лионцами и после сдачи города бежал в Швейцарию.)
Национальная гвардия Лиона не уступает, по моему мнению, национальной гвардии Вены, выставившей дважды (в 1797 и 1809 годах) отряды волонтеров, которые через шесть недель после их сформирования поголовно были перебиты французской армией. Во время кампании 1809 года на берегах Трауна венские волонтеры, умирая под картечью маршала Массены, падали одни вперед, а другие назад, причем извилистая линия, образованная их форменными и весьма достопримечательными сапогами, была не более восьми футов шириной. Человек, имевший орденскую звезду, был там капралом, и, больше того, он жертвовал своей жизнью.
Я часто бывал по своим делам в Лионе; как только я попадал в этот город, меня одолевала зевота, и самое прекрасное, что в нем есть, не производило на меня никакого впечатления. Правда, я всегда останавливался у моего несносного кузена на улице Серебряный вьюк. Теперь я в первый раз решился остановиться в гостинице.
Однако, прошу прощения у достойнейших людей этого края, чувство скуки оказалось сильнее. Я с удовольствием закрыл бы глаза, ибо все, что я здесь вижу, усиливает мое отвращение, доходящее до злобы,- все, вплоть до формы железных решеток на балконах, которые мне противны вычурностью и тяжеловесностью своих линий. Мне приходится делать над собой усилие, чтобы восхищаться набережной Сен-Клер на Роне, да и то я не восхищаюсь ею, а просто признаю, что она достойна восхищения.
Как-то раз в молодые годы, одолеваемый отвращением и располагая часом свободного времени, я зашел в книжную лавку, чтобы купить книгу; я чувствовал такую апатию, что даже не знал, какую книгу спросить, наконец я наудачу назвал "Жака-Фаталиста" и романы Вольтера. Торговец попятился от меня, сделался мрачен и прочел мне нотацию о безнравственности книг, которые я просил, В заключение он предложил мне "Созерцание природы" аббата Плюша*. Сначала меня рассердила дерзость этого непрошеного советчика, но он читал мне наставление с таким видом настоящего "каню", был настолько туп и важен, что мне в конце концов стало смешно, Я хотел проверить, не действует ли он из коммерческих соображений: быть может, в его лавке имелась книга Плюша и не было романов Вольтера. Так нет же, он их тоже имел, злодей! Торговец просто нашел, что я очень молод, и ни за что не хотел мне их продать. Вечером я рассказал об этом случае своему кузену К. Он покраснел, стал утверждать, что я преувеличиваю; одним словом, его муниципальная честь была задета, и он за целый вечер ни разу не обратился ко мне. Я воочию убедился еще в одной приятной черте характера лионца: они очень обидчивы, Лионцы воображают, будто люди очень заняты ими и только и думают, как бы их оскорбить.
* (Плюш, аббат (1688-1761) - французский писатель и натуралист XVIII века. В своем сочинении "Зрелище природы" (1732) он объясняет естественные явления с богословской точки зрения.)
Лион вымощен маленькими острыми булыжниками, имеющими форму груши. Я совершенно не могу по ним ходить и становлюсь похожим на подагрика.
Этот большой, второй по величине, французский город сооружен при слиянии Соны с Роной, течение которых образует здесь огромную букву "игрек" (Y).
Когда аллоброги изгнали из Вьенны часть живших там римских граждан, сенат приказал проконсулу Мунацию Планку выстроить им город. Последний поселил их в деревне Лугдунум, расположенной близ слияния Роны и Соны, на склоне холма, который высился на западном берегу Соны. На этом красивом холме Фурвьер был построен дворец Августа, превратившего Лион в военную колонию.
Когда страх перестал полностью властвовать над миром, Лион, как и все города, спустился в равнину. Но вот в чем беда: лионцы нашей эпохи, вместо того чтобы строить свой город на склоне холма Круа-Рус, разделяющего две реки посередине "игрека", построили его на триста туазов ниже, на маленькой болотистой равнине, какие почти всегда бывают у слияния двух больших рек. Поэтому Лион еще в сто крат скорее, чем Париж, может считаться "городом черной грязи" и густых туманов, хотя центр Парижа построен на острове и расположен на четыре градуса севернее Лиона.
В семи лье от Лиона находится Вьенна; живописно раскинувшись на Роне, она кажется расположенной на два градуса южнее. В течение полугода два раза в неделю над Лионом висит густой туман, тогда все кажется мрачным; на узких улицах между восьмиэтажными домами в десяти шагах ничего не видно. Право, стоит посмотреть на осанку и костюм "каню" - людей, которые суетятся в этом зловонном тумане, до такой степени зловонном, что запах каменного угля по сравнению с ним кажется мне ароматом.
Лион, 18 мая.
Приезжий, если только он может побороть тоску и желание, закрыв окна, взяться за книгу, должен подняться на Фурвьер - красивейший холм, у подножия которого течет Сона. Там, в окрестностях местечка под названием Антикай, находятся римские развалины. С Фурвьера можно пройти в Ботанический сад, а оттуда - в Музей или Дворец св. Петра на площади Терро. Затем, миновав тяжеловесную ратушу, вы можете снова подняться вдоль Роны на пол-лье от города. Оттуда, насладившись чудесным видом, вы возвращаетесь к собору, к храму св. Иринея и к церкви Энэ с четырьмя античными колоннами. Сегодня вечером, выйдя из биржи, я совершил эту прогулку.
Древнее название Лугдунум содержит слово Луг, которое, согласно утверждению так называемых ученых, означало у галлов: "гора" или "река"; города Лейден и Лаон также назывались Лугдунум.
Страбон, живший при Тиберии, сообщает, что по своему значению и богатству Лугдунум уступал лишь Нарбонне. Лютеция была еще тогда лишь захолустным селением. Август, человек весьма ловкий, три года провел в Лионе и сделал его столицей Кельтской Галлии. Там родился Клавдий. Лион был сожжен дотла в царствование Нерона. Об этом сильнейшем пожаре Сенека писал следующее: "Между крупнейшим городом и отсутствием города прошла только одна ночь"*.
* ("Una nox fuit inter urbem maximam et nullam". Senec, epist. 31.)
Нерон поспешил послать туда много денег. Траян, единственный человек античного мира после Цезаря и Александра, который заставляет вспомнить о Наполеоне, построил там много зданий.
Лион был в Галлии колыбелью христианства, и еще теперь, как мне кажется, это самый религиозный город. Здесь мы встречаем не пылкий фанатизм Тулузы, а то полное самоотречение, абсолютное доверие священнику, которое всегда меня поражает. Я знаком с двадцатью богатыми людьми, жертвующими десять процентов своих доходов на дела христианского милосердия.
При Генрихе IV и Людовике XIV Лион был как бы отдельным государством. Царствующей фамилией там были Вильруа*, и часто архиепископ, представитель этой фамилии, был одновременно и губернатором.
* (Мемуары Сен-Симона. Всесильные Вильруа устанавливали налоги, в которых ни перед кем не отчитывались.)
Известен эпизод с Вильруа - королевским наместником, который занял должность губернатора Лиона после своего дяди, бывшего одновременно и губернатором и архиепископом. В день своего вступления в должность, садясь в карету, новый губернатор стал направо и налево благословлять собравшихся. Когда решились указать ему на неуместность этого, он гордо ответил: "Я видел, что так делал мой дядя", - и продолжал раздавать благословения.
Лионцы, как и все благочестивые люди, очень милосердны; их город нуждается в этой добродетели. Я считаю чрезвычайно неосмотрительным основывать благосостояние города на мануфактурах. Правительство, имеющее время подумать о своих обязанностях, должно было не допускать, чтобы число фабричных рабочих превышало двадцатую часть населения города.
Мой уважаемый друг, г-н Рюбишон*,- по моему мнению, единственный человек большого ума, бывший сторонником Реставрации,- как-то говорил мне, что рабочий шелковой промышленности в Лионе может в 1837 году купить на свой дневной заработок гораздо меньшее количество хлеба и мяса, чем во времена Кольбера. Преемники этого великого министра не поняли, что, поскольку Италия, которая вывозит шелк, начинает сама производить прекрасную шелковую пряжу в Сан-Лючио (близ Неаполя) и в Милане, а Англия получает шелка из Китая, который в скором времени будет вывозить их и в Америку, следует всеми способами разубеждать шестнадцатилетних юношей избирать себе профессию рабочего шелкового производства. Тунис и Марокко предпочитают нашим легким шелкам итальянские.
* (Рюбишон - знакомый Стендаля по Греноблю. В Чивита-Веккье Стендаль снова встретился с ним и получил от него полезные сведения об общественной жизни французской провинции, в частности Гренобля)
Но где уж после 1830 года министрам, которые боятся потерять свое положение, не угодив Палате, найти время, чтобы задуматься над принимаемыми решениями! В своей административной деятельности они руководствуются суждениями своих чиновников. И что это, мой бог, за суждения! Откуда у этих несчастных чиновников могут быть какие-нибудь суждения? Таким образом, рабочий шелкового производства, живущий в Лионе, питается мясом и хлебом, которые, попадая в черту города, облагаются огромной ввозной пошлиной, тогда как рабочий, выделывающий шелка в Сан-Лючио, близ Неаполя, живет в свободной от налогов деревне (смотри хартию, пожалованную этой деревне) и в таком климате, при котором одежда - лишь роскошь.
Когда высказываешь такие суждения чиновнику, его ленивая мысль возмущается, и он говорит себе: " Это безусловно опасный человек, которого рано или поздно придется с разрешения его превосходительства куда-нибудь переместить".
Что бы было, если бы я решился заговорить о таможенных законах? В силу устаревших постановлений Франция вывозит в Италию - родину лени, отдаленную от наших берегов лишь двухдневным водным путем,- одни только дамские шляпки из Парило.
Следовало бы назначить во всех министерствах начальников отделений с годовым окладом в двадцать пять тысяч франков и ассигновать на их служебные нужды сто тысяч франков в год, но с условием, чтобы эти чиновники никогда не могли стать депутатами или государственными советниками. Не будучи государственными деятелями, они не боялись бы увольнения через каждые два года, подобно министрам.
Обладая хотя бы каплей здравого смысла, можно понять, что человек способен поставить свою подпись на бумагах не более сорока раз в день. При сорок первой утомленный мозг этого человека не находит уже возражений на все прекрасные слова подчиненного, и он подписывает с полным чистосердечием все благоглупости, которые тот ему подсовывает.
Начальники отделений, о которых я говорил выше, работали бы со своим министром, в ведомстве которого они состоят, как тот работает с королем: они отмечали бы на своих докладах решения министра и сами подписывали бы все бумаги, составленные в соответствии с поднятым вопросом.
Таким образом, они были бы ответственны за все решения, принятые на основании их докладов. Работая с министром, сменяющимся каждые полтора года, чиновнику чрезвычайно удобно отвечать на самые обоснованные упреки: "Таково было желание министра".
Снимать копии, рассылать бумаги и т. п. может любое лицо по распоряжению начальника отделения, которому ассигновано сто тысяч франков на служебные расходы. Если он скуп, он может это делать сам. В Париже нет банкира, который не сумел бы найти семь или восемь хороших служащих. В торговом деле я работал половину моей жизни по восемь часов ежедневно.
Следует принять во внимание, что при современном режиме в одном министерстве внутренних дел требуется триста - четыреста служащих; в каждой комнате сидят по четыре - пять чиновников, которые беспрерывно болтают и даже выписывают сообща газету. Эта болтовня мешает работать несчастному, который вздумал бы честно исполнять свои обязанности, не говоря уже о том, что усердие сделало бы его всеобщим посмешищем. Двое чиновников, работая, как это делают банковские служащие, выполнили бы в шесть часов работу, с которою в наше время плохо справляются пять человек.
Молодые люди, которых набирают в министерство, недостаточно образованны. Конечно, это не имеет значения для поручаемой им работы. Но при повышении в должности их невежество дорого обходится государству. Каждый министр или начальник управления тащит за собой трех или четырех дальних родственников женщины, к которой он благоволит, и если те покладисты, лишены инициативы и сумели проникнуть во влиятельные салоны, то они через десять лет становятся начальниками отделений. И тогда обнаруживается полное отсутствие у них образования. Люди, подобные г-ну Бурсену (морскому министру), очень редки.
Господин Бурсен умел отказывать и решался вызывать неудовольствие даже тех просителей, у которых были хорошенькие жены.
Еще следовало бы - но это, по правде сказать, невозможно,- чтобы начальники отделений, подписывающие все бумаги, могли быть уволены лишь за должностное преступление или за неспособность к службе и лишь после доклада, напечатанного в "Moniteur". Эти начальники отделений могли бы даже подавать жалобы в Кассационный суд, который, действуя как судебный орган, решал бы, правильно или неправильно уволен такой-то.
Если когда-либо какой-нибудь патриот, подобно маршалу Вобану, станет во главе министерства, он сможет воспользоваться моим предложением. Я излагаю его здесь для того, чтобы подобная реформа вызвала меньше протестов. Всего лучше было бы каждому чиновнику переписать собственноручно том Сея и в течение двух лет предварительно прослужить в какой-нибудь супрефектуре в ста лье от Парижа. Он сразу бы составил себе представление о том, что происходит и чего не должно было бы происходить.
Лион, 19 мая.
Три дня тому назад некто г-н Смит, английский пуританин, проживавший в Лионе в течение десяти лет, решил покончить счеты с жизнью. Он выпил унцию синильной кислоты. Через два часа он почувствовал себя очень плохо, но не умер и для препровождения времени стал кататься по полу. Его хозяин, честный сапожник, работал в своей мастерской под комнатой англичанина. Удивленный этим странным шумом и боясь за целость своей мебели, он поднимается наверх. Стучит. Нет ответа. Тогда он входит через потайную дверь, видит с ужасом состояние своего жильца и посылает за г-ном Травером, знаменитым врачом, другом больного. Приходит врач, дает англичанину лекарство, и вскоре г-н Смит вне опасности. Тогда врач ему говорит:
- Что это вы, черт вас возьми, выпили?
- Синильную кислоту.
- Чепуха, от шести капель вы бы моментально умерли.
- Но мне сказали, что это синильная кислота.
- А где вы ее купили?
- У низенького аптекаря на набережной Соны.
- Но ведь вы обычно обращаетесь к вашему соседу Жирару, через улицу от вас! Это же лучшая аптека в Лионе.
- Вы правы, но в последний раз, когда я покупал у Жирара, мне показалось, что он меня обсчитал на лекарстве,
Лион, 20 мая.
Прогулка на холм Фурвьер считается набожными лионцами своего рода паломничеством. В самом деле, на каждом шагу здесь вспоминаются первые христиане и первые мученики Лиона*. Прохожу мимо церкви св. Юста, перестроенной в 1703 году. Во всем этом квартале до ворот церкви св. Иринея встречаются скамьи и четырехугольные каменные столбы, очевидно, из древнего Лугдунума. Это алтари, надгробные плиты и т. д., из которых многие были реставрированы. Кажется, что бродишь по одной из улиц Рима близ Семи Зал. На улице Ангелов мое внимание привлекла латинская надпись, которая в переводе означает: "Душе усопшей Камиллы Августиллы, прожившей тридцать пять лет и пять дней и причинившей своим близким единственное горе - своей кончиной. Силентий Регин, брат своей горячо любимой сестры" и т. д. Св. Ириней, епископ и к тому же знаменитый писатель**, претерпел мученическую смерть в Лионе вместе с девятнадцатью тысячами христиан. На холме Фурвьер кровь доходила до второго этажа домов, я сам видел отметку.
* (См. "Историю Лиона" П. Колонна. В этом труде помещены гравюры со всех интересных памятников. См. карту, изданную Г-ном Арто. Подземелья Фурвьера полны фундаментами римских зданий.)
** (Г-н Ампер весьма обстоятельно говорит о писателях первых веков христианства. Отсюда идут истоки нашей литературы.)
Церковь св. Иринея столько раз перестраивалась и в последний раз была так безжалостно размалевана в соответствии с требованиями провинциального искусства, что она ничего не говорит сердцу и не представляет никакого интереса для любознательного ума. Осмелюсь ли добавить, что люди набожные, пораженные звучанием имени святого, входя в эту церковь, всегда держатся за нос, боясь, как бы небеса не сыграли с ними какой-нибудь шутки*.
* (Непереводимая игра слов: Saint Irenee (святой Ириней) звучит как saint-tire-nez (святой тянет за нос).)
Наконец я дошел до римских акведуков над воротами св. Иринея. Сначала видны шесть арок - здесь был когда-то акведук Пила и акведук Мон-д'Ор.
Акведук Пила тянулся около тринадцати лье, хотя с высоты птичьего полета кажется, что место слияния вод близ Сен-Шамона отстоит от Лиона всего на восемь лье. В этой местности, перерезанной, начиная от Сен-Шамона, глубокими долинами, римская архитектура, не вооруженная еще современными открытиями, имела широкую возможность проявить всю свою изобретательность. В наше время, пользуясь несколькими паровыми машинами и висячими мостами, архитектор легко разрешил бы поставленную перед ним задачу. Но он ни в ком не возбудил бы восхищения. Разве только какой-нибудь мещанин изумился бы израсходованной на это огромной сумме денег.
Римлянам приходилось три раза поднимать воду; они пользовались свинцовыми трубами в виде опрокинутого сифона. Акведук спускался по склону холма до достаточно низкого места, чтобы было удобно построить переход. Дойдя до противоположной стороны, воду вновь поднимали. Так римляне пересекли три небольшие долины: долину Гарона, очень глубокую, Бонана и св. Иринея. Этот акведук имел здесь четырнадцать переходов. Еще теперь из девяноста арок одного из таких переходов сохранились шестьдесят две.
Каменная кладка сделана из колотого камня, опущенного в известковый раствор, причем извести не жалели. Так же, как и на римской равнине, эти акведуки, хотя и простые сооружения, производят необыкновенное впечатление. В Риме их длинные ряды тянутся по совершенно оголенной равнине, здесь же их окаймляют зеленые холмы; такова, например, дорога на Шампоно. Когда поднимешься на несколько сот шагов и взглянешь с этих высот, перед тобой расстилается замечательный вид на швейцарские горы. Крестьяне окрестных деревень, заметив, что камень, из которого сделаны арки, обладает огнеупорностью, увозят его на своих телегах, когда им нужно сложить печи.
Поток Изерона повалил один мостовой бык, но он упал целиком и не разбился. Рядом виднеются восемь арок.
Эта прогулка приятна, но очень утомительна. В Риме вдоль длинного ряда арок по дороге в Фраскати можно ехать в коляске. Если душа ваша способна воспринимать всю прелесть искусства, нет более чудесной прогулки в вечном городе.
Лион, 20 мая.
Я отправился в церковь Энэ, построенную у слияния Роны с Соной, примерно на том месте, где шестьдесят галльских племен (отмечаю это с сожалением) воздвигли сообща алтарь Августу. Оправдание им - в слове шестьдесят. Что могли сделать шестьдесят племен против одного народа - народа, возглавляемого аристократическими начальниками, чуждыми ребячества венецианских вельмож благодаря тремстам одержанным победам? Цезарь был беспринципнейшим пройдохой в полном смысле этого слова, порожденным римской цивилизацией.
В музее вам покажут знаменитый барельеф, украшавший когда-то фасад церкви Энэ. На нем изображены три женщины (богини-матери); средняя держит рог изобилия.
На капителях многих пилястров этой церкви - лепные украшения. Справа от алтаря - Адам и Ева, искушаемые дьяволом.
Следует осмотреть рядом с алтарем четыре огромные гранитные колонны, которые, прежде чем их распилили, представляли собой две колонны, примерно двадцати пяти футов вышины. Но были ли они распилены? Каждый ученый насмехается над своим предшественником и говорит противоположное - так будет продолжаться до скончания веков или академий. Я советую читателю верить только тому, что он видел собственными глазами, то есть реальным фактам; все остальное меняется каждые тридцать лет, следуя модным течениям в науке. Эти колонны украшали, как говорят, алтарь, воздвигнутый в честь Августа шестьюдесятью племенами. Там было совершено жертвоприношение 10 августа 742 года с основания Рима, то есть за 11 лет до христианской эры.
Смешение этих благородных фрагментов античного искусства с готикой всегда вызывает во мне чувство презрения, чувство весьма неприятное. Я все же плохой христианин.
Калигула организовал или возобновил состязания, которые происходили близ этого алтаря Августа. Если верить свидетельству Светония и Ювенала, на этих играх лежала печать его безумия. Тут раздавали премии за красноречие, причем побежденные обязаны были доставлять эти премии и преподносить их победителям. Они должны были произносить торжественные речи в честь победителя (какое мучение для завистливых писателей!). Но не только эта опасность грозила им: когда произведение оказывалось явно недостойным конкурса, на который осмеливались его представить, несчастных авторов принуждали стирать свои творения собственным языком или, по крайней мере, губкой. Потом их стегали плетьми и бросали в Рону.
Лион, 22 мая.
Я ежедневно прохожу мимо унылого здания лионской ратуши, построенного в 1650 году, которое, несмотря на его нелепый, тяжеловесный и невзрачный вид, очень высоко ценится в этой местности. Быть может, потому, что это строение подлинно романтическое. Ведь оно напоминает своим внешним обликом провинциального мэра, который хочет пользоваться уважением у населения и боится показаться вольнодумцем.
Жюль Ардуэн-Мансар восстановил фасад этого здания, сгоревшего в 1674 году. Я бы с удовольствием перестроил его, взяв за образец фасад одного из чудесных венецианских палаццо.
Венеция так несчастна, а Лион так богат, что возможно было бы купить какой-нибудь палаццо в Венеции, к примеру, палаццо Вендрамин. Можно было бы перенумеровать камни фасада и водой доставить их в Лион.
Под вестибюлем ратуши, у стены слева, высится колоссальная статуя, изображающая Рону; она опирается на рычащего льва и на весло. Лев разъярен; рядом с ним огромный лосось. Дальше идти некуда; это совершенство.
Против огромной статуи Роны стоит огромная статуя Соны, также опирающаяся на льва. Эти две скульптуры Гильома Кусту прежде украшали площадь Белькур, и хорошо было бы, если бы они туда вернулись. Скульптору требуются глубокие познания и особенно большая смелость для создания статуй огромного размера. Если он лишен этих качеств, статуи походят на миниатюры, рассматриваемые через лупу.
Темные и сырые аллеи в Лионе, которые служат переходами от улицы к улице, приводят меня в отчаяние. А сами улицы! Семиэтажные дома не допускают солнечных лучей до мостовой. Попробуйте пройти по улице Мерсьер из конца в конец.
Чтобы проверить и оценить свои впечатления от Лиона, я, освободившись от дел, поднялся на башню церкви Фурвьер. Открывающийся отсюда ландшафт запечатлен в первой панораме. Вид замечательный. Ленивая Сона медленно течет по скалам у подножия холма; за городом, в направлении Дофине, видна бурная Рона, которая сливается с Соной у выступа полуострова Пераш (моста Мюлатьер) и увлекает ее за собой. Площади, улицы, набережные, мосты усеяны человечками, которые спешат и кажутся очень деятельными; по ту сторону Роны, за равниной, расстилающейся на восемь или десять лье, виднеются, чуть не сливаясь с землей, самые высокие вершины гор Дофине, и наконец значительно левее при ясной погоде, особенно после летнего дождя, перед вами открывается прославленный Монблан, вершина которого в виде белой трапеции высится над облаками.
Лион, 23 мая.
Чтобы исполнить свой долг, я пошел осмотреть Лионский собор св. Иоанна, постройка которого была начата в конце XII века и закончена при Людовике XI. Поразило меня там только благочестие верующих. Храм этот - смесь готики с романским стилем, ибо следует отметить, что память о Риме никогда полностью не исчезала на юге Франции, а в отношении архитектуры этот юг начинается с Лиона. Барельефы фасада храма напомнили мне барельефы Собора Парижской богоматери. Изображенные на них воины одеты в кольчуги (смотри в Париже прекрасный барельеф напротив дома № 6 по улице Монастыря богоматери).
В Бурбонской капелле мы встречаемся с чудесами скульптурной техники. Терпение, проявленное резчиком при изготовлении железных шипов на решетках, вызывает большее восхищение буржуа, чем гениальность Микеланджело. Толпа не находит в своей душе отклика на гениальность, тогда как терпение - это каждодневная ее добродетель.
Церковь св. Низария XIV века, но портал ее более позднего происхождения, времен Ренессанса; он был сооружен Филибером Делормом.
В числе богомольцев, посещавших церковь св. Низария, был граф Вида, человек простой, добрый, чрезвычайно благочестивый. Каждое утро его камердинер клал ему в карман сюртука носовой платок, который к вечеру бесследно исчезал.
- Господин граф, у вас крадут носовые платки,- говорил камердинер.
- Нет, друг мой, я их теряю,- отвечал граф, низа что на свете не желавший дурно подумать о ближнем.
Однажды камердинер, потеряв терпение, решил пришить носовой платок своего господина к карману. Не успел граф, выйдя из своего особняка, сделать несколько шагов, как почувствовал, что кто-то дергает его за сюртук.
- Перестаньте, перестаньте, друг мой,- сказал граф вору, не оборачиваясь,- сегодня его пришили.
И он поспешил в церковь, чтобы помолиться за обращение вора на путь истины.
Я вернулся в Шампоно. Здесь множество надгробных надписей. В надписях на христианских могилах то и дело встречаешь орфографические ошибки. Римско-католическая церковь, которая в наши дни с такой елейностью требует сохранения status quo, вначале хотела все изменить в корне. Она говорила изумленному рабу, что у него столь же прекрасная и бессмертная душа, как у самого императора. Но кто об этом знает? Кто читал г-на де Поттера*? Ведь ловкий стилист Флерине** говорил о такого рода истинах, хоть его и нельзя обвинить в том, что он их скрывает.
* (Поттер (1786-1859) - современный Стендалю бельгийский политический деятель, автор "Философской истории христианства" (8 томов, 1836-1837).)
** (Флери (1640-1723) - автор "Истории церкви", доведенной до XV века.)
Я посетил Ветеринарную школу, обессмертившую имя Буржела* - человека рассудительного и терпеливого. Ему пришлось сначала доказать тогдашнему правительству существование ветеринарной науки; после этого он добился создания школы.
* (Буржела (1712-1799) - основатель Ветеринарной школы в Лионе.)
Лион, 24 мая.
Я застал своих лионских друзей в глубокой печали: они только что потеряли Рене (из Марселя), который был душой всех их увеселений. Я его знал; быть может, это был самый красивый мужчина во Франции, самый непринужденный, самый веселый; безусловно, он был неглуп, но ум у него был природный, непосредственный, скорее бесхитростный и приятный, чем блестящий, который пленял при первом же знакомстве. Рене нельзя было не любить, поэтому он был любим, притом одновременно двумя дамами, с одною из которых он порвал почти, можно сказать, публично за неделю до своей смерти.
Несмотря на то, что ей стукнуло сорок восемь лет, г-жа Сен-Моларе еще задает тон в салонах одного из самых крупных южных городов.
Когда я приехал туда в последний раз, она все еще по-прежнему желала быть центром внимания, и следует признать, что у нее был очень приятный дом: ежедневно слушали музыку, обедали, ужинали, катались на лодках. В этой даме было много жизнерадостности и веселья, правда, не очень тонкого, но весьма заразительного. К тому же г-жа Сен-Моларе никогда не бывала в дурном расположении духа и, бесспорно, могла бы почитаться очень любезной особой, если бы не стремилась во что бы то ни стало быть любимой.
Но быть любимой?.. Не говоря уже о возрасте, может ли в наши дни женщина с доходом в шестьдесят тысяч франков быть любимой? Бедный Рене, все достояние которого заключалось в жалких тысячи двухстах франков в год, неаккуратно выплачиваемых ему отцом, и в жалованье мелкого служащего какой-то торговой фирмы, не мог устоять против соблазнов этой жизни с ее весельем и празднествами.
Итак, он царил в сердце г-жи Сен-Моларе, когда эта почтенная матрона имела неосторожность, уступив желаниям своего тучного мужа, взять к себе в дом м-ль Ортанс Сессен - его племянницу, прекрасную, как день. Ее черные глаза выразительны и полны благородства. Но, несмотря на свои двадцать лет и редкую красоту, девица была так бедна, что не могла найти себе мужа. Скупой дядя решил, что в Н. он сумеет выдать ее замуж без приданого.
Каждый вечер в одиннадцать часов Рене покидал гостиную г-жи Сен-Моларе. Он выходил через парадный ход особняка, и двери с шумом закрывались за ним. Но у этого особняка был сад, обнесенный каменной оградой. Рене влезал на ограду, спускался в сад, прятался под густым деревом и ждал, когда около полуночи появится свет в окне м-ль Ортанс. Вскоре после этого из окна, спускалась веревочная лестница, и только на рассвете Рене перелезал обратно через садовую ограду. Друзья его догадывались о его удаче, однако находили, что он недостаточно сияет. Он даже как-то сказал, что м-ль Ортанс - всего лишь комедиантка.
Однажды ночью Рене, спрятавшийся под деревом, вдруг увидел, как над садовой оградой появилась голова человека. Дерево стояло в шести шагах от ограды. Голова поворачивалась во все стороны, словно стараясь внимательно осмотреться.
"Это соперник",- подумал Рене. Он увидел, как человек оперся руками об ограду, сел на нее верхом, ухватился за веревку и спрыгнул в сад. В то время как Рене пытался разглядеть в темноте, не знаком ли ему этот человек, с ограды в сад спрыгнул второй, а затем и третий. Это были воры, которые принялись обчищать павильон, где г-жа Сен-Моларе иногда занималась музыкой. Там стояли стенные часы, серебряные подсвечники и кое-какая мебель.
Рене не решился помешать ворам; ведь на другой день его бы спросили: "А вы что там делали?"
Кража часов, полученных из Парижа всего лишь неделю назад, настолько расстроила г-жу Сен-Моларе, что она обещала местному полицейскому десять луидоров, если тот поймает воров. И вскоре их поймали. Однако г-же Сен-Моларе пришлось самой явиться в суд, что даже доставило ей некоторое удовольствие. Она прибыла туда во всеоружии своих чар, и так как муж ее был занят, то не преминула там появиться, опираясь на руку красавца Рене, который также являлся ее украшением.
Один из воров был не лишен остроумия. Подзадоренный славой Ласенера*, в то время совсем еще свежей у всех в памяти, и понимая, что при отсутствии прямых улик его не могут осудить, он решил не щадить во время заседания г-жу Сен-Моларе и поднял ее на смех. Этим он доставил несказанное удовольствие женщинам, которых было много в зале суда, и очень рассмешил их. Несколько раз вызвав хохот за счет этой уважаемой дамы, вор заговорил затем о молодых людях приятной наружности, которые из различных видов деятельности, открывающихся перед ними, избирают наименее трудный, по крайней мере судя по видимости.
* (Ласенер - убийца, казненный в 1836 году. На суде, он держал себя с вызывающей дерзостью и поразил всех своей находчивостью и остроумием. Ласенер оставил "Воспоминания", изданные после его смерти.)
- Вы слишком красноречивы и к тому же слишком наглы,- неожиданно, с большим хладнокровием заявил Рене.- Вы пойдете на каторгу, и именно я буду иметь честь посадить за решетку такую веселую пташку. Господа,- продолжал он, обращаясь к судьям,- я видел, как эти люди совершали кражу. Этот человек первым спрыгнул в сад...- и т. д. и т. д.
Рене сообщил все обстоятельства дела. Воры, попав в безвыходное положение, стали осыпать его бранью.
Госпожа Сен-Моларе, пришедшая на первых порах в восторг, вскоре догадалась, что не ради нее прятался Рене под деревом. Она стала упрекать его, сначала вполголоса, затем эта сцена стала достоянием соседей и приняла публичный характер. Рене очень вежливо и с полным самообладанием проводил даму до кареты и с тех пор больше не появлялся в ее доме и ни разу не произнес ее имени.
Бедный малый вздохнул вначале полной грудью и был более весел, чем когда-либо, но спустя несколько дней умер от лихорадки.
Таковы обстоятельства семейной жизни; но боюсь, что меня сочтут чудовищем.
Шалопаи, друзья Рене, рассказывали мне, что г-н Р., лионский коммерсант, выдает жене двести франков в месяц на ведение хозяйства. Эту сумму он выплачивает ей пятнадцатого числа каждого месяца. Если жене, кстати сказать весьма любимой мужем, требуются деньги первого, она платит за дисконт один процент и получает лишь сто девяносто восемь франков. Молодые люди имели гнусность добавить, что этот коммерсант далеко не единственный в своем роде, но я не хочу этому верить.
Господин С, англичанин, человек остроумный, присутствовавший на ужине (нас было пятнадцать человек, и все мы были приезжие), заявил, что не видит в этом ничего особенного. Г-н Томкимпс, богатый поставщик английской армии, в прошлом году неожиданно решил подарить двадцать тысяч фунтов стерлингов (пятьсот тысяч франков) своему племяннику, затеявшему выгодное дело. Томкимпс отсчитал пятнадцать или двадцать векселей, акцептованных солидными торговыми фирмами, с платежным сроком в три месяца.
Выражая благодарность дяде, племянник сказал, что наличные деньги помогли бы ему приобрести больший авторитет у компаньонов.
- Отлично,- сказал дядя,- я могу учесть все эти векселя на очень льготных условиях, из одного процента.
И Томкимпс с невозмутимым видом взял обратно векселя и выдал взамен их чек на сумму в четыреста девяносто пять тысяч франков на своего банкира.
Господин С. спросил меня, каким способом может иностранец ознакомиться с Францией.
"Я знаю лишь один, и то не особенно приятный,- ответил я ему.- Нужно прожить семь - восемь месяцев в провинциальном городе, обычно не посещаемом иностранцами. И, что более трудно для англичанина, нужно подойти к людям с открытой душой, быть, что называется, славным малым и не вступать ни с кем в спор из самолюбия. Если вы хотите ознакомиться с современной цивилизованной Францией, с Францией паровых машин, раскиньте ваш шатер к северу от черты, которая тянется от Безансона до Нанта; если вас интересует подлинный французский ум - Франция Монтеня,- направьтесь к югу от этой черты.
Я не запрещаю вам наезжать раз в два месяца на неделю в Париж. Не забудьте по возвращении поклясться вашим провинциальным друзьям, что вы во многом предпочитаете Парижу город... (который вы избрали). Добавьте, что в Париж вы ездите только по делам.
Приехав в ваш городок, сделайте вид, что заболели, и пригласите к себе врача, лучшего местного краснобая. Хорошо бы возбудить против кого-нибудь судебный процесс.
Не забывайте, что то, что окрещено дураками презрительным словом сплетня, на самом деле в наш век притворства является единственным средством хорошо узнать данный край. Вы увидите, что городки с десятью тысячами жителей, особенно в небогатой провинции, пылают ненавистью к своему супрефекту. Люди, которых этот чиновник приглашает на балы, даваемые им дважды в год, презирают остальных, те же называют их раболепными душонками, но борьба разгорается лишь раз в четыре года, во время избирательной кампании.
Вы можете двадцать лет прожить в Париже - и не будете знать Франции. В Париже все, что вам рассказывают, основывается на чем-то неопределенном, никогда нельзя быть уверенным в подлинности какого-либо факта (сколько-нибудь щекотливого) или какого-либо анекдота. То, что считается достоверным в течение шести месяцев, отрицается в следующее полугодие. Наблюдать самому можно только в Палате депутатов и на бирже, все остальное узнаешь лишь через газету. В вашем же городке с десятью тысячами жителей вы при известной ловкости сможете а достаточной степени выяснить подлинность тех фактов, на которых обосновываете свои суждения. Так как вы захотите добиться успеха, что весьма нелегко для иностранца, так как вам придется столкнуться с многими разочарованиями и не сердиться на нелепые слухи, которые будут распространяться на ваш счет, то особенно скучать вам не придется. Вы можете избрать а юге Ниор, Лимож, Брив, Ле-Пюи, Тюль, Орильяк, Ош, Монтобан или на севере Амьен, Сан-Кантен, Аррас, Ренн, Лангр, Нанси, Мец, Верден.
Трудность заключается в том, чтобы найти уважительную причину для вашего пребывания в таком городке. Многие англичане поселялись в Авранше из любви к рыбной ловле".
Преодолев свою стыдливость, я все же решаюсь рассказать об одном эпизоде, переданном мне несчастным Рене.
В городе М. приблизительно в 1827 году жил аптекарь, который благодаря удачным спекуляциям с лекарствами разбогател в полгода и стал еще большим фанфароном, чем это допускается даже на юге. Шествуя по улице, он в точности копировал все повадки полкового барабанщика. В одну прекрасную ночь шестеро из его друзей (друзья обычно больше всех возмущаются вашими успехами; понаблюдайте-ка людей, читающих газету со списком наград и повышений по службе), итак, шестеро друзей проникли в два часа ночи в аптеку, пробрались оттуда в спальню аптекаря, разбудили его, связали, заткнули рот, перетащили в аптеку, принялись плясать вокруг него в ознаменование его успехов и в заключение - посмею ли сказать - заставили его выпить некую тепловатую микстуру собственного изготовления. Уходя, они обещали повторить то же в случае, если он не перестанет "хорохориться" на улице. Это происшествие- чистейшая правда. Таковы шутки на юге.
Если бы я знал какую-нибудь трогательную любовную историю, подобную рассказанной только что Билоном, я бы не стал, думается, помещать ее в этой книге; любовь больше не в моде во Франции, и женщинам оказывают внимание только из вежливости. Человек, вступающий в брак иначе, чем при посредстве нотариуса своей семьи, считается дураком или по крайней мере безумцем, которого следует пожалеть и который не постесняется попросить у вас сто луидоров в долг, когда он оправится от своего безумия.
Главным достоинством тех немногочисленных историй, которые из рукописи смогут попасть в печатный текст, является их абсолютная правдивость, а это говорит о том, что они отнюдь не претендуют на особую занимательность.
Железнодорожные пути, пароходы, а особенно свобода печати, придающая интерес газетам, способствуют тому, что через несколько лет во Франции исчезли лангедокцы, провансальцы и гасконцы. Останутся лишь национальные различия, которые сохранятся еще несколько веков, ибо мы не будем больше свидетелями завоеваний, а какая же иная причина может изменить население деревни, находящейся в сорока лье от Парижа? Добродетель, именуемая скромностью, побуждает меня лишить родины приводимые мною истории, и они, к величайшему моему огорчению, оказались в известном несоответствии с национальными особенностями.
Но при всем различии взглядов и обычаев, возникших под влиянием страстей и воспитанных прежними провинциальными властями, самый тип эльзасца (любовь к независимости отчизны, ненависть к чужеземцу) и тип бретонца (самоотверженная преданность священнику) смогут сохраниться еще на несколько веков.
Вечер закончился беседой, возникшей по поводу одного дофинезца, четырехугольный череп которого свидетельствовал о высокой чистоте гэльского типа. Речь зашла о той самой круглой и широкой форме черепа, которая так часто встречается в горах у аллоброгов, чем, возможно, и объясняется упорство и хитрость, с какой они достигают своих целей. Мы тут же оставили легковесные темы и с серьезностью и строгостью, весьма похвальными для дискуссии, начали проверять на себе и своих друзьях отличительные признаки
гэла,
кимра
и иберийца.
Метисы встречаются весьма часто, особенно в городах, меж тем в заброшенной горной деревушке близ Картезианского монастыря, что неподалеку от Гренобля, или в Бур д'Уазан тип нередко сохраняется в чистоте, как, например, у нашего друга Р..., принимавшего участие в нашей беседе. Р...- человек очень веселый и по натуре очень добрый, то есть неспособный постоянно испытывать злые чувства, но который видит своих соседей насквозь и терпеть не может лицемеров.
Кимры (qui ne rit) - вот мнемонический способ запомнить название этого типа* - отличаются тем же постоянством, той же последовательностью и отсутствием жизнерадостности, что и англичане. Горе сильнее действует на кимра, чем на гэла, он его глубже переживает; по своей робости он инстинктивно тяготеет к титулам и высокому положению, отсюда аристократические тенденции англичан и то ребяческое безумие, которое охватывает их при виде молодой королевы, когда она соблаговолит показаться на улицах столицы.
* (Звучание слов "qui ne rit" (который не смеется) фонетически сходно со звучанием слова "кимры" (kymri).)
Население Франции можно разделить на гэлов, кимров, иберийцев и метисов (я не говорю о евреях и о небольшом числе греков, проживающих в Марселе). Привожу их приметы.
Гэлы наиболее многочисленны. Они среднего роста. При чистоте типа у них круглая голова, большие, широко расставленные глаза, довольно прямой расширяющийся книзу нос, без малейшей горбинки, свойственной орлиному носу. Расстояние от кончика носа до нижней части подбородка равняется длине носа. Рот расположен немного ближе к носу, чем к нижней части лица. Скулы широкие, но не выдаются вперед. В целом черты лица округлые. Обычно волосы у них темные; роста они невысокого, с развитой мускулатурой; по телосложению гэлы приближаются к атлетическому типу*.
* (См. талантливые "Очерки о человеческих расах" г-на Эдвардса, члена Академии)
Когда появились кимры, гэлы занимали всю Францию, за исключением части, принадлежавшей иберийцам. Гэлы и теперь еще во множестве населяют Бургундию, Дофине, Савойю, Пуату и т. д. Им-то и присущи те моральные свойства, которые Европа приписывает французам: они жизнерадостны, насмешливы, беспечны. Маро, Монтень, Рабле, Монтескье должны нравиться именно гэлам. Европейские авантюристы, которые в 1650 году высадились в Канаде, сходились с туземными женщинами. Те из их потомков, которые носят французские фамилии, отличаются круглой головой, отвагой, беспечной веселостью, а главное, полной неспособностью наживать деньги, между тем как их соседи кимры за десять лет составляют себе состояние.
Кимры высокого роста, изящного телосложения, стройные; они прекрасно носят современный костюм. Голова у них удлиненной формы, расширенная сверху, череп очень развит, таким образом, глаза находятся посередине лица, считая с маковки. Лоб у них высокий и широкий, глаза продолговатые, нос с горбинкой, крылья носа приподняты.
Подбородок выдается, поэтому, как говорят в народе, у кимра нос глядит вниз, а подбородок вверх. Волосы у них белокурые, тогда как у гэлов темные.
Как видите, по росту, телосложению, волосам Кимры весьма отличны от гэлов. То же можно сказать и в отношении характера. Кимры весьма высокого мнения о себе, иногда эта черта перерастает в тщеславие и гордыню. Они лишены непринужденности и добродушия гэлов, но им присуща необычайная выдержка. Кимры не могут похвастаться быстротой и легкостью соображения, тем не менее они очень смышлены и рассудительны, и нередко им нельзя отказать в гениальности. Единственный человек из всех умерших после Наполеона, которому, как и ему, приписывают гениальность,- знаменитый барон Кювье, соединял в себе все черты кимров, хотя при хорошем росте все же не был так высок и строен как они.
Удивительная вещь! Мы не встретим человека, который сохранил бы в чистоте все особенности внешнего облика той или другой национальности, не являя при этом типичного образца ее и со стороны моральной. Гэл - это француз, кимр - англичанин, бретонец. Кимры занимают север Франции, главным образом Нормандию и северное побережье Бретани от Ланилиса до Сен-Мало.
Баски, или иберийцы, встречаются в южной части Франции, вдоль Пиренеев. Во времена Цезаря они распространились до Гаронны и занимали также побережье Средиземного моря. Однако здесь они смешались с гэлами. Их называли тогда лигурийцами, Им же принадлежала большая часть западного побережья Франции. Один из присутствующих здесь два года тому назад провел шесть месяцев в Бресте и там среди жителей Финистера обнаружил все отличительные признаки этой расы. Они, как видно, появились здесь раньше гэлов. У иберийцев продолговатая узкая голова, особенно книзу. Дуга бровей выдается вперед, нависая над глазами миндалевидной формы. Нос резко очерчен, длинный, с горбинкой, крылья носа более приподняты, чем кончик. Прямой подбородок, скуластое лицо. Иберийцы немного выше среднего роста, сложены пропорционально, очень подвижны. Волосы их часто иссиня-черные. Генрих IV дает достаточно ясное представление об иберийце в физическом и духовном отношении. Иберийцы во многом похожи на французов, но есть у них и некоторые особые черты, например в их жизни большое место занимает любовь. Генрих IV совершал неслыханные безумства ради женщин, и притом не единожды, как Марк-Антоний в конце своей жизни, когда он был пресыщен успехами, но во всех возрастах и даже в такую минуту, когда можно было не сомневаться в том, что католический двор в Париже его отравит, как отравили его отца. Перед самой смертью Генрих IV безумно влюбился в одну молодую девицу, а ему уже было тогда пятьдесят пять лет. Об этой страсти свидетельствует его странное признание Басомпьеру, влюбленному в ту же молодую особу, ставшую впоследствии принцессой де Конде. Истории известны имена пятидесяти двух любовниц Генриха IV.
Германцы, потомки франков, занимают северо-восток Франции, Эльзас и т. д. И здесь они во многом отличаются от других народностей, очень воинственны, прямодушны и т. д. Эти франки отличаются высоким ростом, четырехугольным черепом и довольно прямым носом без всякой горбинки. Расстояние между носом и подбородком больше, чем длина носа. Крылья носа толстые л мясистые, чем германцы весьма отличаются от иберийцев (см. портрет Сервантеса). Германцы по большей части светловолосы и полны воинского пыла.
Порой в семье через большой промежуток времени почти с полной тожественностью повторяются те же черты. Какой-нибудь ребенок оказывается поразительно похожим на своего деда, умершего за тридцать лет до его рождения, и нередко на улицах Парижа нам встречается гэл или кимр, сохранивший всю чистоту расы.
Простит ли меня читатель за этот подробный отчет об одном вечернем собрании? В виде опыта я сделал его чрезвычайно точным. Мы наслаждались восемью - десятью сортами бургундского вина, которые по своему аромату не уступали букетам цветов. Когда вино сочетается с интересной беседой,- но только в этом случае,- оно усиливает иллюзию момента. Человек становится добрее и веселее на несколько часов. Какая же это глупость, что мы, столь невеселые, недобрые и завистливые, пренебрегаем оракулом божественной бутылки!
Лион, 25 мая.
Я не хочу углубляться в дебри коммерции, однако полагаю, что не слишком наскучу читателю, если расскажу в двух словах, почему за последние несколько лет Лион приходит в упадок. Негоцианты этого города имели возможность давать деньги из десяти - двенадцати процентов под залог товаров; деньги эти они сами получали от частных лиц (ибо помещать деньги в ренту не принято в провинции), которым они платили по четыре - пять процентов. Эта возможность постепенно исчезает. После сбора коконов в Турине, Милане, Парме и т. д. некоторые итальянские коммерсанты за отсутствием свободных средств отправляли в Лион шелк-сырец в качестве залога, в обеспечение сумм, которые им предоставлялись. Уплачиваемые ими проценты с учетом оплаты складского помещения, комиссионных издержек - одним словом, всего, что возлагается на заемщика в торговле, доходили до одиннадцати - двенадцати процентов.
Лионские восстания привели к тому, что итальянские коммерсанты, опасаясь за свои шелка, обратились за деньгами в Лондон. Вскоре они сумели получать деньги даже в самой Италии. Были организованы ссудные кассы, бравшие шелка в залог и предоставлявшие деньги из шести процентов за привозимый шелк.
Всем южным коммерсантам известно, что со времени своего восшествия на престол король Сардинии Карл-Альберт выпустил два займа. Все суммы, полученные по второму займу, названному "займом св. Елены", лежат в королевских сундуках и послужат королю в случае его изгнания. Министр финансов, который дал себе труд обдумать создавшееся положение, предложил королю ссужать этими деньгами коммерсантов - своих подданных, требуя от них в обеспечение шелк.
Практичные швейцарцы, постоянно занятые мыслью, как бы нажить деньги, установили весьма невысокие таможенные пошлины. Немцы, менее просвещенные и к тому же свыкшиеся со своими цепями, не лишены, однако, понимания национальных интересов. Это побудило их ввести единый таможенный тариф, что явилось еще одним ударом для лионской промышленности,
Придется этому большому городу мало-помалу отказаться от вывоза шелков за границу. Попытаются ли бездарные руководители его торговли бороться против такой неизбежности? Нет, из лености они ничего не предпримут. Правительство должно постараться по крайней мере занять в шелковом производстве старых ткачей, которым не хватает работы, и отбить охоту у шестнадцатилетних лионцев посвящать себя этому ремеслу.
Лионская газета должна была бы разъяснять каждые две недели, что во всех концах Европы имеют наглость производить шелковые ткани. Только шелка высшего качества останутся за Лионом, да и то при условии, если рабочие будут жить в близлежащих деревнях, где не взимают внутренние пошлины, которых Европа больше не хочет оплачивать.
Когда меня одолевает скука в Лионе, я нанимаю кабриолет и еду в Шампоно, чтобы насладиться видом швейцарских гор и римских арок, хотя эти развалины и не представляют особого интереса, они возвышают и умиротворяют душу.
Лион, 27 мая.
Мой кузен С. привел меня в ратушу. Там я обратил внимание на множество прекрасно выполненных чертежей, выставленных на семи или восьми больших столах и изображающих разрезы каменного здания, своды, мосты и т. д. Чертежи эти почти не уступают работам учеников политехнической школы. Я спросил, кто делал эти замечательные чертежи, мне ответили, что ученики школы монахов-игнорантинцев.
Я заподозрил сначала здесь какой-нибудь обман. Однако блестящие успехи обучения многих монахов - вещь вполне реальная. Один лионский негоциант, у которого явилось то же подозрение, попросил, чтобы ему сделали копию прекрасного чертежа висячего моста, недавно построенного братьями Сеген через Рону. Четырнадцатилетний мальчуган, ученик этих монахов, принес через неделю великолепную копию, причем подлинник не носил следов ни булавок, ни кальки. Дело в том, что один из здешних братьев-игнорантинцев преподает начертательную геометрию не хуже, чем в лучших парижских коллежах.
Одиннадцать братьев, которые обучают тысячу сто детей, стоят шесть тысяч шестьсот франков; следовательно, каждый ребенок обходится городу в шесть франков, к тому же монахи нередко снабжают чернилами, бумагой, перьями и книгами наиболее бедных детей. (На это, должно быть, требуются немалые суммы.)
Школа взаимного обучения* не в состоянии противостоять ни той страстности, которая воодушевляет монахов, ни, тем более, финансовым ресурсам, которые им ассигнованы. Мне кажется, что каждый ребенок в школе взаимного обучения обходится городу в двадцать пять франков. Впрочем, добраться до истины в такого рода вопросах весьма трудно, и, конечно, приезжий, который остается в городе неделю и не умеет напускать на себя серьезность, не может проникнуть в такую глубокую тайну. И те, кто знатен, и те, кто благочестив, те, кто восхищается июльскими днями, или те, кто их боится,- все они говорят об этих братьях с глубоким волнением.
* (Школа взаимного обучения - по учебной системе английского педагога Ланкастера (1771-1838), по которой сильные ученики должны были выполнять роль учителя по отношению к более слабым. Попытки ряда французских педагогов ввести систему Ланкастера во Франции встретили резкий отпор роялистов и духовенства.)
Все женщины Лиона, даже жены наиболее либеральных коммерсантов, настроены чрезвычайно враждебно к школам взаимного обучения. Объясняется это очень просто: эти дамы ходят на исповедь.
Учтите, что после 1830 года во всей Франции, за исключением окрестностей Парижа, девушки воспитываются в монастырях. Тут мне бы очень хотелось найти такое выражение своим мыслям, чтобы они были вполне понятны и вместе с тем не были сочтены предосудительными или неприличными. Скажем так: эти монастыри питают фанатическую ненависть к свободе печати. Без сомнения, их невидимый вождь понимает, что свобода печати есть тот главный якорь, на котором держатся все наши свободы. Первый вопрос, задаваемый женщине в некоем трибунале, гласит: "Каковы убеждения вашего мужа?" И добавляют: "Нужно обратить его на путь истинный, и ваша прямая обязанность воспользоваться всеми средствами, чтобы ускорить это счастливое мгновение. Имеются ли у вас в доме гравюры? Что они изображают? Имеется ли портрет короля?.. Думаете ли вы о священных правах принцев?.." (здесь я пропускаю две страницы). В Марселе вопросы ставятся гораздо решительнее.
Госпожа Пер..., простая монахиня, которая с 1806 года занималась воспитанием молодых девиц и все состояние которой заключалось в обстановке стоимостью не более двадцати луидоров, израсходовала с 1815 года четыреста тысяч франков.
Эта дама поразила свой город, построив в нем весьма значительный по своим размерам пансион для молодых девиц. Когда начали закладывать фундамент, у нее было шестьдесят тысяч франков. Ее друзья перепугались, ее засыпали советами, призывами к осторожности. В самом деле, не успел фундамент достигнуть высоты земли, как шестьдесят тысяч франков уже были израсходованы. Г-жа Пер… подсчитала, что у нее воспитывалась тысяча девиц. Она написала циркулярное письмо, очень трогательное, в котором просила пятьдесят франков у мужа каждой из своих бывших воспитанниц. Не прошло и несколько дней, как это письмо принесло ей тридцать пять тысяч франков. Нечего и говорить, что постройка была закончена и что она поражает своим великолепием... Меня уверяют, что во многих южных департаментах на такие же средства построены пансионы для молодых девиц, где сейчас воспитываются матери семейств 1850 года.
Мужья этих особ, не находя тем для разумных бесед со своими женами, будут уходить в клуб или изберут себе подруг на территории, окружающей Париж, диаметром в сорок лье. Как они должны отнестись к тем вопросам, которые будут задаваться в некоем месте их женам*? "Итак,- скажут они себе,- все мои маленькие слабости будут известны человеку, быть может, еще молодому, с которым я встречаюсь в обществе!"
* (...вопросы, которые будут задаваться в некоем месте их женам - в исповедальне духовниками.)
Говорят, что основной принцип воспитания, даваемого монахинями в 1837 году, состоит в том, чтобы ни в коем случае не допускать задушевной дружбы как между воспитанницами, так и между воспитанницей и воспитательницей.
Девушка ни в коем случае не должна оставаться одна (иначе в голове ее начинают бродить всякие мысли), но нельзя оставаться и вдвоем (возможны сердечные излияния). Надо стараться, чтобы девушки бывали всегда втроем.
Но это еще не все: воспитаннице вменяется в обязанность передавать все то, что ей говорила близкая подруга, директрисе, как только та этого потребует. Опасаются взаимного доверия, которое может возникнуть между двумя воспитанницами, и страстной дружбы, которая является следствием такого доверия.
Прежде всего не следует допускать сильных чувств. С ними борются, внушая к ним недоверие.
Вы можете себе представить, какой переворот в душе такой девушки вызывает первое рукопожатие молодого человека. К тому же подобное воспитание отравляет радости школьных лет, самых сладостных в жизни. Оно лишает даже капельки счастья тех бедняжек, которым суждено умереть до восемнадцати лет, и подвергает всех остальных опасности озлобиться на всю жизнь. Если в шестнадцать лет видишь в близкой подруге только шпионку, как должно очерстветь сердце к двадцати пяти годам, когда придется встретиться с подлинной изменой!
Сеть учебных заведений Сакре-Кер, покрывающая Францию, организована с необычайной мудростью и с соблюдением строгого порядка. Если монахиня совершает какой-нибудь проступок, ее переводят в учебное заведение за пятьдесят лье от первого, и все покрыто полным молчанием.
История церковных школ во Франции с 1830 до 1837 года могла бы быть очень интересной, но написать ее чрезвычайно трудно. Люди, работающие в этих школах, чувствуют на себе неослабное внимание жестокого врага католической церкви - гласности, которая ведет за собой другое чудовище - личное исследование. Ничто здесь совершающееся не оставляет по себе следов. Эта новая Gallia Christiana* могла бы привести ряд благородных поступков, как, например, то, что один человек из департамента Вар отдал церкви все свое состояние - семьсот тысяч франков.
* (Христианская Галлия (лат.).)
Одна из вилл близ Марселя оказалась вполне подходящей для Сакре-Кер; она стоит восемьдесят тысяч франков, за нее дают без колебания сто тысяч.
Мне кажется, что революция 1830 года, позволившая церкви украситься мученическим венцом, принесла ей большую пользу. По крайней мере, уже не все либералы являются теперь ее заклятыми врагами и церковь теперь спокойно печется о счастье или хотя бы дает какое-то занятие всем бедным старым девам, которым не удалось выйти замуж.
Что касается женщин, которые воспользовались всеми плодами религиозного воспитания 1837 года и которых церковь послала в общество, чтобы царить там полновластно и безраздельно, то для них интересы монастыря становятся единственным делом, единственной мыслью. Нежные чувства их волнуют - если вообще они когда-либо их волнуют - только после двадцати пяти лет, когда эти недоверчивые души устали от деспотизма, да и то нередко это чахлое чувство, которое - из одного лишь самолюбия и ради того, чтобы считать себя в полном смысле слова женщиной,- они называют любовью, приносится ими в жертву неутомимому властолюбию. Иной раз такой женщине может показаться, что она полюбила мужественного, простого, благородного молодого человека, но он всего лишь лейтенант, и чтобы добиться чина капитана, горит желанием отправиться в Африку и бросить свою благородную возлюбленную.
Лион, 29 мая.
На площади де Терро во дворце св. Петра находится музей. Это большое здание совершенно невыразительно, хотя оно так прекрасно расположено, что могло бы производить впечатление. Это весьма неудачное подражание итальянской архитектуре. Заметьте, что в XVII веке, когда возводили это здание, Лион был полон флорентийских коммерсантов. В былые времена на этом месте был женский монастырь, впервые перестроенный в IV веке королевой Теоделиндой; после этого он был дважды или трижды разрушен и наконец заново отстроен в XVII веке. Фасад неправильной формы и весьма заурядный; архитектура пилястров говорит о двух стилях - дорическом и коринфском, а также о третьем - аттическом. Балюстрада, венчающая антаблемент и отлично выделяющаяся на небе, быть может, лучшее во всей постройке. Она объединяет в одно целое все это огромное здание. Оно величественно благодаря своей массивности, к которой охотно прибегают варвары и невежды в архитектуре. Нельзя, однако, отрицать, что в ясный солнечный день, как сегодня, дворцу св. Петра свойственна та мрачность, которая очаровывала меня в Италии.
Посреди двора античный саркофаг, превращенный в фонтан, и очень недурные плакучие ивы. Два павлина гуляют на солнышке, распустив хвосты веером. Несмотря на свою чванливость, они лишены провинциального жеманства. Они нравятся мне, и я долго смотрю на них. Шамфор*, возвращаясь из Версаля, с удовольствием смотрел на собаку, которая грызла кость.
* (Шамфор (1741-1794) - французский писатель XVIII века, известный своим посмертным сборником "Мыслей, максим и анекдотов" (1803), откуда Стендаль и заимствовал приведенный им эпизод.)
Вокруг этого обширного двора, середину которого занимают павлины, тянется удобная крытая галерея. Там находится алтарь и знаменитая надпись о тавроболии, которая, боюсь, представит меньший интерес для читателя, чем для меня. Тавроболий* был одним из самых своеобразных таинств языческого культа.
* (Тавроболий - искупительное жертвоприношение быка богине Кибеле. Тавроболием назывался также и алтарь, на котором совершалось жертвоприношение.)
Как вы знаете, религия, желающая добиться длительного успеха, должна прежде всего побороть скуку; отсюда и Renewals* в Соединенных Штатах.
* (Обновления (лат.).)
В 1705 году на горе Фурвьер, в древнем Лугдунуме, нашли этот прекрасный алтарь, на котором высечена любопытная надпись, свидетельствующая о том, что в 160 году по Р. X. здесь был совершен обряд тавроболия во здравие императора Антонина Пия. Вот как это обычно происходило.
Вырывали глубокую яму, куда спускался жрец. На нем были шелковые одежды, а на голове венок. Над ямой закалывали жертвенного быка и его кровью окропляли жреца, который должен был при этом поворачиваться, чтобы кровь попадала на все части тела. После этого все падали перед ним ниц, а окровавленные его одежды хранились с религиозными почестями. Некоторые части бычьей туши помещали в особое место. Этот обряд, по всей вероятности, восходит к глубокой древности; он дышит, как мне кажется, той дикой силой, которая свойственна религиозному культу народов в пору их молодости. Тавроболий был обрядом искупления, нечто вроде "крещения кровью", он повторялся каждые двадцать лет.
Лионский алтарь - лучший из такого рода памятников, что и заставило меня записать здесь то, с чем сейчас ознакомился читатель. У этого алтаря три лицевых стороны: центральная изображает украшенную повязками голову быка, которая делит надпись пополам; на второй стороне - череп барана, на третьей - тавроболический меч, похожий на меч Персея.
Вот перевод надписи; она подобна молитвенной формуле:
"Для тавроболия великой матери богов, Индийской, Диндимейской, совершенного по приказу божественной матери богов во здравие императора Цезаря Тита Элия Адриана Антонина Благочестивого, отца отечества, для сохранения жизни его детей и процветания колонии Лиона. Люций Эмилий Карп, секстумвир, августал и дендрофар, собрал силу быка*, вынес ее из Ватикана и освятил алтарь и бычью голову своим иждивением при жреце Квинте Салемии Секунде, на коего квиндецимвирами возложены были венец и запястья и коего святейший орден Лиона назначил пожизненно жрецом. В консульстве Аппия Анния Атилия Брадвы и Тита Клавдия Вибия Вара. Место было отведено декретом Декурианов"**.
* (Половые органы.)
** (См. Муратори, Бланкини, "Memoires de Trevoux" 1705 г., стр. 652, Монфокон, Маффеи, Тюрр, Тассен, Колонна, де Боз, Броссет, Бреваль, Миллен. Муратори - если только речь не идет о Диоклетиане, Юлиане или мучениках, казненных при этих императорах,- пишет правду. Это человек, наделенный большим здравым смыслом, давший себе труд изучить то, о чем он пишет, и не продажный. Разве это не идеал современного историка?)
Я обратил внимание на два надгробия в виде алтаря: в первом из них выпилен кусок мрамора, поэтому концы строчек не сохранились. Привожу перевод того, что осталось:
"Вечная память душе усопшего Виталина Феликса, ветерана легиона... Минервы, человека мудрого и преданного, торговца бумагой, известного в Лионе своей честностью, который прожил... 8 лет, пять месяцев и десять дней. Он родился во вторник, ушел на войну во вторник, был уволен в отставку во вторник и умер во вторник. Сын его Виталинус, благополучно здравствующий, и супруга его, Юлия Нике, воздвигли этот памятник и освятили его под "ascia"*.
* (Под топором или под серпом, которым скосили первую траву на том месте, где поставили памятник.)
Вторая надпись сохранилась целиком:
"Душе усопшего Эмилия Венуста, солдата победоносного, благочестивого, верного тридцатого легиона и каптенармуса (librarius) оного. Убит на войне.
Эмилий Гай и Венуста, его дети, и Эмилия Афродизия, вольноотпущенница, их несчастная мать, воздвигли на свои средства этот памятник, освятив его под "ascia". Проход к могиле свободен".
Последняя фраза говорит о том, что продавец уступал место для могилы, за исключением тропинки, которая к нему ведет.
Я с большим вниманием исследовал стиль* любопытного обломка античной статуи. Это была лошадиная нога из золоченой бронзы. Обломок этот имеет следующую историю.
* (С помощью стиля, то есть манеры изображения мускулов, выпуклостей, вен и т. п., нередко возможно определить, к какой эпохе относится статуя, с точностью до 50 лет.)
Уже с давних пор рыбаки и лодочники заметили в Соне, поблизости Энейского моста, какую-то тумбу, которую они прозвали tupin de fer, иначе говоря, сломанным железным горшком. Рыбаки старательно ее избегали, боясь разорвать свои сети, лодочники же, напротив, цеплялись за нее своими баграми, чтобы облегчить себе подъем по реке.
4 февраля 1766 года вода сильно подмерзла и стояла очень низко; какой-то лодочник, по имени Лоран, попытался освободить эту тумбу от льда. Он позвал на помощь одного из своих приятелей. Но так как у них не хватило силы, они обратились еще к грузчикам, и в конце концов им удалось раскачать тумбу с помощью каната и исторгнуть из реки лошадиную ногу, которая, по-видимому, являлась частью бронзовой лошади. Лоран предложил какому-то лионскому буржуа купить эту ногу за восемнадцать ливров, но тот отказался; тогда молодые люди отнесли ее в городской муниципалитет и получили за нее два луидора от купеческого старшины.
Весьма странно, что никому не пришло в голову продолжить поиски в том же месте, хотя летом вода часто стоит там очень низко. Можно было бы воспользоваться временной плотиной и небольшим паровым насосом.
Золоченая бронза на этом обломке толщиной в десятую часть дюйма, внутри он заполнен свинцом.
Бронза не сплошного сплава; она состоит из маленьких частей, отлитых в лапу и входящих одна в другую. Такой же точно выделки и колоссальная рука чудесного стиля, недавно найденная в Дарсе в Чивита-Веккьи. Эта рука находится сейчас в Ватиканском музее в Риме.
Прежде чем заняться тавроболием, я поспешил в залу, где выставлены знаменитые бронзовые доски, которые донесли до нас речь Клавдия в Сенате. Они занимают тут очень выигрышное место. Я долго смотрю на них с каким-то странным волнением, должен в этом сознаться. Своей речью император Клавдий хотел добиться разрешения галлам иметь своих представителей в Сенате (48 г. после Р. X.). Эта речь была выгравирована на трех бронзовых досках, из коих до нашего времени сохранились только две, найденные в 1528 году на Сен-Себастьянской горе.
Следует, однако, помнить, что Тацит в одиннадцатой книге своих "Анналов" воспроизводит эту речь Клавдия. Я привез с собой этот том Тацита. Стилю императора Клавдия (ибо он сам составлял свои речи; в Риме каждый государь умел писать) не хватает силы. Тацит точно отразил все особенности стиля императора, но, как это и следовало, он придал этой речи силу и некоторый оттенок мрачности.
Итак, напрашивается мысль, что во времена Тацита и Ливия принято было приводить подлинные речи государственных полководцев, а великие писатели лишь приукрашивали и исправляли их.
Лион, 31 мая.
Сегодня вечером я ужинал с одним денди, с которым встретился здесь утром и которого в Париже недостаточно ценил. Я судил о нем по его жизни во всей ее совокупности, по правде сказать, достаточно пошлой. Отец Поля Бремона живет, кажется, в Голландии; он необычайно богат и время от времени уплачивает долги сына. Отец дает Полю десять тысяч франков в год, а тетка, еще более богатая, обожающая племянника, приучила его к подаркам, которые составляют ежегодно двадцать пять тысяч франков и стали для него чем-то обыденным. Несмотря на это, Поль умудряется делать ежегодно долгов на тридцать тысяч.
- Вы познакомитесь с Петронием,- сказал он мне сегодня утром, приглашая к ужину,- у нас будут приятные женщины, клянусь, что их нелегко было раздобыть, и даже не очень скучные мужья.
- А кто такой Петроний?
- Увидите, я с ним дружу уже несколько месяцев.
Действительно, я познакомился с Петронием; это самый обходительный человек на свете, идеал камердинера. Он именует себя шевалье де Сен-Вернанж - имя, которое он, вероятно, заимствовал из какого нибудь водевиля. Сен-Вернанжу тридцать лет, и более красивого человека я никогда не встречал. Он ухитрился получить орден, кажется, в национальной гвардии. В общем же он до того храбр, что совершенно не думает о смерти. Но вот что забавно: полагают, что у него, как и у г-на де Келюса*, нет душа. Это делает его просто неоценимым. Вскоре вы получите доказательство сей великой истины.
* (Келюс (1694-1765) - французский археолог и писатель. Имеется в виду речь римского императора Тиверия Клавдия Цезаря, произнесенная в Сенате в 48 году, в которой он требует полных прав гражданства (с правом вступления в Сенат) для внеитальянских общин.)
Веселый ужин с шампанским, с милыми женщинами, с остроумными мужчинами, рассказывающими всякие небылицы,- идеал жизни для Сен-Вернанжа.
Когда Сен-Вернанж получил орден, его звали Пикарденом. Разумеется, у него тысяча двести франков дохода, и он, состоя на небольшой должности в одном из парижских муниципалитетов с окладом в сто луидоров, кое-как сводил концы с концами. Случайно, на одной дуэли он встретился с Бремоном, Они понравились друг другу. Бремон устраивал у себя ужины три или четыре раза в неделю. Пикарден стал душою этих ужинов. Его фамилия показалась Бремону нелепой, и его друг переименовал себя в Сен-Вернанжа.
На одной увеселительной прогулке, кажется, в Мальмезоне, какой-то нахальный возчик слегка поцарапал новую коляску Бремона. Сен-Вернанж выпрыгнул из коляски и, ловко уклоняясь от ударов Кнута, так поколотил возчика, что тот взмолился о пощаде. Сен-Вернанж, как оказывается, большой мастер драки ногами, но он никогда об этом не говорит. За завтраком он заботливо сообщает Бремону: "Солнце сегодня садится в шесть часов двадцать одну минуту". Так как Бремон не лишен некоторых принципов, он никогда без крайней необходимости не выходит из дому до заката солнца.
Бремон уезжает в Марсель; Сен-Вернанж бросает службу, семью,- если таковая у него имеется,- все серьезные дела и следует за Бремоном, который называет его своим "Петронием" с тех пор, как Сен-Вернанж однажды напутал, пытаясь процитировать Петрония. Никогда еще эти люди не обменялись между собой двумя фразами на серьезную тему. Положение Сен-Вернанжа сложилось постепенно, как складываются хорошие конституции, по мере возникновения потребностей. Под его наблюдением слуги укладывают чемоданы, он оплачивает счета, ведет переговоры с форейторами и участвует в увеселениях своего патрона. Бремон заявляет ему: "Петроний, мы уезжаем завтра в час дня, после завтрака". Об отъезде больше не упоминается. На следующий день, ровно в час, завтрак прерывается свистом бича, Сен-Вернанж сообщает: "Пребывание здесь обошлось в триста восемьдесят два франка". Бремон его не слушает. Садясь в экипаж, Бремон приказывает: "В Баньер де Люшон" или: "В Дьепп" - и они отъезжают.
Сен-Вернанж оригинален и блестящ на пирушках; он приятный собеседник, подчас очень остроумен; он прекрасно рассказывает забавные анекдоты. Но как только он заметит, что Бремону хочется говорить и блеснуть самому, он больше не раскрывает рта.
Как-то в дождливый день, после завтрака, Бремон сказал: "Мне скучно". "Вы ошибаетесь,- немедленно возразил Сен-Вернанж, - вы развлекаетесь, сами того не замечая". Они выходят из дому, и Сен-Вернанж всегда что-нибудь да придумает. Если уж не найти другого выхода, он подходит к спокойно стоящему кабриолету деревенского жителя, самодовольная физиономия которого сулит приятную ссору, и принимается его дразнить. Если перепалка становится серьезной, Сен-Вернанж лезет в драку. Самое поразительное в этом союзе - я за этим внимательно наблюдал - то, что Сен-Вернанж никогда не радуется в глубине души затруднительному положению своего патрона; он воспринимает все так же, как его друг.
- И вот что просто невероятно,- сказал как-то Бремон,- когда мне хочется знать, каково мое мнение, я спрашиваю об этом Петрония; вот почему он половина моей жизни.
Сен-Вернанж называет Бремона "патроном". Как в обществе, так и наедине он держит себя с ним одинаково. Бремон же относится к нему, как к младшему брату.
Сен-Вернанж рассказывал сегодня вечером, что во время их последнего путешествия "патрон" мчался из Роттердама в Марсель; остановился он только в Париже, и то лишь на сутки; к тому были веские причины: у многих кредиторов уже имелись судебные решения против него.
В то время как они проходили по бульвару, Сен-Вернанж ему сказал:
- Вот идет господин Жуайар, самый строптивый из наших ростовщиков. Хотите, я за него возьмусь?
- Ни в коем случае,- ответил Бремон,- он нас заметил, и вы сейчас убедитесь, что я не менее ловок, чем вы.
Бремон идет навстречу г-ну Жуайару, горячо жмет ему руку и спрашивает:
- Отец вам уплатил?
Г-н Жуайар столбенеет от изумления.
- Как, вы не в курсе дела? Отец столковался с моей теткой и заплатит абсолютно все мои долги; полное примирение. Я как будто вам должен пятнадцать тысяч франков, не так ли? Я не назвал отцу точной суммы этого долга. Дайте мне еще пять тысяч, и он вам заплатит двадцать тысяч вместо пятнадцати.
Они заходят в кафе. Ростовщик отсчитывает четыре тысячи франков. Бремон подписывает вексель на пять тысяч, и они расстаются добрыми друзьями. Сен-Вернанж весь сиял, рассказывая нам об этом забавном случае.
- Что по сравнению с ним все мои шутки, даже самые удачные, которые я мог бы сыграть с Жуайаром. Представьте себе только его встречу с господином Бремоном-отцом, который приезжает на неделю в Париж, чтобы посмотреть божественную Эльслер, и не думает ни о своем чудовищном сыне, ни о том, чтобы уплатить его долги.
Ничто не может рассорить Бремона с Сен-Вернанжем. Во время их путешествия по Испании Сен-Вернанж одерживал блестящие победы. Нужно признаться, что он прекрасно сложен, высокого роста, подвижный, смелый блондин, с очень приятным, нежным лицом. Кто бы подумал, что он такое чудовище? Он не знает ни страха, ни нежных чувств.
- Когда я обнимаю прелестную даму,- признавался он Бремону,- я думаю только о чудесных бриллиантах в ее серьгах.
- Во все время нашего пребывания в Испании,- добавил Бремон,- мы оба ухаживали за одной дамой. Ей нравился Петроний, и не прошло и трех дней, как меня стали вежливо выпроваживать. Но вскоре он добился свиданий в темноте, причем ходил на эти свидания не он.
- Скажите, Петроний, сколько раз вы дрались на дуэли в Испании?
- Три раза, пустячные дуэли на шпагах, не опасно.
- И из этих трех раз,- заметил Бремон,- два раза он дрался за меня. Не правда ли, это очень удобно?
Я понял, что деньгами распоряжается Сен-Вернанж, Бремон разрешает упоминать о них только 1-го и 15-го каждого месяца; тогда, как они говорят, они "подсчитывают кассу" - неприятнейший день.
( Увы! Со времени того ужина в Лионе многое изменилось. Ничто не нарушило необычайной дружбы Сен-Вернанжа с Бремоном. Последний наконец получил наследство от своей роттердамской тетки; оно заключалось в семидесяти или восьмидесяти тысячах франков ежегодного дохода. Бремотт взял подорожную на Париж и закатил роскошный ужин, чтобы отпраздновать получение наследства и проститься со своими голландскими друзьями. К концу ужина он пожаловался на головную боль, - и через два часа его не стало.
Несчастный Петроний в глубокой печали вызывает пристава, велит все опечатать и исчезает. Говорят, что он укрылся в монастыре траппистов, откуда собирается вскоре выйти. Отец Бремона, который наследовал сыну, нашел двадцать три тысячи франков в его бумажнике, и все драгоценности оказались на месте.)
Лион, 1 июня 1837 г.
Я поехал в Сент-Этьен поездом*. Поистине, я ничего не могу сказать об этом городе, кроме того, что продал там за две с половиной тысячи франков, с уплатой товарами, долговое обязательство на четыре тысячи, которое, как мне казалось, не имело никакой ценности.
* (Французская неосторожность и легкомыслие приводят к несметному количеству смертных случаев на железных дорогах. Не проходит недели без какой-нибудь катастрофы. Любопытно было бы подвести итог.)
Там продавали вещи одного несчастного человека, ставшего банкротом (что часто случается в 1837 году как следствие злоупотребления банковыми билетами в Америке). Я купил прекрасную карту гор Франции системы г-на Гаспарена.
К счастью, я встретил в Сент-Этьене одного приятеля, с которым вместе служил в колониях. Он собирается жениться в Париже на дочери какого-то богатого деп... и в качестве приданого получает прекрасную должность в Меле или в Бове. Однако, чтобы в благоприятном свете представить это блестящее повышение по службе, ему приходится пройти своего рода стаж, и его отправили до свадьбы на полгода в Сент-Этьен.
- В этом городе, - сказал он мне, - имеется бесспорно целая коллекция добродетельных людей, честных граждан, прекрасных отцов семейств, и особенно весьма деятельных негоциантов. Но среди стольких совершенств я чуть было не оказался опозоренным, ибо совершил два серьезных проступка: я носил желтые перчатки, и однажды на прогулке у меня была роза в петлице. После двух таких промахов я заметил какой-то холодок к себе со стороны людей, которые прежде относились ко мне с симпатией.
Единственное развлечение в городе - это клуб, но он закрывается в восемь часов, а в девять все уже спят. В сент-этьенском обществе не любят холостяков, и, чтобы меня хоть сколько-нибудь терпели, мне пришлось подробно о себе рассказать и объявить о том, что я пристроюсь в ближайшее время.
- Знаете, мой друг,- ответил я ему,- это просто-напросто английский город. Только бы нам, боже сохрани, не стать еще более промышленной страной, чем теперь. Деловая жизнь привела бы нас к женевскому кривлянью, затем к Renewals* и фанатизму Филадельфии. Француз во всем доходит до крайности. Если бы д'Обинье и герцог де Роан** взяли верх над Генрихом IV и Людовиком XIII, мы стали бы фанатиками. Не лучше ли для несчастной женщины, скучающей в отсутствие мужа, ходить слушать проповедь, чем вовсе никуда не ходить, не лучше ли ей бояться ада, чем устраивать гнездышко для канареек?
* (Renewals (англ.), или, точнее, revival (возрождение), - движение за "возрождение" веры и строгое, "методическое" выполнение религиозных обрядов. Возникнув в XVIII веке в Англии, это движение получило широкое распространение в Америке, где центром имело Филадельфию.)
** (Герцог де Роан, Анри (1579-1638) - один из вождей гугенотов, возглавлявший восстание против кардинала Ришелье в 1625 году.)
Мы понимаем, что в Сент-Этьене полны зависти к жалкому крошечному городку, ну, скажем, к Монбризону, где имеются префект, генерал и другие чудесные атрибуты главного города департамента. В Сент-Этьене, где в 1804 году было лишь двадцать четыре тысячи жителей, сейчас насчитывается тридцать четыре тысячи, а скоро будет пятьдесят,-в этом отношении он соперничает с Гавром.
Своим процветанием Сент-Этьен обязан каменному углю, который превращается здесь в оружие, ножи с деревянными черенками и шелковые ленты. Улицы широки и черны, как в Англии. Через город протекает речка Фюренс (яростная), стремительное течение которой приводит в движение сто заводов.
Следовало бы посреди большой Роаннской улицы поставить хорошую бронзовую статую в честь какого - нибудь героического промышленника, если таковой найдется, или храброго Этьена* - аркольского барабанщика. Как это было бы прекрасно - поставить статую простому барабанщику! Она многое говорила бы сердцу народа**. Лучше всего, если бы статуя была обнаженной,- в костюме героев, ибо в этом городе действительность задушила воображение,- и притом какая действительность! Генуэзцы, флорентинцы, венецианцы - тоже негоцианты - расписывали фресками фасады своих домов. Поглядите еще сейчас на Площадь влюбленных фонтанов в Генуе.
* (Этьен, Андре (1774-1838) - герой сражения при Арколе, прозванный "маленьким барабанщиком"; под пулями врага бросился вперед во главе атакующих войск: ему был воздвигнут памятник на его родине в г. Кадене на юге Франции.)
** (Этьен умер в Париже 1 января 1838 года.)
Лион, 2 июня.
Близость Италии, с которой лионцы с давних пор поддерживают тесную связь благодаря шелку (смотри "Записки" Челлини), не способствовала пробуждению в них интереса к предметам искусства. Счастливый случай, если не ошибаюсь, пожар, освободил жителей Лиона от их большого театра- огромного и неуклюжего здания времен Людовика XV, которое примыкало к ратуше и подавляло ее. Здесь темно даже в полдень, о чем свидетельствует читальня, где я просматривал час тому назад газеты. Когда возник вопрос о постройке нового театра, то были предложены вполне подходящие места, например, около боен, близ Соны. Однако с этим не согласились: предпочли прежнее место, и город навсегда остался обезображенным.
В Италии, находящейся в двух шагах от Лиона, имеется четыреста образцов театров различных размеров, начиная с театра в Комо и кончая театром в Генуе. Такого рода "модель" предпочтительней всякого плана. Однако лионские буржуа и не подумали посмотреть театр Фениче в Венеции, или новый театр в Брешии, или театр Ла Скала. Верхом нелепости я считаю замечание, высказанное вчера одним серьезным человеком в доме, где я провел вечер; он сказал, что некоторые люди будто бы очень нажились на строительстве нового театра. На юге обычно бросают такое обвинение, когда государство или город расходует большие суммы, это все та же неизменная зависть. Сегодня вечером говорили о том, что с 1814 до 1830 года иезуиты были полными господами в Лионе; они легко привлекали на свою сторону чиновников и, если какой-нибудь неосторожный человек противодействовал им, его очень скоро увольняли.
Нельзя, по моему мнению, отказать Лиону только в одном: здесь прекрасно едят - лучше, на мой взгляд, чем в Париже. В особенности чудесно приготовляют овощи. В Англии, как я узнал, разводят двадцать два сорта картофеля; в Лионе я познакомился с двадцатью двумя различными способами его приготовления, и по крайней мере двенадцать из них неизвестны в Париже.
В один из моих приездов миланский негоциант г-н Робер, бывший офицер, человек благородный и умный, заслужил мою вечную благодарность, введя меня в общество людей, умеющих хорошо пообедать. Эти гурманы - их было человек десять-двенадцать - поочередно приглашали всю компанию на обед четыре раза в неделю. Тот, кто не являлся к обеду, уплачивал штраф - двенадцать бутылок бургундского вина. У этих людей были кухарки, а не повара. На обедах не велось горячих споров о политике, о литературе, никто не стремился блеснуть умом; все были заняты одним только делом - хорошо поесть. Если какое-нибудь блюдо оказывалось особенно удачным, все погружались в благоговейное молчание, уткнувшись в тарелку. Каждое блюдо подвергалось строгой критике, без всякого снисхождения к хозяину дома. В особо торжественных случаях призывали кухарку, чтобы выразить ей свое восхищение, которое часто не было единодушным. Я присутствовал при трогательной сцене, как одна из этих поварих, толстая, неряшливая женщина лет сорока, плакала от радости, когда хвалили утку, приготовленную с маслинами. Будьте уверены, что в Париже нам известна лишь слабая копия этого блюда.
Такой обед, где все должно быть совершенством, - дело, конечно, нелегкое для хозяина дома. Уже за два дня приходится начинать хлопоты. Однако ничто не может дать представления о подобной трапезе. Члены этого общества, по большей части богатые негоцианты, с великой охотой совершают поездку за восемьдесят лье, чтобы приобрести на месте то или иное знаменитое вино. Я узнал названия тридцати сортов бургундского, этого истинно аристократического вина, как говорил добрейший Жакмон*. Замечательное достоинство этих обедов в том, что через час у вас столь же ясная голова, как утром после того, как вы выпили чашку шоколада.
* (Жакмон, Виктор (1801-1832) - ученый-натуралист и путешественник, друг Стендаля. Его переписка с друзьями была издана в 1838 году.)
Лион изобилует рыбой, всякого рода дичью, бургундскими винами. Не жалея денег, там можно, как и повсюду, достать прекрасное бордо. И наконец в Лионе есть зелень, ничего общего, кроме названия, не имеющая с той безвкусной травой, которую осмеливаются подавать нам в Париже.
Господин Робер, бывший капитаном в итальянском походе 1796 года, не только сумел разбогатеть, но и оказался весьма изобретательным по части разных шуток: без всякого предупреждения он выдал меня за кого-то другого и такое наврал обо мне, что, несмотря на мое полное невежество, я произвел довольно хорошее впечатление и безумно веселился, поддерживая его выдумку. Надо было или победить, или погибнуть.
Несколько раз я имел честь получать приглашения и обязан этим славным людям возможностью хоть что-нибудь безоговорочно похвалить в их городе.
Обычно после обеда мы отправлялись в Брото смотреть, как играют в шары. Путь наш лежал по набережной Сен-Клер. Раз уж я вторично упоминаю эту набережную, надо все же отметить ее достоинства. Рона, горделивая, быстрая, величавая, быть может, вдвое более широкая, чем Сена у Нового моста, имеет, однако, совсем другие очертания. Прекрасные дома в шесть - семь этажей, обращенные к востоку, но, к сожалению, построенные при Людовике XV, тянутся вдоль правого берега реки, оставляя все же место для великолепной набережной, обсаженной во многих местах двумя рядами деревьев; на другом берегу, со стороны Дофине, всего несколько очень низких домиков, сады которых окаймлены высокими итальянскими тополями, деревьями, не имеющими ничего характерного. Эти дома и деревья не особенно портят вид. По ту сторону расстилается малоплодородная равнина, дальше поднимаются горы Дофине и в сорока лье слева, среди облаков, небольшая, покрытая снегом, трапеция - это Монблан. Можете себе представить, какой чистоты воздух в домах, обращенных к Монблану! Вы чувствуете себя совсем в деревне, а между тем вы в центре Лиона.
Вид набережной Сен-Клер, бесспорно, широк и внушителен. Тротуары, обсаженные деревьями, тянутся вдоль Роны на целое лье. Если можно с чем-нибудь сравнить вид этой набережной, то скорее всего с домами в Бордо на набережной Гаронны и на окрестных аллеях, где деревья посажены на месте бывшего замка Тромпет. Рона - слишком бурная река, чтобы быть судоходной. По Гаронне вместе с приливом каждый день прибывают корабли из Китая и Америки; и к тому же за одно лье по ту сторону реки виднеется великолепный холм, покрытый деревьями, из которых многие очень высоки. Гуляя на берегу Роны, мы прошли мимо особнячка, расположенного возле шлагбаума, который выводит на дорогу в Женеву.
- Вот это дом бедной госпожи Жире де Лош, - сказал один из моих спутников.
Заметив растроганный вид обратившегося ко мне сотрапезника, я полюбопытствовал, кто эта дама, Я задал ряд вопросов. Привожу пространный ответ.
Госпожа де Лош - молодая вдова, богатая, красивая, приветливая, в девятнадцать лет потеряла мужа, за которого вышла замуж по любви. Ей было двадцать пять лет, и она уже шесть лет стойко переносила свое вдовство, когда ей случилось провести осень в знаменитом замке Юрьяж, близ Гренобля.
По возвращении оттуда г-жа Жире оставила свою роскошную квартиру на улице Лафон и поселилась в этом особняке, в отдаленном квартале, причем она сняла его не целиком, а только второй этаж. Месяц спустя молодой человек из Гренобля, имевший в Лионе судебный процесс и подыскивавший себе недорогую квартиру, занял третий этаж того дома, в котором жила красавица-вдова. Он часто ездил в Гренобль и однажды вернулся оттуда в сопровождении двух или трех весьма неуклюжих на вид парней, по его словам, слуг его матери.
Это были каменщики. За три дня, проведенные ими в Лионе на квартире у молодого человека, они построили удобную лестницу, замаскированную шкафом, по которой он мог незаметно спускаться к г-же Жире. По какой-то необъяснимой причуде молодой дофинезец нанял для трех слуг своей матери весь дилижанс и сам проводил их до Дофине. Вернулся он только на следующий день. Мифический процесс длился долго, затем молодой человек находил различные предлоги для дальнейшего пребывания в Лионе. Он полюбил, рыбную ловлю и часто ловил рыбу в Роне под окнами дома, в котором жил.
В течение первых пяти лет об этой любовной связи никто и не подозревал. Дама еще больше похорошела, но в то же время стала очень набожной. Потом она начала жаловаться на нездоровье и целые дни почти безвыходно просиживала дома. Раз в году, около рождества, молодой человек наносил визит вежливости своей прелестной соседке. Он тоже слыл набожным человеком.
Однако в последний, шестой год такого рода жизни пошли слухи о каких-то отношениях между двумя соседями. В доме утверждали, что дама часто пишет письма молодому дофинезцу, а он, раньше такой скромный, стал возвращаться очень поздно по вечерам. К концу лета молодой человек, как обычно, уехал в Гренобль, но больше уже не возвращался. Потом стало известно, что он там женился на дочери богатого еврея с такой смешной фамилией, что я не решаюсь ее здесь назвать.
Госпожа Жире вызвала рабочих из Баланса, которые произвели в ее квартире сложные переделки. Она стала выглядеть совсем больной, и по ее настоянию врачи рекомендовали ей пребывание на юге. Она уехала на пароходе и поселилась в Сиоте. Но спустя примерно месяц после приезда г-жи Жире в этот городок ее нашли мертвой; она отравилась угарным газом в своей комнате. Предварительно она сожгла свой паспорт и спорола метки на белье.
Судебные власти допросили рабочих из Баланса; они показали, что дама велела им уничтожить лестницу, которая вела в третий этаж дома, где она жила и мимо которого мы только что прошли.
Лион, 3 июня.
Солнце сияет вовсю, жара невыносимая; я решил посвятить этот день картинам и отправился во дворец св. Петра.
Я начал с большого зала. Освещение здесь неудачное, свет падает с потолка и с двух сторон - не знаешь, где встать. Право, провинциальных архитекторов нельзя понять: они совершенно лишены здравого смысла.
Прошу разрешения дать простой перечень моих впечатлений; если бы я стал излагать их в закругленных фразах, они заняли бы лишних шесть страниц, и я мог бы вызвать еще большее неудовольствие читателя, впечатления которого, быть может, в корне расходятся с моими. Предпочитает же один из моих соседей по деревне, человек гораздо более богатый и более изысканных вкусов, чем я, картины Миньяра живописи Микеланджело. Он терпеть не может "Страшный суд", и поскольку это чувство искренне, к нему следует отнестись с уважением.
Начну с четырех прекрасно сохранившихся античных мозаик - их нашли в окрестностях Лиона. Прекрасный мужской античный бюст, очень выразительный, найденный в русле Роны.
Несколько огромных шкафов, наполненных античными бронзовыми статуэтками, бюстами, оружием, идолами, светильниками, щитами и т. п. Многие из этих предметов весьма любопытны, но посетитель проходит мимо, не подозревая об их достоинствах; даже здесь требуются пояснения. Следовало бы прикрепить к каждой выставленной вещи ярлычок на игральной карте, причем в большинстве случаев надпись должна быть сделана в предположительной форме: "По-видимому...", "Предполагают..." и т. п.
Только случаю обязаны мы находками древностей в окрестностях Лиона - города, имевшего столь большое значение при римлянах, где император Август прожил целых три года, и т. д. Если бы разумно производить раскопки, они, безусловно, увенчались бы успехом. Но в этом крае интересуются лишь ремеслами в стиле Жаккара*.
* (Жаккар (1752-1834) - изобретатель усовершенствованного ("жаккаровского") ткацкого станка, уроженец Лиона.)
1. "Поклонение волхвов" Рубенса - произведение первоклассное, написанное в тех же сочных, полных жизни тонах, что и "Снятие с креста" в Антверпене, но все же уступающее последнему. Находилось в Наполеоновском музее.
В 1807, 1808 и в последующие годы Наполеоновский музей, загроможденный картинами, отсылал излишки в некоторые провинциальные музеи. В 1815 году неприятель не успел захватить те картины, которые находились в ста лье от Парижа. Он спешил; он опасался, что французы сбросят с себя свое необъяснимое оцепенение и начнут партизанскую войну. Вот каким образом многие картины - трофеи побед 1796 года - остались в провинции.
Эта картина Рубенса прекрасна по силе, яркости колорита и страстности композиции. Это - одно из лучших творений великого художника.
2. "Поклонение волхвов" Паоло Веронезе. Прекрасные лица с тем серьезным, отнюдь не хмурым взглядом, какой можно найти только у итальянских живописцев. Очень хорошо сохранившаяся картина, ласкающая глаз; чудесные краски венецианской школы; нет той преувеличенной свежести тонов, которую мы находим иной раз у Рубенса. Фламандский мастер придает ноге старца розоватый оттенок, который более подходит для руки молодой девушки.
3. "Обрезание господне" Гверчино - одна из лучших картин коллекции. Белая скатерть на столе, на который кладут ребенка; впечатление от светотени, слегка нарочитой, слегка, если хотите, грубой, но которая восхищает любопытствующего зрителя. Стоишь перед картиной минут пять.
При таком совершенстве исполнения замечания невозможны; я просто наслаждался, глядя на эту скатерть. Вот что значит превосходство красок и светотени над рисунком! В Луврском музее нет ни одной такой замечательной картины Гверчино. Она напоминает мне "Святого Бруно" в Болонье. В Париже я могу сравнить с ней лишь "Святого Бруно" г-жи де***.
4. Великолепная картина Перуджино, полученная, кажется, из Фолиньо,- дар папы Пия VII городу Лиону.
"In attestato di grata ricordanza dell'accoglimento fatto a Sua Santita in Lione"*.
* ("В знак благодарного воспоминания о приеме, устроенном в честь его святейшества в Лионе" (итал.).)
Эти слова написаны на раме. Лион - подлинно религиозный город - вполне этого заслуживал. В 1815 году, по возвращении из Гента, граф де Дама был начальником лионского гарнизона; в былые времена этот генерал командовал одной из дивизий неаполитанской армии, той, которая столь громогласно хвалилась, что освободит Рим, и которую, помнится мне, разбил Шампионе. Граф написал папе, прося его предоставить Лиону в дар эту картину, которую настойчиво требовал обратно Канова, смотритель дворцов его святейшества. Ответ Пия VII был благоприятен, и вышеуказанная фраза взята из письма любезного кардинала Консальви.
Эта картина Перуджино слегка суховата, краски ее бледны. Ангелы склоняются перед святыми дарами. Эти ангелы, похожие на молодых немок, нежных, светловолосых и бесцветных, стоят на коленях в небесах вокруг святых даров. Некоторые головки прелестны. Это - одно из творений великого живописца, в котором меньше, чем в других, заметно отсутствие мысли, и поэтому это один из его шедевров.
5. Еще одна картина Перуджино - "Два святых", написанная на крышке дарохранилища.
6. Несколько святых и Христос среди них - прекрасный эскиз или неоконченная картина (из Наполеоновского музея).
7 и 8. "Жертвоприношение Авраама" Андреа дель Сарто и "Бичевание Христа" Пальма Веккьо - два добросовестных, но посредственных полотна (Наполеоновский музей).
9. Две картины Жувене. "Христос, изгоняющий торговцев из храма" считается лучшим произведением этого живописца (Наполеоновский музей). На меня оно производит впечатление грубого, но правдивого и жизнерадостного эскиза.
10. Красивая головка юноши, приписываемая Рембрандту (неправильно, но она приятна).
11. Несколько недурных картин Стелла*. Когда вы находитесь в Лионе, нужно хвалить Стелла и Камилла Жордана**.
* (Стелла (1596-1657) - французский художник, подражавший Пуссену; уроженец Лиона.)
** (Жордан, Камилл (1771-1821) - политический деятель, либерал, уроженец Лиона, принимал участие в роялистском восстании 1793 года в Лионе. Во время Реставрации был виднейшим представителем либеральной оппозиции в парламенте.)
12. Рубенс. Св. Доминик и св. Франциск заступаются за род человеческий, который Иисус Христос хочет наказать. В руках у Христа, почти совсем обнаженного, молния, и его можно принять за разгневанного Юпитера; он собирается испепелить землю. Богоматерь - красивая фламандка, свежая и дородная, тоже умоляет Христа, указывая, по-моему, без всякого смысла, на грудь, его вскормившую. В углу картины бог-отец, закутанный в длинную красную мантию, довольно безучастно смотрит на происходящее. Группа святых, преклонив колена, просит пощады. Св. Франциск и св. Доминик, однако, не унижаются до тщетной мольбы; один расстелил свою ризу, другой простирает руку перед землею, изображенной в виде прекрасного голубого глобуса. Они словно говорят Христу: "Бросай же молнию, если посмеешь!" Сюжет картины комичен. Святые обращаются с Христом, как с рассерженным ребенком. Но сюжет был дан монастырем, заказавшим картину. (Об этом всегда следует помнить, глядя на картины, относящиеся к годам, предшествующим 1700 году.)
Достойны восхищения композиция, гармония красок, правдивость и жизненность всех персонажей. Лица св. Франциска и св. Доминика не чужды известного благородства, которое пристало бы фламандскому бургомистру. Трудно найти другую, столь же замечательную картину с таким богатством тонов. Кажется, что она написана метлой, и все же как превосходно переданы в ней ткани и тело!
Сегодня утром, при ярком солнце я проходил по площади Белькур, мимо мясной лавки, которая находится на самом солнцепеке; содержится она очень опрятно: куски свежего мяса лежали на белом холсте.
Основные краски здесь бледно-красная, желтая и белая. "Вот общий тон картин Рубенса",- подумал я.
13. Большое количество картин так называемой Лионской школы. Лет тридцать тому назад эти художники вздумали создать школу. Основатели ее - Лоран, Ревуаль, Бонфон. Г-н Бонфон, в настоящее время директор музея, превзошел, по моему мнению, своих соперников. Манера письма этой школы жесткая, сухая, холодная, лишенная приятности и жеманная до невозможности. На картинах г-на Ревуаля всегда одно и то же женское лицо, изображенное с чопорной прелестью литографии.
14. Довольно удачный портрет г-на Жаккара, кисти Бонфона.
15. Прекрасный автопортрет Миньяра.
16. "Вильгельм III, английский король" кисти Давида Ван-Хенна. Хороший и очень любопытный портрет. Лицо лукавое и волевое. Достойный соперник нации, созданной Ришелье, а не ее номинального главы, Людовика XIV.
17. Прелестный Пьетро де Кортоне - "Юлий Цезарь, изгоняющий свою жену Кальпурнию".
18. "Крещение Христа" приписывается Луиджи Карраччи (посредственно).
Совсем недавно открыта галерея гипсовых слепков и бюстов. Очень хорошее помещение, просторное, неплохо освещенное и отделанное. Я видел там большое количество гипсовых слепков с античных статуй. Насколько могли бы они обогатить умственный кругозор наших молодых людей, если бы в этих юношах горел священный огонь! Но теперь больше нет священного огня! В этой галерее собраны мраморные бюсты самых замечательных людей - уроженцев Лиона: Жюсье*, Жаккара, скульптора Шиньяра, Стелла, Делорма, Гроньяра. Тщетно искал я Ампера и Лемонте. Последнего, быть может, считают неверующим - тяжкое преступление в глазах этого города.
* (Жюсье (1686-1758) - французский ботаник; Шиньяр (1756-1813) - популярный в свое время французский скульптор; Гроньяр, Франсуа - богатый коммерсант, завещавший городу Лиону крупные суммы на дела благотворительности и украшение города.)
Только что были доставлены простой посылкой без всякого письменного извещения около двадцати картин без рам; их сложили кучей на полу этого зала. Они посланы на имя мэра Лиона, но кем и почему - неизвестно.
Мое любопытство было сильно возбуждено. Мне разрешили посмотреть эти полотна, и я с легкостью узнал прекрасные картины болонскои и венецианской школ. Кто мог сделать такой подарок городу Лиону?
Из всех этих картин больше всего меня поразило "Снятие с креста", как я полагаю, Аннибале Карраччи.
Тяжкий долг путешественника заставил меня посетить выставку, только что открытую, в пользу лионских рабочих. Я снова увидел замечательных "Рыбаков" Леопольда Робера, превосходную картину на фарфоре Константена, "Переход через Березину" Шарле. Один из стоявших рядом со мной посетителей не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: "Аббаты никогда не были расположены к императору!" Это имело большой успех. Остальные картины показались мне еще более утрированными, более далекими от жизненной правды, еще более вычурными и фальшивыми, чем литературные статьи, которыми полны провинциальные газеты.
На следующий день после посещения музея я узнал, что картины, появление которых всех так поразило, были посланы из Рима кардиналом Фешем*, который все еще считает себя архиепископом Лиона и все еще столь же благочестив, как был до 1815 года, находясь при дворе своего племянника. Он был достоин состоять при этом дворе по своему твердому и непреклонному характеру. Этот архиепископ, узнав о бедственном положении лионских рабочих, не имея наличных денег, пожертвовал часть картин из своей коллекции. Он выразил желание, чтобы они были проданы, а вырученные деньги распределены между безработными. Но кто, черт возьми, купит в Лионе итальянские картины?
* (Кардинал Феш (1763-1839) - дядя Наполеона, архиепископ Лиона, сохранивший свое положение и после Реставрации.)
Лион, 4 июня.
Мне всегда становится грустно на душе, когда я вижу на улицах несчастных рабочих шелкового производства. Они женятся, рассчитывая на заработок, который неожиданно теряют каждые пять - шесть лет. Тогда они поют на улицах: это приличный способ просить милостыню. Эти бедняки, к которым я испытываю глубокое сострадание, отравляют мне сумерки - самое поэтичное время дня. В эти часы их число удваивается на улицах. В 1828 и 1829 годах я видел лионских рабочих, одетых не хуже нас; они работали только три дня в неделю и весело проводили время, играя в шары или сидя в кафе "Бротто".
(Будь правительство смелым, оно могло бы потребовать от лионского духовенства, чтобы необеспеченных рабочих не склоняли к браку. Оно же поступает как раз наоборот: даже в исповедальне только и проповедуют брак.)
Эти лионские рабочие производят шелка, отличающиеся яркостью и свежестью красок, в комнате, в которой живут со всей своей несчастной семьей. Целые дни младший компаньон каждой лионской шелковой мануфактуры бегает из одной квартиры рабочего в другую (таких мастерских насчитывается пятнадцать тысяч) и оплачивает рабочих в зависимости от их выработки. За исполнение этих обязанностей компаньон получает шесть тысяч франков в год. Вместе с женой и детьми он расходует пять тысяч, а тысячу откладывает. После сорока лет труда эти сбережения вырастают в сто тысяч франков. Тогда отец семейства поселяется в сельском домике в четырех или пяти лье от родного города. Но если среди столь спокойной жизни начинается мятеж, лионец дерется, как лев. Эта тихая, благоразумная, размеренная, лишенная всяких событий жизнь, от которой я через каких-нибудь два года неминуемо бы умер, приводит лионца в восхищение. Он влюблен в свой город. Он с восторгом говорит обо всем, что в нем имеется. Поэтому меня и повели посмотреть на некое чудо, а это оказалось всего-навсего большим помещением на набережной Сен-Клер, где шестьсот человек каждое воскресенье, собравшись вместе, пьют пиво.
На левом берегу Роны, в Дофине, было когда-то небольшое предместье Лиона под названием Ла Гильотьер, которое недавно превратилось в город с двадцатью четырьмя тысячами жителей. К несчастью, Рона имеет тенденцию уйти за пределы Лиона и передвинуться в Ла Гильотьер. Двадцать лет тому назад встал вопрос о постройке мощной плотины, однако до сих пор ничего в этом направлении не сделано. Во время Реставрации иезуиты захватили это дело в свои руки ("Снова эти иезуиты!" - воскликнул один из моих друзей, читая рукопись. Он прав, я стыжусь этих повторений). Иезуиты подобрались к руководству строительством в качестве администраторов богадельни, которой принадлежат недвижимости по одну и по другую стороны Роны. Но трудности проистекают здесь от природных условий, одними интригами ничего не достигнешь, и постройка плотины не подвинулась ни на шаг. Рассказывают о любопытных происках разных лиц, но это заняло бы шесть страниц. В общем, я услышал столько противоречивого и несуразного насчет этой ронской плотины, что предпочитаю не вдаваться в подробности.
Ла Гильотьер опирается на мощные укрепления на левом берегу Роны, против Круа-Русс; и если бы король Сардинии вздумал когда-нибудь осадить его, отвага местных жителей сделала бы это предместье неприступным.
...И ожидать могли бы мы едва ли, Чтоб имя короля в том деле повстречали.
Но можно ли поверить, что в Лионе имеются люди, которые готовы представить этого монарха страшилищем в глазах своих сограждан?
Мне рассказали сегодня утром раздирающую душу историю.
Несчастье этого города в следующем: здесь слишком легкомысленно заключаются браки. В девятнадцатом веке брак - это роскошь и даже большая роскошь. Нужно быть очень богатым, чтобы себе ее разрешить. И затем, что за мания увеличивать число нищих! Ведь сын буржуа, "господский сын", как говорят в Лионе, никогда не станет столяром или сапожником. Пока император воевал, можно было без особых помех потакать своим патриархальным вкусам и плодить детей. Но с 1815 года выбрать шестнадцатилетнему сыну профессию - дело весьма нелегкое, и это затруднение отцов семейств легко может стать серьезной трудностью для государства.
Самое разумное было бы внушить священникам, чтобы те признали грехом манию давать жизнь существу, обреченному на голод; но духовенство действует как раз наоборот*.
* (Г-н аббат Р. и г-жа Р. в Эшкре.)
Если примерно к 1870 году станут судить о безнравственности деяния по количеству несчастий, из него проистекающих, то доверие, которым эта теория пользуется в народе, поистине вызовет ужас.
В Соединенных Штатах также совершают необдуманные браки, но молодой американец всегда может найти выход: за двести пятьдесят франков он покупает пятьдесят арпанов леса, за две тысячи - раба и, потратив еще тысячу франков на сельскохозяйственные орудия и продовольствие, поселяется на полгода с женой и детьми в девственном лесу, который окаймляет его страну и придает ей такое своеобразие. Правда, колонист должен быть плотником, столяром, мясником и в первый год не имеет крыши над головой. Но у него есть почти полная уверенность, что он оставит каждому из своих детей по ферме.
Сравните же его участь с участью сына лионского негоцианта, несчастного, весьма благочестивого юноши, знающего латынь, читавшего Расина, привыкшего носить платье из дорогого сукна, который в двадцать лет, похоронив отца, вступает в жизнь, привыкнув к тому, что называют у нас "удовольствиями", и имея при этом восемьсот ливров в год. Вот куда ведет брак в девятнадцатом веке. Во Франции только крестьянин имеет возможность жениться: под другим названием он находится в том же положении, что и американский поселенец. Его сынишка с семи лет уже что-то зарабатывает, поэтому отец не хочет расставаться с ним, чтобы учить его грамоте.
Мысли эти весьма прискорбны.
По аналогичной причине я не стану говорить о двух восстаниях, 1831 и 1834 годов. Лионцы нередко заблуждались, но проявили сверхчеловеческую храбрость. Мне оказали необычайную любезность, предоставив для ознакомления двести страниц, исписанных мелким, бисерным почерком,- очень подробное описание изо дня в день этих двух восстаний. (Когда-нибудь эта рукопись увидит свет, пока же я позволяю себе сказать лишь одно: она противоречит почти всему, что было напечатано до сих пор об этих событиях.)
Когда в Лионе оказываешься в обществе пожилого человека, следует навести его на разговор о знаменитой осаде 1793 года. Если бы союзники, враги Франции, обладали хотя бы каплей военного таланта, они могли из Тулона подняться по Роне и прийти на помощь лионцам. К счастью, в ту эпоху только гениальные люди умели воевать.
После взятия Лиона полсотни лионцев, связанных попарно за руки, повели на равнину Брото, где их должны были расстрелять. Когда они туда шли, одному из этих мужественных людей удалось освободить правую руку, связанную с левой рукой своего товарища по несчастью.
- Освободитесь окончательно,- сказал он ему тихо,- и по первой же боковой улице мы улизнем.
- Что вы говорите! - сказал ему тот возмущенно.- Вы меня скомпрометируете.
Эти слова рисуют баранью храбрость эпохи и весьма малое присутствие духа в минуты опасности,- вот к чему чахлая цивилизация привела французов. Разве так поступали во времена Лиги? Читая бесхитростные, замечательные дневники Генриха III и Генриха IV*, можно подумать, что речь идет о другом народе.
* ("....дневники Генриха III и Генриха IV..." - мемуары французского хрониста XVI века Пьера де Летуаля, известные под названием "Дневники царствования Генриха III и Генриха IV". Мемуары содержат живую и яркую картину религиозных смут, раздиравших Францию в царствование Генриха III.)
Не так следовало бы поступать, если бы - что совершенно невозможно - во Франции вновь воцарился террор. Нужно, не боясь смерти, пытаться убить человека, который вас арестует. Тогда молодой человек не дал бы двум старым полицейским увести себя из своего дома в тюрьму. Каждый арест становился бы патетической сценой, женщины принимали бы в ней участие, слышались бы крики, и т. д., и т. д. Ввели бы в моду стрелять в того, кто собирается арестовать вас.
Сегодня вечером, гуляя по берегу Соны, я слышал провансальскую песню - нежную, веселую, удивительно своеобразную. Пели два марсельских матроса вместе со своей землячкой. Ни в чем так не проявляется разница между Парижем и Марселем. Все доступно уму француза, и в музыке это дает ему возможность справляться с большими трудностями. Но так как он полностью лишен музыкального чутья, то есть ему чуждо чувство ритма, а резкие звуки не режут ему слух, он наслаждается отвратительной музыкой, вызывающей, как я видел в Лионе, аплодисменты.
Народ, которому доставляет удовольствие такого рода музыка, может похвалиться своим своеобразием; он не только не способен воспринимать хорошее, но он любит плохое. В музыке француза привлекают только кадрили, вальсы и солдатские песни. Вместе с тем он разумом доходит до того, что аплодирует преодоленной трудности. Уже несколько лет он считает, что можно, не роняя своего достоинства, восторгаться Россини, а затем и Бетховеном. В самом деле, сочетания звуков этой столь мудрой, почти математической гармонии создает благоприятную почву для той способности понимать, которая столь характерна для французского духа. Отсюда вытекает, что после двух - трех лет показного восхищения Бетховеном великий композитор действительно начинает доставлять некоторое удовольствие.
Не подлежит сомнению, что, если бы для концертов Консерватории и для Итальянской оперы отводились обширные залы, где для каждого посетителя нашлось бы удобное место, их вскоре перестали бы посещать.
В отношении живописи дело обстоит иначе. Франция породила Лесюера и Прюдона, а в наши дни - Эжена Делакруа. Следовательно, мы не совсем лишены, хотя бы в минимальной степени, врожденного влечения к этому роду искусства. В известной степени мы сами даем оценку картинам, если только Академия не закрыла им доступа в Лувр. Поэтому картина Микеланджело "Страшный суд" в неплохой копии г-на Сигалона, выставленная в августе 1837 года, не имела никакого успеха. Если бы сам творец фрески не пользовался известностью, "Страшный суд" был бы освистан. Все это очень просто: француз любит прилизанные остроумные миниатюры.
В той же самой церкви Малых августинцев, где великий человек выставлен на суд варваров, в углу стоит гипсовый слепок с бюста Микеланджело, относящийся, как я думаю, к 1560 году. Если вы хотите убедиться в разнице между итальянскими и французскими мастерами, пойдите в Лувр; в десяти шагах от входа вы увидите французский бюст Микеланджело. Перед вами разгневанный тамбур-мажор. Для истинного француза представление о Микеланджело и о важности, которую тот должен был себе придавать, несовместимо с меланхолическим и простым человеком из церкви Малых августинцев.
Французы, которые с таким блеском говорят обо всем, что знают, и о многом, чего не знают, начинают болтать ерунду только тогда, когда рассуждают о музыке. По несчастной случайности, именно в те минуты, когда они наиболее смело вещают, они наиболее ярко проявляют свое полное невежество и нечувствительность.
Французы прекрасно понимают, что им нечего сказать на первом представлении новой оперы; из тщеславия они стремятся получить музыкальное образование, но они полностью лишены способности чувствовать музыку. Лионцы пригласили к себе итальянскую труппу, которая должна вскоре начать свои выступления. Они будут аплодировать слишком длинным fermata г-жи Персиани.
Один лионец, который слывет умнейшим человеком в городе, сказал мне вчера с торжествующим видом: "Никак не могу понять, почему итальянцы создают такую славу живописцу, прозванному Корреджо! Он не умеет рисовать. Все лица у него с очень длинными подбородками. Этот итальянец пишет вроде нашего Буше, но, безусловно, ему уступает".
Все присутствующие стали аплодировать, и я в первую очередь. Было бы непростительно что-либо менять в людях с подобным вкусом. Надо их сохранить полностью.
В либретто французских опер существует два рода нелепостей, даже в либретто г-на Скриба, бесспорно, умного человека. В них люди говорят высоким стилем. В "Любовном напитке" вместо "здесь" говорят "в сих местах", вместо "он спит" - "он вкушает сон", вместо "до свадьбы" - "до бракосочетания". Такой язык расхолаживает зрителя и убивает драматический эффект, если только есть что убивать. "Вильгельм Телль" еще того хуже.
Но это еще не все; многие из этих злосчастных произведений написаны стихами. И поскольку музыка заставляет повторять слова, эти стихи никогда не доходят до слуха зрителя. Они существуют лишь для несчастного немца, который читает пьесу. К тому же, как может то, что писатели называют гармонией стиха, дойти до слуха зрителя сквозь мелодию, какой бы она ни была? Сколько нелепостей сразу! Меня заклюют насмерть за то, что я осмелился это сказать.
Лион, 7 июня.
Сегодня утром я отправился в Вьенну, чтобы познакомить с тамошними древностями своего приятеля, английского офицера, который столь любезен, что считает меня - поскольку я торговал железом в Италии - большим знатоком, чем он сам. Мы очень приятно проехались пароходом и вернулись в почтовой карете.
Вечер - самое тягостное время в путешествии; когда бьет десять часов, признаюсь, я начинаю сожалеть о некоторых парижских салонах, где еще полностью не утрачена естественность, где деньги и знакомство с министрами не единственные божества (хотя и там это все же божества). Вчерашний вечер я очень приятно провел с моим англичанином, который способен иногда посмеяться (указать на это - значит его назвать). Люди, знакомые с ним, не удивятся тому уважению, с каким я отношусь к его словам. Мы рассуждали о будущих войнах, которые будут короткими. После двух военных кампаний палаты народных представителей, оплачивающие расходы, перестанут гневаться, и уж во всяком случае Англия никогда не будет гневаться на Францию. Когда римский сенат замечал, что народ настаивает на разумной реформе, он затевал войну. Тори хотели бы следовать этой старой, испытанной тактике, однако свобода печати свела бы на нет их напыщенные фразы о любви к родине, об обязанности отомстить за нее и т. п.
После этих больших вопросов, которые мы обсуждали очень углубленно, мы обратились к мелочам не столь серьезного порядка.
- Нас очень смущает в Англии,- сказал мне мой приятель,- принятая в нашей стране палочная расправа с провинившимися солдатами. Вы знаете, что у нас запросы в парламенте - дело нешуточное. Герцог Веллингтон, человек, преданный всякой власти, какова бы она ни была, но очень рассудительный и являющийся в своем роде гораздо лучшей опорой деспотизма, чем г-н фон Меттерних, ответил на такой запрос следующее: "Если отменить наказание палками, придется производить в офицеры солдат хорошего поведения, подобно тому, как это практикуется во Франции. Если нашими солдатами перестанет руководить страх, надо будет вселить в них надежду, ибо без одного из этих двух двигателей человек не может идти вперед.
До сих пор юноша, желающий стать офицером в Англии, должен был доказать свою принадлежность к средним слоям аристократии, или, иными словами, ему приходилось за определенную сумму покупать свой чин. Вся ныне существующая система оказалась бы разрушенной снизу доверху, если бы было допущено производство в офицеры отличившихся солдат. Армия у нас не рассуждает, в этом ее основное достоинство; поэтому она не возмущается палочной расправой. Это сама нация неожиданно начала ненавидеть палочные удары и стыдиться их, как в свое время она почувствовала ненависть к рабству.
Применяя в надлежащих случаях палочную расправу и давая ежедневно хорошую пищу, можно иметь превосходную английскую армию. Лучшая армия из всех когда-либо существовавших и лишенная всякого энтузиазма - заметьте себе эту деталь, могущую служить утешением для некоторых людей, - была английская армия, сражавшаяся в Тулузе. С подобной армией и миллионами, предоставленными привилегированными слоями всех стран, Россия могла бы уничтожить свободу в Европе. Каждый человек, сражавшийся в Тулузе, полностью доверял своему соседу и безгранично уважал своего полковника. Десять лет солдаты воевали под начальством тех же генералов; больше того, они были уверены в странах, оставляемых ими в тылу.
Английская армия при Ватерлоо не знала своих генералов и значительно уступала тулузской. "Тем не менее прусская армия потеряла четвертую часть своего личного состава, двигаясь от Ватерлоо до Парижа (я цитирую герцога Веллингтона), а английская не потеряла и двухсот человек. Прусской армии пришлось покинуть некоторые департаменты Франции, так как она не могла там оставаться. Английские корпуса, заменившие прусские полки, отлично там существовали; вот вам блестящий результат дисциплины, то есть палочной расправы".
Маршал Даву должен был дать сражение под Парижем. Что можно было еще потерять, проиграв это сражение? Но в несчастье самый храбрый француз теряет присущую ему ясность мысли; то мужество, которое заключается не только в том, чтобы не бояться смерти, у него совершенно отсутствует".
Забавный анекдот: на улице Лепелетье г-н Напи заставляет иностранного офицера уступить ему свой кабриолет и претерпеть точь-в-точь то же оскорбление, которое офицер нанес ему.
Полковник Фиц-Кларенс - прекрасный офицер, очень храбрый и не раз раненный в сражениях. Тем не менее нельзя, как видно, безнаказанно быть незаконным сыном короля. Однажды за столом в офицерском собрании (the mess) молодой корнет взялся разрезать фазана и с этим плохо справился.
- Мой отец всегда говорил,- заметил полковник, королевский сын, который часто упоминает о своем отце,- что джентльмена узнаешь по манере разрезать мясо.
- А скажите, полковник,- обратился к нему молодой корнет, положив вилку и нож,- что отвечала на это ваша матушка?
В 1814 году английские солдаты, стоявшие на страже у одной из городских застав, не взяли на караул при въезде в Париж графа д'Артуа, наследника престола, ибо офицеры им сказали, что они могут поступать, как хотят,- таков был их наивный ответ, когда их стали бранить за то, что они не оказали должного почтения графу. В этот период английская 2-я армия невзлюбила Бурбонов. Весьма любопытна другого рода подробность об исключительной доверчивости, проявленной при Ватерлоо весьма осторожным герцогом Веллингтоном. Но об этом будут говорить в 1850 году. Французы и англичане глубоко уважают друг друга (национальную вражду питают лишь дураки обеих наций). Англичане понимают, насколько были обмануты при министерстве Питта, обременившем их будущее огромными налогами, чтобы воевать с французами с 1803 по 1815 год!
Лорд Мельбурн* - человек редких способностей, но еще более редкой лени - решил использовать все свои ресурсы лишь при крайней необходимости. Он считает, что невозможно управлять Англией иначе, как с помощью демократии, и он хочет стать у кормила правления.
* (Лорд Мельбурн (1779-1848) - английский политический деятель, виг, занимавший в 1830 году видные посты, вплоть до премьер-министра.)
В Англии во главе каждого частного предприятия, например, железной дороги, с такого-то места по такое-то стоят от пятнадцати до двадцати директоров; у большинства из них состояние в два - три миллиона франков. Они постоянно отсутствовали на заседаниях; но с тех пор, как их оплачивают пожетонно, от двадцати пяти до пятидесяти франков, они стали очень усердны: возвращаясь домой, они отдают эти деньги своим детям, которые их требуют с громким криком.
В ответ на рассказы моего приятеля, английского офицера, я, в свою очередь, угостил его анекдотами о наших бывших министрах: Л., Д., О., С, и т. д., и т. д. Говорил о грехах людей не столь высокопоставленных: об интригах вокруг премии Монтиона; о полной невозможности достигнуть видного положения без помощи интриг, о низком уровне французских врачей и ученых. Целых два часа в день, и притом лучших часа, приходится посвящать тому, чтобы делать карьеру. Достойнейший человек стоит на коленях перед интриганом, ловкость которого признана всеми.
Писателю с европейской известностью, г-ну Скрибу, пришлось бы претерпеть тысячу неприятностей, если бы он разоблачил что-нибудь из современной действительности в своей превосходной комедии "Кумовство". Правдивая комедия "Тартюф" была возможна при деспоте, ибо единственная трудность заключалась в том, чтобы понравиться Людовику XIV. Комедия совершенно неприемлема в современной республике; взгляните, что творится в Соединенных Штатах. Там автора хорошей комедии просто бы линчевали. Вчера в английских газетах писали, что в Америке "убиты радость и любовь". В одном из центральных городов расправились с журналистом, прозванным Love Joy*; он проповедовал освобождение рабов, которые, однако, по учению Иисуса Христа, имеют такую же душу, как и самый набожный американец. "Робер Макер", характернейшая комедия нашего времени, запрещена во Франции. Мэр города Нанта не желает, чтобы ставили "Робера Макера", должно быть, боясь, как бы публика не стала издеваться над мошенниками и не научилась бы их узнавать.
* (Любовь, радость (англ.).)
Глупо в 1837 году, следуя классическим образцам, избирать сюжетом комедии свадьбу. Кто думает нынче о женщинах? Они настолько вышли из моды, что мужчины начинают даже презирать приданое! Виноваты в этом отчасти и дамы со своими претензиями и безграничным властолюбием, заменившим истинную любовь. В клубе я говорю то, что мне приходит в голову, я развлекаюсь, я остроумен. В дамском обществе 1837 года* существует одно, два, четыре ложных понятия, высящихся, как горы, совершенно чуждых галантности, но требующих безусловного уважения.
* (Извините за все эти ссылки на 1837 год. Я хочу сказать, что надеюсь, что в 1847 году все будет иным.)
Правда, эта связанность порождает особую игру ума, мгновенно уничтожаемую свободой; я назвал бы это inuendo*, или апологом: задеть благопристойно и неожиданно благопристойность или религию. Отсюда следует, что глупец вынужден замолчать. В клубе он нагло берет слово, чтобы доказать вам, что свобода полезна. К нему, правда, поворачиваются спиной, но он продолжает болтать свое. Г-н Д. в таких случаях засыпает, когда его оставляют одного; значит, он сам себя наслушался, говорил Жерар. Но повернуться спиной! Какой грубый жест! Он коробит даже того, кто вынужден к нему прибегнуть.
* (Намекая (лат.).)
Один молодой человек из Гренобля сказал нам сегодня вечером:
- Говорят, что поэты в затруднении, не зная, как описать рай; что до меня, то я просил бы у бога немногого:
1. прежде всего сохранить мне нынешнее здоровье;
2. позволить мне каждый год забывать Италию,- тогда я каждый год снова отправлялся бы в Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь и т. д.;
3. позволить мне каждый месяц забывать "Тысячу и одну ночь" и "Дон-Кихота".
Знаменитый сэр Роберт Уолпол, этот совратитель, подкупил современный ему парламент (1721 года) ; но он совратил его ради свободы. Большинство нации и парламента принадлежало к партии тори; только города стремились в те времена к свободе, все остальные были якобитами, и притом страстными якобитами. В конце концов победили города; в самом деле, деятельный и толковый молодой человек из деревни приезжает в город, чтобы пробить себе дорогу. Он наполовину проникается городскими взглядами, а его сын проникается ими уже полностью.
Я не боюсь записывать, но старательно избегаю доводить до печати свои взгляды, способные вызвать чье-то раздражение; но от наших дней до 1847 года мода, быть может, еще дважды переменится. Чем больше она впадает в крайность, тем скорее она отмирает. Тогда поймут, что скука, даже во имя тщеславия и наших привилегий, все же остается скукой.
Мне кажется, что во Франции только города Страсбург, Дижон, Гренобль и т. д. искренне стремятся к свободе печати, без которой суд присяжных был бы заменен специальными заседателями, назначаемыми г-ми начальниками канцелярии префектуры и т. д., и т. д. Без нее мы бы, пожалуй, скоро дошли до превотальных судов и до отсечения руки*, которого добивались при Людовике XVIII.
*Отсечение руки. - 10 февраля 1825 года французский министр Пейронне внес на обсуждение Палаты пэров проект закона о святотатстве, согласно которому повинный в осквернении "святого причастия" подвергался такой же казни, как и отцеубийца: его вели на эшафот босым, с лицом, покрытым черным покрывалом, затем отсекали правую руку, а после того отсекали голову. Этот проект, несмотря на оппозицию со стороны либералов, был, исключая лишь пункт об отсечении руки, принят палатами. Он ни разу не был применен, но своей жестокостью произвел сильнейшее впечатление на общество и, несомненно, способствовал падению режима Реставрации. Проект был предложен не при Людовике XVIII, а при Карле X.
Роберт Уолпол стоял у кормила правления в 1721 году; следовательно, можно было бы предсказать, что к 1920 году в городах Франции восторжествует либерализм. Однако недоверие к словам тех людей, которые за определенную мзду говорят о морали, приводит к тому, что в XIX веке развязка близится с быстротой, сокращающей все сделанные расчеты, и можно предсказать, что в 1860 году во всей Франции воцарятся те взгляды, которые характерны для городов в наши дни. Быть может, читатель обратил уже внимание на то, что моя сдержанность заставляет меня отказаться от допущения возможных случайностей, способных ускоренным ходом привести нас к той форме правления, которая в Англии существует в 1837 году, а также к ее жизнерадостности. Я бы не хотел ни за что на свете, чтобы французский король в 1860 году обладал меньшей властью, чем Вильгельм IV английский.
Сегодня утром мы с моим англичанином, уплатив за вход по одному франку, пошли посмотреть выставленную в одном из залов ратуши большую и прекрасную картину г-на Кура* "Смерть Феро", освистанную в Париже. В зале толпилось множество народа. Я, признаться, согласен с мнением лионцев и не разделяю настроения парижан. Мой англичанин заметил в зале членов общества Белькур, которые привели с собой своих детей, чтобы привить им отвращение к республике. Мысль очень правильная: эта отрубленная свинцового цвета голова способна сильно подействовать на ребенка и определить на всю жизнь его политические склонности.
* (Кур (1797-1865) - французский художник, ученик классика Гро. Стендаль имеет в виду его картину "Буасси д'Англа, склонившийся перед головой Феро" (1833). Эпизод, который имеет в виду Стендаль, произошел 20 мая 1795 года. Революционные массы народа проникли в Национальное собрание, неся на пике голову реакционного депутата Феро, который пытался помешать толпе проникнуть в зал. Говорили, будто бы голову Феро поднесли на пике к лицу Буасси д'Англа, но он в ответ на угрозы поклонился мертвой голове. Этот эпизод и изображен на картине Кура; достоверность его очень сомнительна.)
Англичанин поразился слабому успеху картины.
- Будьте уверены,- сказал я ему,- что господин Кур не принадлежит ни к какой котерии.
Эта картина дает ощущение большой толпы, и при этом сильно возбужденной; и когда глаз, пораженный вначале ансамблем, останавливается на отдельных группах, замечаешь, что каждая из них прекрасно написана и усиливает общее впечатление. Лица женщин очень хороши, и, однако, это не подражание греческим статуям; это подлинные француженки. Депутаты исполнены благородного возмущения, инсургенты предместий взбешены. Нельзя забыть, увидев хоть раз, безрассудную радость простолюдина, который гордится тем, что он на острие пики несет голову Феро. Каждая группа отчетливо изображает какое-нибудь действие. И наконец-а это становится с каждым днем все более редким явлением - живописец соблюдает формы человеческого тела: это ноги, руки людей, крепко сложенных и обуреваемых в данную минуту разбушевавшимися страстями. В этих телах нет ничего жалкого, они полнокровны, и, тем не менее, в них ничто не говорит о послушном подражании статуям. Краски не блестящи: это не праздник для восхищенного глаза, как на полотнах Паоло Веронезе, но они и не раздражают. Общая композиция очень хороша. К тому же - и это наивысшая похвала - персонажи не имеют вида актеров, играющих на сцене - хотя такое предположение и могло бы возникнуть - драму смерти Феро и отваги Буасси д'Англа.
Есть еще одно достоинство, которое остается не замеченным толпой: персонажи этой картины ни в чем не напоминают героев великих мастеров, предшественников г-на Кура.
Однако это важнейшее достоинство является наивысшим преступлением в глазах академиков. Найдет ли г-н Кур министра, который захочет поручить ему работу без рекомендации Академии? Он сможет умереть с голода, как Прюдон, этот наглец, не пожелавший подражать г-ну Давиду (бывшему тогда в моде). И мы еще воображаем, что у нас врожденное понимание живописи! Бываем ли мы несправедливы хоть минутку к приятной книге? Разве не пользовался у нас когда-нибудь успехом забавный каламбур? Хотите вы иметь хорошую, теплую квартиру?
Вот уже двадцать пять дней, как я живу в Лионе и не осмелился еще явиться один в общество "гурманов": было бы слишком очевидно, что я напрашиваюсь на приглашение. Ибо о том, чтобы угостить таких ценителей дрянным обедом в какой-нибудь харчевне, не может быть и речи.
Безрассудная дерзость, беззастенчивость, находчивость и веселость парижского гамена - вот что совершенно чуждо характеру лионца и что могло бы извинить мой визит к гастрономам.
Это не значит, что мне нравится характер парижского гамена: существо это, несмотря на свою юность, уже утратило детскую прелесть, а главное, наивность ребенка. Гамен соображает, до какого предела он может рассчитывать на преимущества своего возраста, чтобы позволить себе дерзость. Это уже двадцатипятилетний парижанин. Он с ловкостью и хладнокровием использует свое положение, чтобы создать себе превосходство над человеком, к которому обращается; но его самоуверенность уменьшается, как только он наталкивается на противодействие.
Я ненавижу парижских гаменов не потому, что они задевают мое самолюбие, а потому, что люблю детство со всей его прелестью и страдаю, видя его изуродованным.
Хезлит* человек умный, англичанин и мизантроп, утверждал, что в Париже нет ничего естественного, даже в восьмилетнем ребенке.
* (Хезлит (1778-1830) - английский критик и моралист-сатирик.)
В Лионе еще можно встретить гамена. В Марселе мы уже совсем близки к природе: ребенок там груб, вспыльчив и во всем похож на своего отца; тем не менее он сохранил всю детскую прелесть. Во всем Дофине дети не утратили естественности.
Я пишу эти излишне серьезные фразы в Лионе, сидя у окна, выходящего на площадь Белькур, где красуется статуя Людовика XIV*. которую приходится охранять часовому. Должен признаться, что Лион навеял на меня уныние. Серьезные дела отнимают у меня слишком мало времени.
* ("Людовик XIV" - скульптура работы Лемота (1826). Стендаль имеет в виду образ Людовика XIV, данный Вольтером в его исторической работе "Век Людовика XIV" (1751).)
Эта статуя изображает Людовика XIV весьма заурядным человеком с точки зрения его духовного облика, но она поражает необычайным сходством. Это настоящий Людовик XIV Вольтера; в нем и в помине нет спокойной и естественной величавости Марка Аврелия из Капитолия. Здесь уже чувствуется влияние рыцарства.
В общем, в этой статуе, на мой взгляд, нашли свое отражение две весьма трудные профессии: монарха и ваятеля. Изображать величие, не вызывая при этом насмешки,- дело весьма нелегкое в наши дни. Вы делаете известные жесты, поднимаете голову, чтобы внушить мне, мэру маленького городка, что вы монарх. Вы не стали бы себя утруждать такими жестами, если бы были один. Поэтому вполне естественно, что я себя спрашиваю: удачно ли играет свою роль этот актер? Действительно ли я нахожу его величественным? И один этот вопрос убивает всякое чувство.
Уже давно не прибегают к жестам, избранное общество полностью лишено естественности; чем более важен вопрос для того, кто о нем говорит, тем более невозмутим вид говорящего. Что же будет с бедной скульптурой, которая вдохновляется только жестами? Она перестанет существовать. Если скульптор захочет изобразить энергичные действия великих людей современности, ему придется чаще всего изображать жеманность. Посмотрите на статую Казимира Перье на кладбище Пер-Лашез: он говорит с большой аффектацией и, чтобы выступить перед своими коллегами по Палате, накинул поверх своего мундира плащ, - отсюда может возникнуть мысль, если, глядя на эту статую, вообще может возникнуть какая-нибудь мысль, - что герой боится дождя на трибуне.
Посмотрите на жест Людовика XIII (на картине г-на Энгра*) в тот момент, когда он отдает свое королевство под покровительство богоматери. Живописец хотел изобразить жест, полный великой страсти, и, несмотря на его большой талант, получился жест носильщика. Прекрасная гравюра г-на Каламатта не могла исправить недочетов оригинала. Богоматерь надула губы, чтобы казаться серьезной и внушить к себе уважение. Однако она несерьезна, несмотря на все свое желание, и этим отличается от мадонны на картинах Рафаэля, которому подражает г-н Энгр.
* (...на картине г-на Энгра.- Имеется в виду картина Энгра "Обет Людовика XIII" (1824).)
Посмотрите на статую Генриха IV на Новом мосту: это рекрут, который боится упасть с лошади. Статуя Людовика XIV на площади Побед выполнена лучше: г-н Франкони заставлял кружиться свою лошадь перед большой толпой людей.
Марк Аврелий же протягивает руку, обращаясь к воинам, и даже не думает о том, чтобы быть величественным и чтобы они его уважали.
- Однако,- сказал мне один французский художник с торжествующим видом,- икры Марка Аврелия сливаются с боками лошади.
На что я ответил:
- Я видел письмо, написанное собственноручно Вольтером, в нем были три орфографические ошибки.
Я бы мог доставить большое удовольствие этому славному человеку, сообщив ему, что, вопреки мнению ученейшего г-на Катремера*, статуя Марка Аврелия вся составлена из частей и кусков. Как бы он возгордился превосходством современных формовщиков! Следует отметить, что и скульпторы, изваявшие статуи в аббатстве Бру (в Бюже), умели создать лист виноградной лозы, отстоящий на три дюйма от мраморной глыбы, из которой он был высечен.
* (Катремер де Кенси (1755-1849) - французский историк искусства. Один из теоретиков классической школы. О кокной статуе Марка Аврелия в Риме он говорит в своей книге "Юпитер Олимпийский" (1814).)
Техника искусства совершенствуется, прекрасно отливают птиц с натуры, но короли и великие люди, которым мы воздвигаем статуи на площадях, имеют вид актеров, и - что еще того хуже - нередко плохих актеров.
Людовик XIV на площади Белькур выглядит превосходным наездником. Возможно, что скульптору позировал какой-нибудь министр внутренних дел.
Эта площадь, столь прославленная в Лионе, скорее безлюдна, чем велика. Фасады площади Белькур, как высокопарно выражаются в Лионе, по большей части населены аристократией, очень благочестивой и весьма унылой. Нет ничего более тоскливого, чем площадь Белькур.
Мои любезные друзья устраивают ужины по субботам и встречаются друг с другом по вечерам, но днем их не найти. Когда у меня, к несчастью, нет никакого дела и я готов со скуки отдать душу черту, я отправляюсь на Сону и нанимаю "бреш" у набережной Фелье.
Набережная Соны, прекрасно расположенная, окруженная холмами и характерными зданиями, представляет лето в Лионе, а набережная Роны - современное ничтожество и зиму.
Увлеченный приведенным мною образом, я совсем позабыл сказать, что "бреш" - это небольшая лодка с холщовым навесом, натянутым на обруч; она приводится в движение двумя веслами, причем гребет девушка, которая своей грацией, необычайной опрятностью, придающей ей особое изящество, и почти мужской силой напоминает молоденьких лодочниц с швейцарских озер. Прогулки по Соне совершаются по направлению к острову Барб.
В воскресные и особенно в праздничные дни все эти лодочницы сидят на парапете набережной в порядке прибытия, хотя самые хорошенькие прекрасно понимают, что приезжие выберут их первыми. Девушки смело заговаривают с ними, расхваливая прогулку и описывая прелестные места, куда их повезут.
Воды Соны имеют столь небольшой наклон, что зачастую трудно бывает определить направление течения, и молоденькой девушке вполне хватает сил, чтобы управлять лодкой. Надо нанять двух лодочниц, заплатить им немного больше, чем платят обычно, и установить между ними своего рода соперничество.
Сегодня вечером наши деловые интересы, связанные с банкротством одной фирмы, задолжавшей нам 35 000 франков, заставили меня побывать в одном аристократическом доме на площади Белькур. Я познакомился там с одним из храбрецов, сражавшихся под начальством г-на де Преси, и нашел, что он весьма неглупый человек. Он рассказал мне, что растерянность сторонников старой монархии началась 24 августа 1774 года, когда министром финансов (генеральным контролером) был назначен г-н Тюрго, поставивший деспотизм министра на службу общественному мнению. Четыре года спустя Вольтер приехал в Париж и восторжествовал над королем, над парламентом и над духовенством.
Этот храбрый офицер, служивший под начальством г-на де Преси, дал современному положению самое простое объяснение. Не буду излагать его соображений. Я отвечал:
- О чем следует жалеть? Весьма нередко при Луи-Филиппе его семь министров являлись семью наименее отсталыми людьми Франции. При Людовике XVIII, за исключением одного или двух случаев, наблюдалось как раз обратное. Этот монарх часто назначал приятных людей, вроде аббата де Монтескью*.
* (Аббат де Монтескью (1757-1832) - французский политический деятель, роялист, один из авторов конституционной Хартии 1814 года.)
- Но когда он назначал рассудительных людей?
- Что же касается Хартии, то она очень походит, по моему мнению, на Библию - основу нашей религии, в которой самый смышленый не сможет разобраться. Короля, выигравшего два сражения, французы боготворили бы, и он мог бы им быстро доказать, что его правление, каково бы оно ни было, полностью соответствует Хартии. Со времен Барнава, Сьейеса и Мирабо у нас имеются достижения лишь по четырем пунктам:
1. Король принужден назначать министрами людей, которые умеют произносить речи с трибуны не хуже лучших ораторов из числа депутатов.
2. Мы привлекли на свою сторону "Charivari" - это факт огромного значения. Французы приобрели привычку развлекаться по утрам, читая эту газету; эту привычку тем более трудно искоренить, что они острят целый день, пользуясь остротами своей газеты. "Charivari" одна сделала бы невозможным воцарение второго Наполеона, даже выигравшего десять Аркольских битв. Его первые шаги к диктатуре, его вид превосходства сделали бы его посмешищем, вместо того чтобы вызвать энтузиазм.
3. Европа еще с уважением вспоминает, что Французская империя простиралась от Гамбурга до Террачины - вот чем обязана Франция Наполеону. Взятие Константины оживило это чувство, которого оно само не могло бы породить.
4. Народы Европы, обманутые столькими обещаниями, прекрасно знают, что, если они когда-нибудь добьются свободы, эта свобода придет к ним из Франции,- вот почему они не читают английских газет, тогда как вырывают друг у друга парижские. В Магдебурге в прошлом году меня спросили, какого цвета волосы у г-на Гарнье-Пажеса*.
* (Гарнье-Пажес (1801-1841) - один из деятелей республиканского движения в период Июльской монархии.)
Вьенна, 9 июня 1837 г.
Наконец я приехал в Вьенну по отвратительной дороге - сплошь спуски и подъемы. Два или три раза мою маленькую коляску чуть не разбили огромные телеги из Прованса с впряженными в них шестерками лошадей. И, что особенно нестерпимо для благородного сердца, я даже не мог отомстить: при малейшем отпоре с моей стороны меня избили бы кнутом двое либо трое провансальских возниц, самых вспыльчивых и грубых из всех возниц на свете. Правда, у меня имеются пистолеты, но эти возницы, быть может, испугались бы лишь после выстрела. А к чему такая крайняя мера!
Я мог бы сделать то же замечание, что и в Гатине: почему бы не провести проезжую дорогу из Лиона в Вьенну по правому берегу Роны, где нет гор? Вы попадали бы в Вьенну через красивый висячий мост, по которому я только что гулял. Дорогу могли бы, как мне кажется, провести и по левому берегу.
Какой-то очень любезный господин, встреченный мной по пути, сообщил мне, что здесь беспрестанно приходится чинить мостовую. Содержание десяти лье мостовой на этой дороге обходится ежегодно в сорок тысяч франков, а то и больше. Число погибающих в этих местах лошадей, печальные останки которых то и дело встречаются путнику, очень велико. По всей вероятности, в этом уголке Франции проезжает наибольшее количество тяжелых телег. Все мыло, растительное масло, сухие фрукты, которыми юг снабжает Париж и север Франции, следуют по этому пути. Заметьте, что почти не используется навигация по Роне, ибо у этой реки слишком быстрое течение, чтобы по ней подниматься. Именно в данном месте Франции следовало бы начать постройку железных дорог.
По правде сказать, это единственная железная дорога, которую я считаю разумной, иначе говоря, единственная, которая могла бы приносить 6-7 процентов дохода на вложенный капитал. Г-н Керменган считает, что постройка железной дороги от Марселя до Соны, немного повыше Лиона, должна обойтись в 66 миллионов. Он провел все лето, изучая этот вопрос.
Потребовался бы миллиард, чтобы провести большую крестообразную железнодорожную линию, то есть железную дорогу из Марселя в Гавр через Лион и Париж, другую - из Страсбурга в Нант, третью - из Парижа в Бельгию с веткой на Кале. Но никто до сих пор не изучал финансовую сторону дела. Удастся ли здравому смыслу разрешить вопрос о железных дорогах? По правде, я этому не верю. Мода, подкрепленная ценными подарками, будет способствовать строительству новых путей сообщения. Приятно выпускать акции, приносящие 10 процентов дивиденда! Не все ли равно, что станет с самим предприятием? Учредитель, человек смелый, получит свой барыш. За пять с половиной часов вы добираетесь из Гавра в Руан пароходом: к чему же еще железная дорога? Можно было бы при желании проложить железную дорогу из Руана в Париж. Не знаю, найдется ли достаточное число пассажиров из Кале в Париж, чтобы оплатить стоимость и содержание дороги. Но где найти разумных людей, чтобы обсудить эти вопросы и еще целый ряд других? Палата последнего созыва, весьма, впрочем, почтенная, доказала в этом отношении свою полную несостоятельность.
Наш корреспондент из Лиона дал мне возможность ознакомиться с прекрасным проектом постройки железной дороги из Лиона в Марсель, который составил генеральный инспектор мостов и дорог г-н Керменган. Я теперь путешествую, пользуясь отлично выполненной картой, которою снабжен этот проект.
Чтобы ясно выразить пришедшую мне в голову мысль, я принужден назвать несколько фамилий. Прошу прощения у заинтересованных лиц.
Таланты г-на Керменгана так же неоспоримы, как и его безукоризненная честность. То же самое можно сказать и о г-не Балле, которому поручены изыскания по постройке железной дороги из Парижа в Брюссель, и о г-не Полонсо, запроектировавшем железнодорожный путь из Парижа в Гавр по долинам.
Следовало бы к этим трем инженерам добавить еще трех негоциантов, избранных парижскими деловыми кругами, и какого-нибудь первоклассного ученого, вроде г-на Араго. Запросив комиссию, составленную из этих семи лиц, можно было бы надеяться добиться истины. Но что делать, если ответы этой слишком почтенной комиссии противоречат моде, которой власти пожелали следовать в настоящее время? Не рекомендовал ли кардинал Ришелье в монархии обращаться к услугам возможно меньшего количества добродетельных людей?
(Я ничего не стану менять в этих строках до тех пор, пока правительство не займется этим вопросом.)
К великому сожалению, железные дороги не могут воспользоваться гласностью, которая волей-неволей благодаря свободе печати проливает свет на все проблемы.
Эту проблему слишком трудно разъяснить. Изложение трудностей, подлежащих разрешению, скоро наскучит читателю, а заинтересованный чиновник восторжествует и заставит своего министра подписать все, что этому чиновнику будет угодно.
Мне бы страстно хотелось, чтобы все высказанное здесь было неправильно; Франция оказалась бы тогда более цивилизованной. Никто не станет писать эпиграмм, чтобы воздействовать на ленивцев, получающих жалованье за то, что они занимаются железными дорогами. Тема эта слишком скучна, и журналисту, стремящемуся лишь к тому, чтобы позабавить людей, не хватит терпения со всею ясностью рассказать о мошенничествах, имеющих место на железной дороге. Поэтому ловкие люди могут спокойно спекулировать на этом важном поприще: выпустить, например, две тысячи железнодорожных акций по пяти тысяч франков и, хотя эта железная дорога может давать самое большее три процента с капитала, израсходованного на ее постройку, уверить публику через газеты, что она будет давать десять процентов, затем продать по семи тысяч франков все акции, выпущенные по пяти тысяч, и распрощаться с предприятием.
Этого бы не могло случиться, если бы каждую железную дорогу возглавляла комиссия ученых, которая умела бы считать и была бы неподкупна.
Что станет с капиталами, вложенными в железные дороги, если будет найден способ передвижения вагонов по обыкновенным дорогам?
С другой стороны, железные дороги делают невозможными войны: война слишком затронула бы интересы соседних государств. Но ведь властителю она может быть выгодна?
Вьенна, IV июня.
Жители Вьенны любезны и совсем не боятся уронить свое достоинство, беседуя с незнакомым путником. Как это не похоже на Париж! Меня представили г-ну Буасса, нотариусу, самому влиятельному человеку в Вьенне, который покорил всех своей добротой.
Новый город весьма непригляден, но зато расположен он восхитительно. Я это предпочитаю хорошо построенному городу, но брошенному в какую-нибудь низину, как, например, замок Фонтенебло.
Та Вьенна, которую римляне называли Pulchra*, еще существует частью на склоне холмов, возвышающихся над течением Роны, частью на небольшой земляной косе, расположенной между рекой и указанными холмами. Город окружен горами, из которых одни лишены растительности, на других кудрявится лесная поросль. Их разнообразные очертания причудливо вырисовываются на горизонте.
* (Красивая, прекрасная (лат.).)
Чтобы получить общее представление о горах и о течении Роны, я собрался с духом и, несмотря на мучительную жару, поднялся до развалин старого замка, возвышающегося на горе Соломона. С этого места вид просто поразительный; кажется, что Рона опрокинула скалы и холмы, чтобы расчистить себе путь. Достигнув Вьенны, она, словно узник, течет между высокими скалистыми стенами. Речонка Жер, спускающаяся с высокой долины и приводящая в движение колеса многочисленных заводов и суконных фабрик, впадает в Рону приблизительно в середине города.
Вьенна была главным средоточием аллоброгов. Этому воинственному народу границами служили Рона, Изера и Альпы. Сначала аллоброги были побеждены Домицием Энобардом, а затем окончательно покорены Цезарем. После этого Вьенна стала главным городом римской провинции; Тиберий сделал из нее римскую колонию.
Здесь стоит осмотреть четыре достопримечательности, на что достаточно пяти - шести часов:
1. Маленький античный храм, в котором епископ Бурхард возмутительным образом обтесал колонны и, что еще того хуже, построил в промежутках между ними отвратительную стену. Храм этот называют Преторием. Сейчас в нем помещается музей.
2. Готическую церковь св. Маврикия, довольно заурядную, но прекрасно расположенную на площадке, куда взбираешься по двадцати восьми ступеням.
3. Пирамиду, находящуюся за пределами города, древнюю неоконченную гробницу, которую местные жители называют "Иглой".
4. Развалины театра и крепости, заросшие виноградными лозами.
Сначала я поднялся к собору св. Маврикия, который возвышается над главной улицей. Эта церковь приземиста и лишена характерных особенностей, но в ней хорошее освещение. Постройка начата в 1052 году и закончена только к середине XVI века. Портал, а также та часть нефа, которая соприкасается с ним, относятся к тому же XVI веку.
Оттуда я отправился в виноградники, чтобы посмотреть, что осталось от театра. Он был прекрасно расположен, так же как театр Альбано близ Рима. Архитекторы всегда искали холм, чтобы он мог служить опорой скамьям амфитеатра. Я рассмотрел стены, скамьи, часть круговой стены театра: она еще хорошо сохранилась; подлинность этого памятника не вызывает никаких сомнений. Над театром виднеются остатки римской крепости, стены которой были воздвигнуты в средние века. Я полюбовался огромными развалинами римских акведуков. Часть акведука служит теперь складом для хвороста какой-то хлебопекарни.
Проводник свел меня к так называемой "Игле", Пирамида эта возвышается посреди поля, неподалеку от последних домов предместья со стороны Баланса. Это подлинно античный памятник, только он очень безобразен. Сначала замечаешь пирамиду из четырех стен, на известном уровне полую; основание у нее квадратное, поддерживается четырьмя аркадами, менее уродливыми, чем сама пирамида; под ними имеется проход. В четырех углах основания вделаны колонны. Вершина пирамиды возвышается на семьдесят два фута над землей.
Так как капители колонн сделаны лишь начерно, я склонен думать, что этот памятник, каков бы он ни был, остался незаконченным. Известно, что римляне отделывали на месте различные архитектурные детали. Вьеннская пирамида имеет по крайней мере то достоинство, что она построена из огромных и прекрасно соединенных камней. Незаметно и следа цемента, но в камнях, как и в римском Колизее, видны глубокие пробоины, сделанные варварскими племенами, вероятно, для того, чтобы похитить металлические скрепы.
Этот памятник был, по-видимому, поставлен в честь какого-нибудь из тех императоров, которых преторианцы свергали с престола после нескольких месяцев царствования; вероятно, из-за смерти императора гробница не была закончена.
Когда мы вернулись в город, мой чичероне повел меня в церковь аббатства св. Петра; вход в нее украшают три примитивные группы. Любопытно, до чего доходит возвеличивание прославленных людей; Вергилию, которого в средние века считали великим чародеем, приписывают исполнение этих фигур.
Персидский шах, царствовавший в 1809 году, спросил у г-на Морьера, английского посла, сражается ли знаменитый генерал Бонапур или Бонда-Пур за или против французов.
Мне показали в конце улицы Слесарей триумфальную арку. Эта арка, назначение которой установить не удалось, изнутри украшена головами сатиров. В стену вделали галльскую фигуру другой эпохи и другого стиля.
Наконец я добрался до Претория, или храма Августа; его чудесные античные очертания, хотя и возмутительно изуродованные, ласкают глаз и возвышают душу.
Этот храм - коринфского стиля, шестидесяти футов длины и сорока ширины; он открыт со всех сторон. Колонны составлены из нескольких рядов каменной кладки; они высотою в двадцать пять футов, включая капители и фундаменты, поставленные на цоколь. Эти несчастные колонны были покрыты каннелюрами, но варварская рука, превратившая этот храм в церковь, разрушила каннелюры, чтобы придать ровную поверхность колоннам в соответствии с отвратительной оградой. Блаженному Бурхарду, епискому Вьеннскому, принадлежит честь разрушения, около 1089 года, языческого храма. Сколько прекрасных памятников существовало еще в XI веке!
Этот храм был периптером, то есть был окружен колоннами; у него двойной фронтон.
Простой народ полагает что в этом Претории, превращенном очень некстати в музей, вершил свой суд Понтий Пилат. Через пятьдесят лет Вьеннский муниципалитет сделает еще один шаг: по его приказу разрушат стену блаженного Бурхарда и возвратят храму его первоначальный вид, насколько это будет возможно.
В этом Вьеннском музее встречается несколько обломков огромного диаметра, что заставляет предположить существование памятников гигантских размеров; рядом расположены остатки колоссальных статуй. Г-н Буасса, человек богатый и любезный, должен был бы произвести раскопки и обогатить музей.
В VI веке Республиканского летосчисления одна крестьянка по фамилии Сарполье нашла в своем винограднике прелестную, чудесно сохранившуюся группу, которая теперь является украшением Претория. Эта группа состоит из двух детей почти натуральной величины; один ребенок держит левой рукой голубя, другой кусает ему правую руку, очевидно, чтобы заставить того уступить ему голубя. Композиция группы изящна и даже слегка жеманна, чувствуется известная аффектация. Бедная женщина, которая нашла группу, не захотела продать ее г-ну Миллену, побывавшему в этих местах.
- Я ни за что не расстанусь,- сказала она,- с этими прелестными ангелочками, которых послало мне небо, чтобы охранять мой дом.
Эта группа вызвала целый ряд ученых исследований, в которых бедная логика страдает донельзя. Я заметил, что ученые последнего времени имеют значительное преимущество над своими предшественниками: они весьма любезно доказывают, что суждения их предшественников - полнейшая нелепость.
Гарбфало, довольно хороший итальянский живописец рафаэлевской школы, часто изображал гвоздику в уголке своих картин. Гарофало по-итальянски значит гвоздика. Может быть, по подобной же причине творец группы, найденной в Вьенне, поместил ящерицу, которая ловит бабочку на стволе дерева, рядом с ребенком, кусающим другого; на другом же дереве возле ребенка, держащего голубя, изваяна змея. Однако возможно, что эти пресмыкающиеся помещены лишь для придачи известной красочности стволам деревьев, необходимым для цельности группы.
В 1773 году в винограднике близ Сент-Коломба была найдена прекрасная мозаика, изображающая Ахилла в тот момент, когда его узнают дочери Ликомеда. Но владелец виноградника уничтожил мозаику, чтобы избавиться от множества любопытных, приходивших на нее посмотреть.
В музее находится эпитафия 1252 года - это молитва монаха об отпущении грехов всем тем, кого он обманывал в течение своей жизни.
Вполне естественно, что в Вьенне, бывшей в течение весьма долгого времени столицей римских владений в Галлии, нашли множество античных фрагментов и надписей. Самая замечательная надпись высечена на стене дома, выходящего на главную улицу; она состоит из букв в четыре с половиной дюйма величиной, выполненных чрезвычайно тщательно. Привожу перевод ее:
"ДД, вьеннский жрец, приобрел на свои средства плиту из золоченой бронзы на подпорках, орнаменты для фундамента, фигуры Кастора и Поллукса с лошадьми, а также фигуру Геркулеса и Меркурия".
Однажды в десять часов утра из одного из лучших домов Вьенны выбежал какой-то высокий молодой человек; он был в одной рубашке, босиком, и кровь текла у него по щекам.
К счастью, никому не пришло в голову заподозрить его в убийстве. Вот что мы узнали на следующий день. Один крайне воинственный супруг, намереваясь поймать жену на месте преступления, сделал вид, будто едет на охоту; он был осведомлен своим адъютантом, соперником счастливого избранника. Когда муж попал в жнивье возле города, собака выгнала перепелов, и он, невзирая на свой гнев, не мог удержаться от удовольствия пострелять.
Возвратился он только к десяти часам утра, злясь на самого себя и думая, что он захватит парочку врасплох в другой раз. Но судьба сулила иное. В своей постели он нашел крепко спящего молодого человека, и к тому же не одного. Разгневанный супруг шпагой пронзил ему обе щеки. Спящего разбудил холод шпаги, прошедшей по его языку. Заинтересованная в этом деле особа, находившаяся тут же, отняла у супруга шпагу в ту минуту, когда тот вытащил ее из раны, намереваясь нанести новый, лучше направленный удар в грудь виновного. Последний проскользнул под рукой оскорбленного мужа и появился на улице в самом непритязательном костюме.
Другой молодой человек из того же южного города оказался более героичным: чтобы спасти честь женщины, которую он боготворил, он решил спуститься с шестого этажа с помощью одной только простыни, то есть спрыгнул на мостовую с высоты пятого этажа; он сломал себе обе ноги. В пять часов утра мимо него прошла молочница; он дал ей денег и велел перенести себя на пятьсот шагов дальше, под окна какой-то харчевни. Молодой человек до сих пор еще сильно хромает; удивительно, что он еще любим.
Несколько деревушек в Дофине, весьма невзрачные с виду и расположенные в унылейшей равнине, сохранили название соседних придорожных камней: Septeme, Oyties, Diemos*.
* (Ученый Миллен, которого мне еще неоднократно придется цитировать, искажает названия этих деревень в своем "Путешествии по южным департаментам" (т. 2, стр. 25), где уже проявляется императорская реакция в пользу того круга, который особенно зло издевался над Наполеоном.)
Я перешел через прелестный висячий мост, и вот я в Сент-Коломбе, напротив Вьенны. На берегу Роны возвышается средневековая четырехугольная башня, придающая особую выразительность всему пейзажу. Но не ради этой башни отправился я в Сент-Коломб; я хотел осмотреть знаменитые статуи, найденные г-жой Мишу, вероятно, вдовой или родственницей г-на Мишу*, известного судьи гренобльского королевского суда. Сей безупречный человек обладал в известной мере твердостью президента Матье-Моле; он отважился председательствовать около 1816 года в уголовном суде в Балансе, разбиравшем дело Трестальона, Трюфеми или какого-то другого героя тех времен. Можно себе представить, какие анонимные письма получал г-н Мишу и каким угрозам он подвергался, когда приехал совершенно один в чужой город.
* (Мишу (1781-1828) - гренобльский судья, двоюродный брат мадам Мишу, дело об убийстве которой легло в основу сюжета "Красного и черного"; Трестальон и Трюфели - главари роялистских банд, производивших погромы и резню в провинции во время Реставрации.)
Первая из этих статуй белого мрамора, изваянная с таким расчетом, чтобы быть заметной издали, изображает женщину в одежде, ниспадающей до самых ног. Змея, обвившаяся вокруг ее руки, наводит на мысль, что это Гигиея. Складки ткани очень глубоки, но выполнены недостаточно тщательно.
Вторая статуя замечательна, хотя голова, руки и ноги ее не найдены; это коленопреклоненная женщина в положении Венеры с черепахой. Сохранившиеся части обнаженного тела исполнены с захватывающей правдивостью и напоминают бюст отца Траяна в Риме. Что редко встречается в античном искусстве, - художник не стремился к идеализации. Моделью послужила, вероятно, женщина лет двадцати семи - двадцати восьми, слишком уж походившая на нимф Рубенса.
Ученый Д. из Гренобля, живущий теперь в Вьенне, дал мне тетрадь, где выписаны были отрывки из древних авторов, в которых речь идет о Вьенне. Интереснейшие из них взяты главным образом из Юлия Цезаря, Страбона, Помпония Мелы, Птолемея и Плиния.
В Вьенне родился Шорье, историк Дофине, которому свойственна некоторая наивность. Этот город прекрасно описан в "Альбоме Дофине" - двух чудесных томах с хорошими литографиями, купленных мною проездом. В нем помещены статьи г-на Крозе, человека, лучше всех во Франции разбирающегося в старинных письменах. Какой знаменитостью стал бы он, если бы жил в Париже!
Следовало бы задержаться здесь на три дня и проехать отсюда в старинное аббатство св. Антония, близ Сен-Марселена, а затем в Вирье, чтобы побывать у мадмуазель Софи Ларош, о которой все здесь говорят (мадмуазель Софи Ларош изрекает удивительные вещи в магнетическом сне, об обмане не может быть и речи); но у меня нет времени. К великому своему сожалению, я не любознательный путешественник, а купец. Поэтому я понимаю лучше кого бы то ни было, чего мне недостает, чтобы решиться предать гласности свои путевые записки по Франции.
Следовало бы иметь возможность изучать каждый департамент хотя бы в течение десяти дней, что означало бы в отношении тридцати департаментов, через которые я проезжаю, триста дней, или десять месяцев. А я могу затянуть свою поездку по Франции на месяц, самое большое - на два. Кроме того,- и это самое главное,- мне следовало бы иметь убеждения, диктуемые современной модой. Однако в этом отношении я должен признаться в своей полной несостоятельности. Я довольствуюсь своими убеждениями и не согласился бы их променять из тщеславия или ради денег. Я так скупо одарен небом стремлением к успеху, что меня словно что-то вынуждает все чаще возвращаться к той или иной точке зрения именно потому, что она слывет немодной. Мне доставляет удовольствие все снова и снова доказывать себе эту опасную истину по поводу каждого факта, который способен ее подтвердить.
"Однако,- скажут мне,- раз такое неблагоприятное обстоятельство полностью уяснено вами, почему же вы решились писать?" Я отвечу: "Восемь лет тому назад я был в Кане. В этом году я посетил его снова и убедился, что совершенно позабыл и моральный облик его обитателей и обе церкви: св. Гильома и св. Матильды; а между тем в этом городе я останавливался. Если я снова окажусь в колонии, я очень скоро позабуду характерные особенности современной Франции, которые сами уже исчезнут через десяток лет. Вот почему я веду этот дневник. Я решил писать потому, что Франция быстро меняется. Но я публикую лишь незначительную часть из того, что пишу. Какой смысл вступать в борьбу с господствующим мнением? Я прихожу к мысли, что это мнение недолговечно, поскольку оно является лишь выражением определенных интересов; но француз лишен английского благоразумия, ему могут наскучить даже его интересы. Благородные души первыми возмутятся против подобного рода лицемерия и скуки. После такого возмущения можно будет выпустить второе издание, более полное, если тем временем никто не напишет чего-нибудь получше".
Вы помните наше восхищение греками? Кто сейчас о них вспоминает? Чего только мы не совершили ради них! Какой-то богомольный баварец* посылает на виселицу храбрецов, сражавшихся во время восстания.
* (Греческая война за независимость 1821-1829 годов вызвала во всей Европе горячий отклик и поддержку, особенно в либеральных кругах. Богомольный баварец - греческий король Оттон Баварский. Фанатически религиозный, он всецело находился в руках реакции.)
Вчера в Вьенне и в Сен-Валье много говорили об одном молодом крестьянине, недавно оправданном судом. Он был пастухом на ферме и влюбился в очень красивую девушку, имевшую два арпана виноградника, что и помешало ему к ней посвататься. Она была помолвлена с другим юношей из той же местности, который был богаче пастуха. Однажды, пася свое стадо, пастух ее подстерег и выстрелил ей в ноги. Рана вызвала сильнейшее кровотечение, и девушка умерла.
Юношу арестовали. По всем признакам он испытывал глубокое горе.
- Вы хотели ее убить? - спросил следователь.
- Что вы сударь!
- Вы хотели ей жестоко отомстить за то, что она вам отказала?
- Нет, сударь.
- Каковы же были ваши побуждения?
- Я хотел ее кормить.
Несчастный думал, что если он искалечит любимую девушку, никто не захочет тогда заботиться о ней и она достанется ему. Его оправдали; в старину парламенты приговорили бы его к колесованию. Современная мода - никогда не приговаривать к смерти, даже за самые ужасные убийства (например, повторное отравление мужа женой в 1836 году) - приводит порой к хорошим результатам при всей ее нелепости.
Сен-Валье, 11 июня.
В Сент-Коломбе, напротив Вьенны, начинаются виноградники Кот Роти - край, знаменитый своим красным вином. Каждая деревушка в этих местах дала имя какому-нибудь знаменитому сорту вина. Кто не знает и не любит красных и белых вин Эрмитажа, вин Ампюи, Кондриё и т. д.? Левый берег Роны, вдоль которого тянется большая дорога на Марсель, усеян таким количеством обкатанной гальки, что земли почти совсем не видно; и все же слева от дороги вся местность настолько тесно засажена тутовыми деревьями, что она походит на фруктовый сад, и под сенью этих деревьев прекрасно растут хлеба. Стрекозы совсем оглушили меня.
Начиная от Вьенны и почти до самого Авиньона крестьяне строят свои дома из обыкновенной или формовочной глины. Дорога, которая ведет в Гренобль, окаймлена рощицами каштанов, существовавшими еще до этой дороги и делающими ее очень живописной.
В Ампюи выращиваются, пожалуй, лучшие дыни на юге, а его превосходные каштаны известны в Париже под названием лионских.
Издали виднеется прелестный висячий мост, вырисовывающийся справа над деревьями; это четвертый или пятый решетчатый мост, который встречается мне сегодня на этой быстрой и широкой Роне. Стремительность ее течения заставляет вдвойне ощущать победу человека над природой.
Ходил смотреть Продолбленный утес. Это скала, в которой был пробуравлен проход для того, чтобы проложить в этом месте дорогу, утратившую ныне всякое значение. Поблизости находятся развалины замка Сен-Бартельми.
Почему именно в Париже решетчатые мосты самые уродливые во Франции? Может быть, мысль инженеров парализована страхом перед насмешками газет, которые не поскупились на них, когда первый мост оказался неудачным?
Я проезжаю в пяти лье от Вьенны знаменитый Ревентинский въезд, где когда-то большим телегам из Прованса приходилось простаивать по нескольку часов.
Вам, конечно, известно, что при Генрихе IV все дороги во Франции были лишь дорогами для мулов. Король и его министр Сюлли начали их расширять, и они еще по сей день называются дорогами Генриха IV. Такие дороги прокладывались жителями каждой деревни, чтобы общаться с соседней. На них чрезвычайно крутые подъемы. Что значит подъем для мула? Людовик XIV и Людовик XV расширили эти дороги. Новых дорог было мало проведено при Людовике XIV и много при Людовике XV, который не вел больших войн и смог использовать двух талантливых людей - Пероне и Трезаге. Много дорог было проложено провинциальными штатами, особенно в Лангедоке, Бретани и Бургундии. Дороги во Фландрии, которые и поныне еще считаются лучшими, были проложены муниципалитетами еще до царствования Людовика XIV. В конце средних веков свобода, казалось, на миг воцарилась во Фландрии. И она сразу же произвела чудеса.
Отвратительные подъемы, которые еще сейчас попадаются во Франции,- остатки дорог для мулов, проложенных до Генриха IV.
Стоит только администрации захотеть - и эти подъемы исчезнут в течение семи или восьми лет на всех перворазрядных дорогах и на многих второразрядных, без каких-либо затрат со стороны правительства.
Ревентинский подъем, с которого я сейчас спустился рысью, имеет наклон в тринадцать сантиметров на метр и тянется на полторы тысячи метров. Одна компания заменила эту трассу другой с наклоном в четыре сантиметра на метр на протяжении всего тысячи пятисот одного метра; очевидно, что только случай определил расположение первой дороги. Подорожная пошлина, долженствующая возместить расходы компании, будет взиматься одиннадцать лет и семь месяцев, после чего дорога станет свободной от сборов, как все остальные. Платят, мне кажется, по шесть су с лошади при подъеме и по три су при спуске; возчик на этом зарабатывает, так как этот сбор меньше, чем обходились ему лошади, которых он вынужден был раньше дополнительно впрягать. Вот уровень нашей цивилизации в отношении дорог: во Франции по ровной дороге лошадь может теперь везти тридцать центнеров.
Баланс, 11 июня.
Добродушие и естественность, которые я заметил уже в Вьенне, еще более поражают в Балансе. Чувствуется, что мы уже совсем на юге. Никогда я не мог противостоять этой атмосфере радости.
Это полная противоположность парижской вежливости, говорящей прежде всего об уважении, которое чувствует ваш собеседник к самому себе, а также об уважении, которого он требует от вас. Здесь же каждый, начиная говорить, хочет удовлетворить то чувство, которое его волнует, и нисколечко не думает о том, чтобы вызвать мысль о своем благородстве у собеседника, и еще менее - о том, чтобы оказать внимание общественному положению этого собеседника. Именно здесь г-н Талейран мог бы воскликнуть: "Во Франции уже больше ничего не уважают!".
Какая-то врожденная веселость чувствуется во всех поступках этих жителей юга, которые показались бы столь грубыми слабогрудому молодому человеку, воспитанному в парижском хорошем обществе.
Я брожу по этому маленькому городку под палящим солнцем. Поднимаюсь в крепость, начатую Франциском I. Прекрасный вид. Старый капрал показывает мне на противоположном берегу Роны холм Сен-Пере - родину прекрасного вина того же названия. Полигон, славящийся в наши дни своими чудесными платанами, переносит меня ко временам молодости Бонапарта. Самая изысканная женщина города тепло приняла у себя молодого лейтенанта и предугадала его гениальность. Жестоко страдая в своем уязвленном тщеславии, он находил у нее утешение; его товарищи имели лошадей и кабриолеты, его же семья неаккуратно высылала даже ту небольшую сумму, которая была ему обещана. Тем не менее эта семья пошла на большую жертву, продав виноградник, ради того, чтобы иметь возможность высылать ему эти деньги.
Слабость Наполеона к аристократии проявляется уже в салоне г-жи Коломбье (рассказано генералом Дюроком*). Именно там Наполеон, получивший весьма несовершенное - что бы ни говорили - воспитание в военных школах Бриенна и Парижа, почерпнул большинство своих суждений по вопросам, далеким от математики и воинского искусства. Какая была бы разница для Франции и для него самого, если бы в Балансе он читал Монтескье! В деятельности Палаты представителей император видел лишь беспорядок, глупость и непокорство. Гениальный носитель исполнительной власти, он никогда не признавал ее источником закона. Его замечательный государственный совет не обсуждал вопросов, а лишь изыскивал лучший способ привести в исполнение то, что было уже решено императором.
* (Дюрок, Жерар (1772-1813) - французский генерал, адъютант Наполеона I, приближенное к нему лицо.)
Я осмотрел церковь св. Аполлинария, перестроенную в 1604 году, бюст Пия VI и гробницу семейства Мистраль (имя это зловеще в этом крае). Дом г-на Ореля - любопытный памятник архитектуры XV века; простому люду очень нравятся четыре огромных головы на фасаде, представляющие четыре ветра.
Я завожу непринужденную беседу со многими людьми из простонародья. Здесь я избавлен от того, что в других местах является для меня тяжелой обузой,- поддерживать деловые знакомства нашей фирмы.
Эта моральная атмосфера юга, окружающая меня в течение нескольких часов, преисполняет сладостным душевным покоем. Она как бы набрасывает полупрозрачную завесу на три четверти мелких забот, о которых нельзя не думать в Париже,- отсутствие их вызывает ощущение истинного счастья. Я ни о чем не беспокоюсь.
Я наслаждаюсь жизнью, гуляя на берегах Роны; останавливаюсь отдохнуть под великолепной ивой.
Знаю, что обсуждать современную тебе моду - признак дурного тона: это почти то же самое, что пренебрегать ею. Скоро я буду в Америке, и, если от меня потребуют этого, я выскажу всю правду о нашем расчетливом веке. Но к чему льстить влиятельным салонам, если я ничего от них не требую?
Однако не пугайтесь: я выскажу правду - или то, что мне кажется правдой,- только по поводу готического искусства. Приведу мысли, которые пришли мне в голову в церкви св. Аполлинария.
Стрельчатая арка производит унылое впечатление, тогда как, не знаю почему, круглый свод дает представление о силе, использованной для вашей защиты.
Горизонтальное перекрытие между двумя колоннами вызывает мысли не о невежестве, которое еще не сумело изобрести свод, а об изяществе, притом об изяществе, основанном на отсутствии опасности.
Прошу благосклонного читателя спросить самого себя и проверить, не правильны ли эти мысли.
В течение ста пятидесяти лет готика была синонимом безобразного. Давно уж пора изменить это мнение. Но хорошее общество, которое благодаря нашим порядкам стало судьей во всех областях, а особенно в отношении книг, оказалось одновременно и судьей и заинтересованной стороной.
Оно боится возвращения 1793 года и восторгается всеми скучными книгами, если они религиозного содержания, к тому же у него есть гербы, которыми оно гордится.
Это общество вообразило - по крайней мере, это вообразили его невидимые вожди,- что восхищение готикой приведет верующих к священнику, справляющему службы по большей части в готических зданиях, и что священники из благодарности снова вернут добрый французский народ к той степени глупости и любви к своим властелинам, которые он проявлял в 1747 году, например, во время болезни Людовика XV в Меце. Словно в своих страстях можно вновь к чему-либо вернуться! Полюбите-ка снова владычество Дюбарри!
Изучение готики приводит к почитанию дворянских гербов и может вернуть религии ее прежнее место во Франции. Будем же боготворить готику, современницу и свидетельницу великих подвигов наших предков, и удостоим звания "ученых" только осторожных писателей, проклинающих Вольтера и восторгающихся готикой! Разве вы не слышали, что такого декрета требовали в 1818 году?
В XI и XII веках народы, населявшие Европу, почувствовали отвращение к состоянию варварства, из которого они только что вышли, и были охвачены страстью к строительству, особенно духовенство. Так как нашими предками больше владел страх, нежели любовь, они мало интересовались изяществом. Поэтому они не стремились к тому, чтобы их постройки были просты и прекрасны, подобно античным храмам.
Однако, располагая тысячами рабочих, оплачиваемых индульгенциями, духовенство, могло воздвигать большие по своим размерам постройки. Архитектура была еще робкою в 1050 году. В 1200 году она уже стремилась изумлять (именно около 1200 года готика сменила романский стиль).
Что касается статуй, которые водружали в этих зданиях, то несчастные варвары не умели создавать одухотворенную скульптуру вроде "Лаокоона", и головы их святых, как, например, в Соборе Парижской богоматери или соборе св. Дионисия (северный вход), по своей величине равнялись половине туловища, И тут они снова прибегли к количеству; не будучи в состоянии создать одну подлинно художественную скульптуру, они создали четыре тысячи статуй и нагромоздили их на шпилях и во всех закоулках Миланского собора.
Этим статуям пришлось долго ждать восхищения потомства. Но в конце концов в результате террора 1793 года пришла мода умиляться прелести этих маленьких святых величиной в два фута и с головою в восемь дюймов. Эта мода может, конечно, продлиться еще лет пятьдесят, ибо что можно сказать нового об античных статуях?
Признаюсь, что готическая архитектура представляется мне подобной звукам гармоники, которые, когда вы их впервые слышите, воздействуют на вас сильнейшим образом; но этот музыкальный инструмент отличается монотонностью и не выносит посредственных исполнителей.
Таким образом, церковь св. Уэна в Руане, Кельнский и Миланский соборы производят на меня впечатление, слегка напоминающее впечатление от Нимского Квадратного дома или собора св. Петра в Риме. Но заурядные готические соборы Лиона, Невера или Вьенны я воспринимаю как бездарные картины, и когда какой-нибудь ученый восхищается ими при мне, он представляется мне человеком, который хочет как можно скорее попасть в академию. Вы тоже это чувствуете?
Заурядная готическая церковь производит на меня впечатление, лишь когда это бедная часовня, расположенная посреди леса. Идет проливной дождь; несколько бедных крестьян, которых созвал сюда небольшой колокол, в полном молчании молятся богу; во время молитвы слышно только, как падает дождь, но это звуковое впечатление, а не впечатление от архитектуры.
Среди такого количества надгробных памятников- по большей части нелепых и испещренных надписями, еще более пошлыми, чем сами памятники, если это возможно,- неожиданно встречается где-нибудь в уголке кладбища Пер-Лашез готическое надгробие. И вы чувствуете, как на вас сразу веет печалью и строгостью, словно от нескольких тактов моцартовской музыки. Впечатление еще во сто крат усиливается, если готические рельефные орнаменты запорошены снегом.
Сегодня вечером за табльдотом гостиницы в Балансе, расположенной в предместье на авиньонской дороге, мой сосед, толстый малый, имя которого мне неизвестно и с которым я говорил о "разных разностях" (как принято выражаться в Балансе), вдруг сказал мне:
- Нужно быть дураком, сударь, чтобы тратить свои деньги на поездку почтовыми в Авиньон! Да впихните же вашу коляску на пароход, который пройдет здесь завтра в десять часов утра, и в три часа вы будете в Авиньоне.
Этот тридцатилетний тучный малый был бы поражен, если бы я ему ответил: "Приберегите, сударь, ваши оскорбительные замечания для ваших собственных поступков. Благодарю вас за ваши советы, но оставьте их при себе или давайте их в других выражениях".
Однако, обратившись в настоящего южанина, что, по правде сказать, не стоило мне большого труда, я просто ответил ему, что воспользуюсь его наставлением, и после обеда угостил своего нового друга такими сигарами, каких, может быть, никто еще не пробовал в Балансе. Он с радостью закурил, но вскоре признался, что они ему кажутся слишком слабыми.
- Попробуйте-ка вот этих,- сказал он и подсунул мне сигары, кажется, из сардинского табака, безобразно крепкие.
Он рассказал мне о Мандрене*. Этот славный контрабандист не был лишен ума и отваги, поэтому память о нем,- хотя и считают, что он был "безнравственным" человеком,- все еще живет в народе. Происходит это оттого, что народы требуют, чтобы им не только служили, но также - и в не меньшей степени- чтобы их развлекали: свидетельство тому - слава победителей. Мандрен был во сто крат более талантлив в военном отношении, чем все современные ему генералы, и благородно окончил свою жизнь на эшафоте в Балансе.
* (Мандрен - контрабандист XVIII века.)
Как известно, до революции здесь был кровавый трибунал, щедро оплачивавшийся откупщиками, который творил справедливый и быстрый суд над контрабандистами. Г-н Тюрго, добиваясь уничтожения таможенных пошлин на товары, ввозимые из одной провинции в другую, невзирая на возмущение придворных Людовика XVI и всех денежных людей той эпохи, оказал неоценимую услугу нации в моральном отношении. Я напоминаю об его заслуге - должен признаться, не совсем кстати,- потому, что народам свойственно забывать своих благодетелей, если те не оставляют после себя преемников для их восхваления. Карл X и Людовик XVIII превозносили Генриха IV и жили лучами его славы. Что же касается людей с таким умственным богатством, как Тюрго, то чем более велика их заслуга по уничтожению злоупотреблений, тем быстрее о них забывают, и даже через пятьдесят лет после их смерти в хорошем обществе стараются поязвить на их счет, ибо этому обществу выгодны были злоупотребления и оно боится препон для своих будущих злоупотреблений.
12 июня. (На пароходе, проезжая милю Монтелимара.)
Я в восторге от берегов Роны. Удовольствие придает мне мужество; я не знаю, где взять достаточно осторожные выражения, чтобы обрисовать растущее процветание Франции в царствование Луи-Филиппа. Боюсь, что меня сочтут подкупленным писателем.
На каждом шагу я вижу каменщиков за работой; в городах, местечках и деревнях строят множество домов, повсюду выпрямляют улицы. В полях роют сточные канавы, строят заборы, ставят изгороди.
В самом деле, вот уже двадцать два года у нас царит мир, но до 1830 года какая-то глухая тревога будоражила умы; чувствовалось приближение грозы. Правда, предполагали иное, чем то, что случилось; только в Париже предвидели переворот. В деревнях думали, что "телега сковырнется в другую сторону"; полагали, что национализированными землями снова завладеют эмигранты и что они, несмотря на слова короля, снова станут господами деревни. Духовенство беспрестанно повторяло, что ему вернут десятину (взамен которой были установлены новые налоги, взимаемые государством). Оно отказывало в погребении людям, приобретшим национализированные земли, и т. п. Однако благодаря песням Беранже и прозе Курье люди не смирялись. Чувствовалось, что без битвы не обойтись, и каждый думал о том, как бы не остаться с пустыми руками.
Рост народного благосостояния проявился в полной мере лишь после 1830 года, точнее говоря, после того, как стало ясно, что население Парижа, этот подлинный представитель Франции, не собирается больше гневаться. Где же "вопиющие" злоупотребления, которые могли бы рассердить парижан? Что следует изменить в нашей конституции?
Наконец после 1830 года стали приносить плоды реформы, введенные Сийесом, Мирабо, Карно и другими великими деятелями 1792 года. Если бы во Франции читали всю ту клевету, которой чернят их память, то в этом заключалась бы в нынешнее время единственная причина для беспокойства.
Избираемые генеральные советы - уже большой шаг вперед. Правда, сейчас мы встречаем в них только очень беспечных людей, зачастую у них не хватает даже энергии составлять и подписывать протоколы своих заседаний. Но скоро эти собрания пополнятся людьми, родившимися около 1790 года, и все совершенно изменится.
Я бы мог исписать четыре страницы соображениями относительно процветания Франции и особенно департаментов, расположенных к северу от черты, тянущейся от Безансона к Нанту. Даже юг, такой косный, начинает пробуждаться. Алжир возрождает Марсель. Если этот большой город голосует против нынешнего правительства, то в этом заслуга исповедальни, но, по существу, он доволен своим правительством.
Дворянство повсюду бережно хозяйничает и улучшает свои земли - полная противоположность тому, что было в 1789 году.
Наше процветание восхитило одного англичанина, неглупого человека, с которым я пил чай вчера вечером; оно может быть объяснено а priori.
Никогда еще в истории не существовало народа, у которого на тридцать три миллиона жителей было бы пять миллионов землевладельцев. Вот чего не сможет уничтожить никакая контрреволюция. Если бы даже русская армия заняла высоты Монмартра, то и она не могла бы повлиять на распределение земель. Благодаря демократическому закону, раздробляющему наследственное имущество, число землевладельцев имеет тенденцию бесконечно увеличиваться. Можно ли после этого опасаться повторения 1793 года? Ведь тогда встревожились бы все землевладельцы.
Учтите, что крестьянин, имеющий лишь один арпан, ценит свою землю гораздо больше, чем его богатый сосед, у которого один парк занимает двести арпанов.
Какое чудесное предвестие нашего будущего благоденствия! Во Франции никто не может безнаказанно быть дураком. Четыре сына человека, имеющего восемьдесят тысяч франков ежегодной ренты, прекрасно знают, что рента каждого из них будет равняться лишь двадцати тысячам и что, если они ее не увеличат либо благодаря своим способностям, либо с помощью того, что обозначают пошлым именем "выгодного брака", их дети для того, чтобы существовать, должны будут стать адвокатами, врачами или фабрикантами сукна. (На мой, но не на их взгляд, такое существование представляет больше всего шансов на счастье.)
Моего англичанина особенно шокирует во Франции, что у нас женятся исключительно по расчету. "Как же вы осмеливаетесь говорить о нежных чувствах?" - сказал он мне.
Авиньон, 12 июня.
Перед тем как подъехать к деревне Рошмор, на правом берегу Роны, почти напротив Монтелимара, я взглядом искал знаменитые базальтовые пики. Неожиданно мы отчетливо увидели их. Они высятся особняком, довольно близко один к другому, вытянувшись почти по прямой линии. На самом деле они отделены от известковой горы, к которой они, как кажется издали, плотно примыкают. Эта гора покрыта виноградниками и вечнозелеными оливковыми деревьями; внизу расстилаются даже луга, и вид этих мест, говорят, очень приятен: восхитительная Рона на первом плане, а вдали Альпы Дофине. Самый высокий из пиков имеет триста футов высоты и считается неприступным. Вид этих прекрасных горных вершин вулканического происхождения оживляет пейзаж. Мы видели издали два кратера: Рошмора и Шенавари. А вдруг, если богу будет угодно, какой-нибудь из этих больших вулканов Виваре начнет вновь изрыгать пламя!
Везувий в течение восьми или десяти веков ни разу не подавал признаков жизни, и только в 79 году по Р. X., к великому удивлению всех, произошло извержение, при котором задохся Плиний.
Вот что действительно похоже на чудо: пароход, ушедший сегодня в пять часов утра из Лиона, причалил ровно в три часа немного ниже развалин знаменитого Авиньонского моста. Следовательно, он проходит более шести лье в час, ибо сухопутным путем из Лиона в Авиньон шестьдесят с половиной лье. Кроме того, пароход очень часто делает остановки, чтобы высадить и принять пассажиров, и он слегка замедляет свой ход, когда мы проплываем под множеством красивых висячих мостов.
Мы даже имели честь пройти под мостом Сент-Эспри, пользующимся очень дурной славой. Говорят, что тридцать человек утонуло там в прошлом году. Тридцать у провансальцев - значит самое большее десять; но всё же это слишком много, и власти должны были бы приказать убрать оттуда один мостовой бык, в результате чего получился бы достаточно широкий судовой ход. Для этого потребовалось бы заложить лишь несколько мин под воду, как это делается в колониях.
Наш пароход очень быстро прошел под этим страшным мостом и сразу же, отклонившись, быть может, на пятьдесят градусов от первоначального пути, свернул направо. Не более чем в одном футе от нас оказалась песчаная мель, поднимавшаяся над водой всего на несколько дюймов; наше судно шло таким ходом, что могло разбиться об эту мель. Эти мели меняются при каждом половодье; вот почему в здешних местах требуется большое умение лоцмана.
Мне рассказывали, что когда на пароходе имеются дамы или даже мужчины, которым страх придает смелость пренебречь ироническими взглядами и шутками остальных пассажиров, таких трусов еще до моста высаживают на берег, а через сотню шагов, миновав мост, снова забирают на пароход.
Вполне достоверно, что течение Роны в этом месте чрезвычайно быстрое. Скорость парохода также велика, и ясно представляешь себе неминуемую гибель, если пароход хоть слегка натолкнется на мостовой бык или песчаную мель.
Строительство моста Сент-Эспри было начато в 1265 и закончено в 1309 году жителями города Сент-Эспри, который в то время назывался Сен-Сатюрнен дю Пор. Настоятель монастыря св. Сатуриина Жан де Тианж хотел сначала воспрепятствовать этому делу, которое, по его мнению, являлось посягательством на права его монастыря. Однако страстное желание местных жителей во что бы то ни стало построить этот мост взяло верх, и настоятель сам положил первый камень. Назначили управителей, которые купили каменоломни в Сент-Андеоле; учредили религиозное общество "посвященных" братьев и сестер, носивших особую одежду и подчинявшихся особому уставу. Одни из них собирали подаяния, другие ухаживали за больными и ранеными рабочими, некоторые даже работали наравне с каменщиками.
Как видите, в 1265 году в этом крае вспыхнула настоящая страсть к общественному благу. Булла папы Николая V от 1448 года говорит о том, что этот мост был построен одним пастухом, получившим повеление от ангела; а ведь Николай V был человеком достойным. Но дело прежде всего, как говорил один торговец железом.
Мост Сент-Эспри имеет в длину две тысячи пятьсот двадцать футов; он довольно узок: десять футов между парапетами и семнадцать вместе с парапетами. Я насчитал двадцать шесть арок разной величины: девятнадцать больших и семь маленьких. Каждый бык - сквозной над уровнем воды, очевидно, чтобы дать проход воде во время половодья. Ученые считают весьма странной форму арок - они не стрельчатые, а круглые, как в романской архитектуре. На мой взгляд, тут ничего нет страстного: аркам придали такую форму из подражания акведуку Пон-дю-Гар*. Наконец, последняя особенность моста Сент-Эспри: он построен не по кратчайшей линии, а под углом к течению реки, что придает ему большую прочность. Часть его опирается на скалу, часть - на сваи.
* (Романская, или прочная, архитектура была еще в моде на юге; готика, стремившаяся изумлять, пришла позднее.)
Мое пребывание в Авиньоне началось с того, что я пришел в дурное расположение духа. Восемь или десять грубых носильщиков набросились на мои вещи и забрали их, не спрашивая моего согласия. Я очень рассердился, но не промолвил ни слова. Жозеф, человек более непосредственный, дал, кому следовало, несколько пинков, причем носильщики тоже не остались в долгу.
Когда вы въезжаете в Авиньон, вам кажется, что вы попали в итальянский город. Люди из народа, с горящими глазами, загорелые, в куртках, наброшенных на одно плечо, работают в тени или спят, растянувшись прямо на улице, ибо здесь, как и на берегах Тибра, никто не боится показаться смешным, и если кто думает о соседе, то как о враге, а не из боязни его насмешек.
Я поселился в гостинице "Пале-Рояль". Я был весь покрыт пылью. Чистильщик сапог, обслуживая меня, изменил весь ход моих мыслей.
- Вы знаете, сударь, что в этой гостинице в 1815 году убили маршала Брюна? Хозяин гостиницы не хочет, чтобы об этом говорили, но слуга Жан, если вы пожелаете, вам все покажет.
К сожалению, я проявил любопытство и поднялся на дощатый настил, покрывающий зал, где маршал был застрелен из ружья. Но я не окажу медвежьей услуги читателю и не стану в подробностях рассказывать то, что видел. Настил этот был полон блох; решусь ли признаться, что эта грязь увеличила мое отвращение к содеянному преступлению, о котором я в это время думал. Еще более стала мне ясна вся грубость убийц. Но кто подкупил их? Об этом расскажет история. Какой-то коммивояжер нашел тело маршала, застрявшее в камышах на Роне, неподалеку от Арля.
Я видел маршала Брюна, сосланного императором в Мери (Шампань): он был шести футов ростом; черты его лица были полны величия. Каждое воскресенье, отправляясь к обедне, он облачался в парадный мундир. (Он начал с того, что был республиканцем и типографом.)
В 1797 году, во время знаменитого итальянского похода генерала Бонапарта, маршал Брюн проявил героическое мужество; он командовал тогда бригадой из дивизии Массены. Три года спустя, в 1800 году, также в Италии он доказал в битве при Минчо, что совершенно лишен качеств, необходимых полководцу.. Что касается его смерти, то совершенно непонятно, для чего он приехал в Авиньон: так просто было бы проехать через Гап и Гренобль, где никогда никого не убивали.
Чтобы отвлечься от этих мрачных мыслей, я попросил проводить меня в музей. Картины чудесно размещены в обширных залах, окна которых выходят в пустынный сад с высокими деревьями. В этом музее царит глубокая тишина, напомнившая мне прекрасные церкви Италии: душа, уже наполовину оторвавшись от мирской суеты, готова воспринять высшую красоту. Я нашел здесь много картин итальянской школы: Луини, Караваджо, Доменикино, Сальватора Розы и др. Французы, впрочем, не любят, чтобы с ними говорили об этих вещах, им мало доступных. Меня восхитил прелестный портрет г-жи де Гриньян в глубине самой большой залы, слева. Какие божественные глаза! В ее письмах чувствуется душа, слишком вульгарная для таких глаз, душа герцогини. Быть может, в этих письмах к матери она не говорила обо всем чистосердечно. Быть может, на этом портрете изображена молодая женщина, умевшая любить и вовсе не носившая фамилии Гриньян*.
* (Г-жа де Гриньян (1646-1705) - дочь г-жи де Севинье (1626-1696), автора знаменитых "Писем", адресованных к г-же де Гриньян; письма г-жи де Гриньян малоинтересны.)
Я провел два чудесных часа в этом музее, погруженный в мечты. Он не похож на Лионский музей* Авиньон, конечно, выиграл бы, обменяв свои картины на картины дворца св. Петра. Но в Лионе атмосфера, создаваемая "каню", сушит сердце. Воображение, не успев разыграться, уже опасается раны, которую может предательски нанести ему какое-нибудь уродство или возмутительные пересуды. Когда попадаешь в среду богачей, нужно стать бесчувственным.
В Авиньонском музее двенадцать тысяч античных монет. С ребяческим любопытством я любовался коллекцией больших бронзовых изображений римских императоров. Юлий Цезарь, Август, Тиберий, Веспасиан и т. д. будут всегда представляться нам совсем другими людьми, чем Карл V, Карл VII, Генрих II и все бесцветные короли нашей истории.
После первых цезарей избрание императоров стало делом войска, но все же они избирались, и за неспособность их карали смертью. Отсюда и этот ряд великих людей, управлявших империей, в которой насчитывалось сто двадцать миллионов подданных: Траян, Адриан, Марк Аврелий, Септимий, Диоклетиан, Юлиан.
Мне особенно понравились: 1) превосходная небольшая карикатура Каракаллы, изображенного продавцом пирожков; 2) прекрасно выполненный римский бронзовый военный значок, состоящий из двух соприкасающихся друг с другом кругов, и 3) мозаика примитивной работы, изображающая город или укрепленный лагерь с четырехугольными башнями. В этом музее имеется также несколько барельефов прекрасного стиля, украшавших прежде гробницы, и барельеф в натуральную величину, исполненный под руководством "доброго короля" Рене. Лица безобразны и напомнили мне немецкий стиль.
Я перебрался через Рону, чтобы осмотреть Вильнев и его чудесную башню. Видел готическую гробницу Иннокентия VI, прекрасное "Снятие с креста" итальянского мастера, "Страшный суд" и наконец восхитительный портрет маркизы де Ганж в позе кающейся грешницы работы Миньяра, отличного подражателя итальянских живописцев.
Авиньон, 14 июня
Возвратился после осмотра Воклюзского источника*, который так дорог каждому, кто читал сонеты Петрарки; но об этом знаменитом уголке было сказано столько пышных фраз, что мне остается лишь указать, что поездка туда отнимает десять часов.
* (Воклюзский источник близ Авиньона воспет в сонетах Петрарки.)
Во время поездки в Воклюз мы вышли из кабриолета, чтобы осмотреть церковь романского стиля в прелестном городке Тор. Восточный портал этой церкви разукрашен всеми тончайшими орнаментами, какими располагала скульптура конца XII века.
Я позабыл сказать, что встретил в Вильнев-лез-Авиньоне одного из своих нивернейских друзей, который чуть ли не заболел от огорчения, что не может съездить в Италию и увидеть развалины какого-нибудь античного города. Г-ну Бижильону это удовольствие представляется в преувеличенном виде; его воображение рисует ему что-то необычайно прекрасное, преисполняющее на несколько дней душу безграничным восторгом. В прошлом году он думал, что у него будет досуг для того, чтобы предпринять небольшое путешествие в Рим, и в надежде на это он по моему совету прочел Тита Ливия*. Поэтому я тронут тем, что несколько слов, сказанных мною тогда об Италии, породили такое отчаяние.
* (Невзирая на некоторые ограниченные умы, сильно раздувшие четыре или пять мыслей из работы г-на де Бофора, опубликованной в 1738 году, то есть сто лет тому назад, чтение Тита Ливия еще до сих пор остается лучшей подготовкой к путешествию в Италию. Цитирую по памяти.)
Мистраль слегка утих, и я решил провести денек со своим другом. У него очень легкий кабриолет, и мы беспрепятственно проехали по отвратительным дорогам, которые ведут в Везон.
Современный город нас совсем не заинтересовал, хотя весь он построен из античных обломков; надгробные плиты служат порогом дверей. Что привлекло наше внимание, так это место, где стоял старый город,- он был расположен за Увезой, быстрой крутобережной рекой, которая струится, бурля, с Дофинезских Альп.
В самом конце XII века графы Тулузские предали Везон огню и мечу. Несчастные жители нашли себе убежище на соседней горе, откуда они могли защищаться. Сейчас на вершине этой горы высится их новый собор.
Первое, что привело моего друга в восторг, был мост через реку; он римского происхождения, и пролет его единственной арки не менее шестидесяти футов. В самом деле, эти огромные глыбы, выдерживавшие в течение стольких столетий напор бушующего альпийского потока, внушают уважение. Мы спустились под мост, чтобы разглядеть набережную, тоже построенную римлянами.
Там наши взоры были привлечены античной аркадой, одиноко возвышающейся посреди бесплодной равнины; это славные развалины римского театра. Г-н Б. поминутно останавливался, чтобы положить в карман маленькие черные и белые кусочки кубической формы - обломки разрушенной мозаики. Прежде чем осмотреть обе церкви, мы пошли взглянуть на ферму Маральди - своеобразнейшее здание, построенное в XV веке итальянцем, но описание его, испещренное техническими терминами, заняло бы добрые две страницы.
Затем мы направились к двум церквам - св. Квинина и собору, одиноко стоящим посреди равнины на довольно большом расстоянии от нового города.
Церковь св. Квинина имеет только один неф, И фасад его современный, но все остальное исключительно любопытно. Я не стану вдаваться в подробности за невозможностью пользоваться языком, привычным для читателей. Отмечу лишь, что абсида* относится, быть может, к VIII веку, то есть к гораздо более раннему времени, чем эпоха великого варварства X века. Не знаю, наберусь ли я когда-нибудь смелости, чтобы предложить читателю историю готики: придется пробежать восемь - десять весьма сухих страниц, пересечь, как говорится, пустыню, но зато после нее маленькая хижина, вроде церкви св. Квинина, которую местный землевладелец сочтет совершенно невзрачной, овладеет твоим воображением на два дня.
* (Полукруглый выступ в глубине церкви, за главным алтарем.)
Собор - это базилика с тремя нефами, из которых средний очень широк. Эта характерная особенность мне чрезвычайно нравится во всех церквах романского стиля (являющегося подражанием римской архитектуре, к которому обратилось духовенство в XI веке, когда оно - после ожидания "конца света" - настолько разбогатело, что смогло строить); эта симпатия к широким нефам доказывает мне, что я не большой поклонник готики.
Своды и внутренние аркады этого примитивного собора стрельчатой формы, с очень широкой основой. В этом здании проявляется еще одна отличительная черта романской архитектуры: крыша главного нефа слегка возвышается над крышами двух соседних нефов.
По всей вероятности, этот собор был заложен около 910 года, но его перестраивали в последующие века. Для нас было бы слишком большим счастьем, если бы до наших дней сохранилась в полной неприкосновенности постройка 910 года. До XI века у многих церквей были деревянные кровли и не было сводов, которые казались варварам той эпохи слишком сложными. Именно из-за деревянного остова крыши сгорела в 1821 году церковь Сан-Паоло-Фуориле-Мура в Риме.
В разрушенной монастырской галерее, слева от собора, можно прочесть на стене четыре латинских стиха, призывающие монахов проявлять терпение, когда дует мистраль. Эти стихи нас очень растрогали; мистраль развевал наши плащи и леденил нас.
Руинам Везона мы обязаны очень интересным днем, обогатившим нас впечатлениями, которые не скоро изгладятся из памяти. Вот наслаждение, доставляемое ученостью.
Авиньон, 15 июня
Сегодня утром я гулял по Оранжской дороге с молодым графом де Бер..., которому только что исполнилось девятнадцать лет. Медленно проехала на осле девушка. Какой-то двенадцатилетний мальчуган схватил осла за хвост и, вспрыгнув на осла, сел позади нее. Она не рассердилась. Большая телега стояла посреди дороги. Возчик, огромный грубый провансалец, погрозил мальчугану, и так как осел шел мелкой рысью, весело унося свою двойную ношу, возчик хлестнул кнутом ребенка. Тот вскрикнул.
- Какая бесчеловечность! - возмутился граф де Бер..., весь дрожа.
- И тебе тоже достанется, дохлятина этакая! - закричал возчик, подходя к нам и осыпая нас бранью.
Молодой граф с быстротой молнии бросился на огромного провансальца, схватил его за горло и так сдавил, что возчик побледнел и кровь выступила у него на губах. Когда он отошел на двадцать шагов, граф швырнул ему отнятый у него кнут. Всю жизнь я буду с нежным чувством вспоминать этого молодого графа, хотя и очень богатого, но совсем не дурака.
Женщины Авиньона очень красивы. Когда я стал восхищаться поистине восточными глазами одной из дам, делавшей покупки в лавках на площади, мне сказали, что она еврейка.
Широкий вид открылся мне с вершины известкового утеса Дом, на котором в XIV веке стоял папский дворец. Это была крепость. Она верой и правдой послужила антипапе Бенедикту XIII (Пьетро де Луна), который выдержал в ней длительную осаду маршала Бусико. Этот дворец теперь сильно разрушен. Он служит казармой, и солдаты отрывают от стены и продают местным буржуа головы, писанные альфреско живописцем Джотто. Несмотря на все эти повреждения, массивные башни дворца еще и сейчас возносят свои главы ввысь. Я заметил, что в этом здании полностью проявилась итальянская подозрительность; изнутри оно столь же сильно укреплено против врага, который смог бы проникнуть во дворы, как и снаружи против тех врагов, которые стали бы его штурмовать извне.
С живейшим интересом я прошел по всем этажам этой своеобразной крепости. Я видел заостренный кол (называемый "бдение"), на который инквизиторы сажали неверующего, не желавшего признаться в своем преступлении, и прелестные головки - остатки фресок Джотто.
Красные контуры первоначального рисунка еще заметны на стене.
Мысль о том, что Джотто мог бы сравняться с Рафаэлем, если бы он родился не в 1276, а в 1483 году, не является святотатством: в его фресках та же сила; он был бы более величественным и менее изящным.
Юго-восточная часть Авиньона опирается на утес Дом, который отвесно спускается к западу, где остается лишь узенькая дорожка по берегу Роны. Я снова с удовольствием посмотрел на здешний, весьма любопытный собор. Авиньон имеет вид военного города. Таков же облик большинства городков Прованса, которым не свойствен жалкий и унылый вид наших пикардийских городков.
Всем известно, что Филипп Красивый, король, умевший хотеть, приказал избрать папой Бертрана де Гота; последний принял имя Клемента V и в 1309 году перенес в Авиньон папский престол, который и оставался там до 1378 года. Папский двор, бывший в то время первым в мире, цивилизовал Прованс, который благодаря Марселю никогда не был столь диким, как, например, Пикардия.
Иоанн XXII, нуждаясь в деньгах, придумал под именем датарии целую систему поборов (annates, reservations, provisions, exemptions, expectatives), взимавшихся с христианских государств. С помощью датарии этот папа собрал наличными деньгами восемь миллионов золотых флоринов (двести миллионов франков) и движимого имущества на сумму в семь миллионов флоринов. Я с удовольствием убедился в том, что гробницу этого умнейшего человека революция пощадила.
Ловким и могущественным людям, составлявшим двор в Авиньоне, не нужно было стесняться или скрывать свои страсти, ибо в те времена люди не чужды были страстей. Это, по моему мнению, в значительной степени служит оправданием жестокости и несправедливости; к тому же это происходило задолго до Лютера и Вольтера*.
* (См. "Историю христианства" Поттера, единственную новую книгу, которая, трактуя о столь щекотливом вопросе, осмеливается не подлаживаться под моду. Это сокровищница беспорядочно разбросанных истин. См. также Муратори**, который часто побаивается.)
** (Муратори (1672-1750) - итальянский историк и археолог, автор ценных трудов по истории Италии в средние века; был обвинен в ереси и атеизме, но сумел оправдаться перед папой Бенедиктом XIV.)
Я вспомнил латинские письма Петрарки*, в которых он откровенно пишет о том, что творилось при авиньонском дворе в блестящие времена этого двора. Все это чрезвычайно любопытно, но его латинский язык мало понятен. Следует признать, что дела, в них упоминаемые, весьма отличны от того, что занимало Рим при Цицероне, стилю которого Петрарка старательно подражает**.
* ("Письма" Петрарки заключают в себе резкую оценку состояния Франции середины XIV века.)
** (Левати. "Путешествия Петрарки", Милан, 1818.)
В этих письмах говорится об одном умном, весьма пожилом человеке, облеченном высоким саном, который, чтобы окончательно соблазнить четырнадцатилетнюю девочку, надел на голову кардинальскую шапку. К сожалению, нет ничего более неясного и неточного, чем латинский язык (на что я уже слышу ответ ученых, что я неуч). Возможно, что правы и я и они, но у меня есть одно преимущество: мне не платят за высказываемые мною суждения.
Петрарка многим возмущается на латинском языке, но чем же он возмущается? Наоборот, нет ничего более ясного, чем замечательные, слегка легкомысленные, почти современные Петрарке рассказы, озаглавленные "II Ресогопе". Начиная с этой эпохи, полной энергии, итальянский язык все время склонялся в своем развитии к плоскому и обыденному; он подражал Цицерону - человеку весьма плоскому. Изысканный итальянский язык наших дней - это стиль г-на Лемонте по сравнению со стилем "Воспоминаний" д'Обиньи или Сен-Симона. Мысли более изящны, более разнообразны, бесспорно, более умело связаны друг с другом, но ни одна из них не передана с былой силой; мы видим автора, который дрожит за смелость своего стиля и забывает мыслить. Однако под этими цветами скрывается змея скуки*.
* (Академический французский язык все больше пользуется абстракциями в именительном падеже. Так погибает латинский язык. См. прекрасное историческое исследование Ж.-Ж. Ампера; прочтите также Авзония и Сальвиана**.)
** (Сальвиан - христианский проповедник V века.)
Вид, открывающийся с вершины утеса Дом, если и не очень живописен, то, во всяком случае, очень широк: на востоке высятся Альпы Прованса и Дофине и гора Ванту, на западе расстилается значительная часть бассейна Роны. Я считаю, что течение этой реки дает представление о могуществе; ее русло усеяно островками, заросшими ивами. Нельзя сказать, что зелень эта благородна, но посреди каменистой, засушливой местности она радует глаз.
По ту сторону Роны, позади развалин знаменитого Авиньонского моста, половина которого была снесена рекой в 1669 году, высится холм. На нем находится Вильнев и крепость св. Андрея, стены которых окружены лесами и виноградниками. Весь Конта-Венессен покрыт ивами, оливковыми и тутовыми деревьями, причем последние настолько разрослись, что в некоторых местах превратились в леса. Сквозь эти деревья издали виднеются стены Карпантра. Человек, достигший возраста нашего века, не может без улыбки назвать Авиньонский мост: ему тотчас же придет на ум веселое воспоминание о "Глухом или переполненной гостинице"*. Авиньонский мост, построенный в 1180 году, имел двадцать два пролета, из которых сохранились лишь четыре, прилегающие к левому берегу. Я осмотрел маленькую часовню св. Бенедикта на мосту и увидел там капитель коринфского пилястра. Не копия ли это?
* ("Глухой, или переполненная гостиница" - комедий Дефоржа (1790).)
Вид островков, образуемых по соседству Роной, недурен. По правде сказать, я лишь вынес суждение о том, что все эти виды очень приятны, но не смог ими насладиться. Я не в состоянии был испытывать какое-нибудь удовольствие. Жестокий мистраль вновь начал свирепствовать сегодня утром; это серьезный drawback* всех удовольствий, доставляемых Провансом.
* (Недостаток (англ.).)
Страбон называет этот страшный ветер "черным бореем", и так же именуют его жители Дофине. В Провансе же его называют мистралем. Страбон и Диодор Сицилийский утверждают, что сила этого ветра такова, что он "вырывает камни и опрокидывает телеги". Недели две тому назад, когда через Бокерский мост проезжал дилижанс, восьми мужчинам пришлось, поддерживая его равновесие, повиснуть на веревках, привязанных к империалу. Дилижансу грозила опасность свалиться в Рону.
Северный ветер встречает на своем пути длинную долину, по которой эта река течет с севера на юг. Эта долина, вроде поддувальных мехов, удваивает его силу. Когда в Провансе свирепствует мистраль, не знаешь, куда укрыться. Солнце ярко сияет, а нестерпимый холодный ветер проникает в самые защищенные жилища и так действует на нервы, что приводит в дурное расположение, и без всякой причины, самых бесстрашных людей*.
* (В таких случаях, кажется, древние садились в масляные ванны (Плиний, кн. XXIX))
Не имея своего угла в Авиньоне, я укрылся в очень любопытном соборе Нотр-Дам-де-Дом (De Dominis), Он стоит на вершине утеса того же названия. Внутри он напоминает римскую базилику, украшенную готическими орнаментами. Фасад был сооружен при Павле V (Боргезе), том самом папе, который закончил постройку собора св. Петра в Риме и имя которого помещено на фронтисписе этого здания. Из города к собору ведет высокая лестница. Портик - копия античного, весьма своеобразный и, возможно, даже уникальный. Можно предположить, что этот портик был сооружен до вторжения сарацинов, опустошивших Прованс. Архитектурные детали представляют много любопытного.
Я долго стоял между портиком и нефом, любуясь прекрасными обломками фресок. Какая непосредственность! Как все это естественно и как бесконечно далеко от наших академий! Какая сила! Говорю с сожалением: это полная противоположность современной живописи,- вроде того, что я говорил выше, сравнивая стиль д'Обиньи и Сен-Симона с напыщенными фразами г-на де Шатобриана.
Когда я это писал, я позабыл о батальных картинах Эжена Делакруа, которые восхитили бы Джотто.:
Гробница Иоанна XXII по своему изяществу и легкости не имеет себе равных. Цветущая готика не оставила другого памятника, который был бы столь же красив и производил бы большее впечатление.
Пришлось осмотреть церковь доминиканцев, построенную в 1330 году и наполовину разрушенную.
Собор св. Петра, перестроенный в 1358 году, готического стиля, фасад - 1512 года - цветущего готического стиля, очень изящен. На дверях - прелестные барельефы из дерева. Церковная кафедра представляет большой интерес.
Я с удовольствием осмотрел южный фасад церкви св. Марциала. Но, быть может, читателя утомляет такое количество подробностей. Я называю эти-памятники только для того, чтобы он осмотрел их проездом. Если даже остановиться в Авиньоне на час, необходимо осмотреть четыре этажа папского дворца и собор Нотр-Дам-де-Дом.
Теперь несколько слов о нелепейшем субъекте, которым мы обязаны революции 1830 года. Надеюсь, что читатель разрешит мне рассказать о том, что произошло на днях с одним спесивым капитаном национальной гвардии, который пресмыкается перед префектом и рассчитывает, как говорят, стать депутатом. Г-н Баларо публично отказался от своей подписки на местную либеральную газету в тот день, когда та неодобрительно отозвалась о префекте. Он надувается, как индейский петух, вообще делает все от него зависящее, чтобы стать общим посмешищем.
По случаю одного политического события, обрадовавшего всех французов, наш капитан вздумал устроить обед в складчину: ему хотелось показать, что в качестве "истинного патриота", как он себя величает, он радуется больше других. По-видимому, от избытка радостных чувств он и ел за четверых за обедом (чудесным, как всегда на юге, и стоящим всего по шести франков с персоны, при великолепном вине; гораздо худший обед в Париже обошелся бы по двадцати пяти франков). Баларо держался за столом радушным хозяином и вызывал с самого начала обеда хохот, который становился все оглушительней.
Мы снова обрели французскую веселость, которая была нам свойственна до революции. Поводы к смеху были до крайности примитивны. В полночь все разошлись, но вот что произошло через час.
Господин Баларо, улегшись спать, почувствовал легкое несварение желудка; он высек огонь, решив заварить себе чай. Чайник оказался у него в комнате, но чайница с чаем осталась в спальне г-жи Баларо, молодой, прекрасной уроженки Прованса, которая не принимает всерьез патриотические благоглупости своего супруга. Капитан на цыпочках направляется в спальню жены и там, боясь ее разбудить, ищет впотьмах чайницу на камине, а потом на стоящем рядом письменном столе.
Во время этих осторожных поисков он вдруг слышит громкий храп. Г-н Баларо поражен, он решает, что с его женой случился апоплексический удар.
Тут густой занавес опускается на супружеские невзгоды нашего "истинного патриота", придающий им особую пикантность в глазах местных жителей.
Баларо бежит к себе за огнем. Когда он возвращается в спальню жены, кто-то в темноте задувает его свечу, затем нашего храбреца берут за плечи и выталкивают в его комнату. Слышится заглушённый смех и голос, который Баларо готов признать за голос одного из своих приятелей. Как только он попадает в свою комнату, его тут же запирают на ключ.
Баларо в ярости прыгает из окна, которое находится на высоте всего 8 -10 футов от земли, начинает трезвонить у своих дверей, будит весь дом и даже г-жу Баларо, которая, ничего не понимая во всех россказнях мужа, требует, чтобы он оставил ее в покое, тем более после того, как он был так невоздержан за столом.
Назавтра, в семь часов утра, несчастный супруг бежит к своему покровителю, старому генералу Р., поведать ему все, что случилось сегодняшней ночью. На все разглагольствования Баларо генерал тоненьким голоском, но чрезвычайно внятно раз двадцать отвечает теми же четырьмя словами: "Молчи, иначе тебя засмеют". Как видно, капитан не внял этому совету, ибо весь город дружно над ним потешается. Поговаривают о том, чтобы устроить второй обед в его честь.
Во многих супрефектурах, где я побывал в этом году, происходит серьезная борьба самолюбий между г-ном супрефектом и людьми, которыми, как он выражается, он управляет. Следовало бы соблюдать справедливость в отношении обеих сторон. Я ни с чем подобным не встречался в прошлые годы. Франция понимает значение выборов, и генеральные и окружные советы будут гигантскими шагами двигаться вперед. В этих советах будет происходить подлинное обсуждение вопросов, а не заранее согласованные выступления, и депутатом в палату будет избираться человек, выказавший твердость на этих обсуждениях.
В главном городе одной префектуры, в котором я был несколько дней тому назад, все четыре начальника крупных отраслей управления весьма порядочные люди. Назову их:
директор управления прямых налогов - начальник кадастра;
директор управления косвенных налогов;
директор управления по обложению земельных имуществ;
главный инженер.
Опираясь на этих четырех людей и будучи хорошо воспитан, префект, если даже он новичок в своем деле, может не сплоховать и в Париже.
Кроме этих четырех чиновников, имеются еще, занимающие менее значительные должности:
казначей и
главный сборщик налогов.
Префект может выбрать пять достойных людей в качестве советников префектуры, но он от этого воздерживается. Опасаясь посягательства на свою власть, он обычно назначает лишь неспособных.
Если бы какой-нибудь префект осмелился хоть немного сойти с проторенной дороги, он мог бы поставить во главе каждого из своих отделов советника префектуры.
Префектура в общем обходится в 80-90 тысяч франков ежегодно; сумма складывается из следующих расходов:
Жалованье префекта .............................................. 24 000 франков Расходы на штат канцелярии ...................................... 45 000 франков Пять советников .................................................. 6 300 франков Оплата за помещение префектуры из средств департамента ........... 6 000 франков Итого ........................................................... 81 300 франков
Вместо того, чтобы тратить и свои личные доходы, префект еще делает сбережения из своего жалованья. У него нередко есть дочки на выданье, и он боится быть смешенным.
Авиньон, 16 июня 1837 г.
При папе Иннокентии VI возведены были в 1358 году прелестные крепостные стены Авиньона. Нужно было обезопасить город от нападения появившейся на юге разбойничьей шайки.
Эти прелестные стены построены из небольших, превосходно прилаженных прямоугольных камней; навесные бойницы поддерживаются рядом восхитительных небольших консолей; зубцы необычайно правильной формы. Вся эта постройка говорит о богатстве и уверенности в своей безопасности. Человеку, который воздвиг эту постройку, настолько были чужды мысли о полезности и страхе, что он разрешил себе ее украсить. На стенах высятся на равном друг от друга расстоянии четырехугольные башни, производящие прекрасное впечатление. Можно прогуливаться на этих толстых стенах; с них открывается чудесный вид.
Время одело эти камни, совершенно одинаковые, отлично прилаженные и словно отполированные, в однообразный цвет сухих листьев, что еще увеличивает их красоту. Итальянское искусство с его очарованием внезапно перенесено к галлам, которые были столь храбры, но воздвигали столь безобразные памятники*.
* (В них всегда замечаешь, если у тебя есть глаза, боязнь смерти и ада. В 1513 году сам Лев X был не очень-то спокоен в отношении ада.)
Беру лодку и еду по Роне. На Луаре боишься мелководья, можешь сесть на мель, на Роне же следует опасаться мощного и грозного течения. Причаливаю к небольшому бульвару из нескольких рядов вязов, которым здесь восторгаются и который через сто лет, когда деревья разрастутся, не лишен будет известной прелести.
Рабле называет Авиньон "звонящим городом"*.
* (Авиньон описан у Рабле в романе "Гаргантюа и Пантагрюэль" (первые главы V книги); под именем "Звонящего острова".)
В самом деле, здесь очень много колоколен. Но я бы скорее его назвал городом хорошеньких женщин: на каждом шагу здесь встречаешь такие глазки, которые даже не снятся в окрестностях Парижа. Над улицами из-за жары натянут холст. Мне нравится этот обычай и образующийся при этом полумрак. Желание поглазеть, столь свойственное приезжему, заставило меня потерять целый час ради какого-то распятия из слоновой кости, весьма высоко ценимого, но очень заурядного и на осмотр которого требуется особое разрешение. Монахиня показывает его с большой торжественностью.
Я видел дворцы Крильона и Камбиза. Всегда боишься упустить что-нибудь интересное; однако следовало бы сохранять спокойствие, когда наталкиваешься на уродство и зловоние маленького города.
Графиня Иоанна*, неаполитанская королева, знаменитая своей красотой и любовными похождениями, продала Авиньон папе Клементу VI за восемьдесят тысяч золотых флоринов. Самым существенным в этом деле было отпущение одного небольшого греха - убийства ее первого мужа; получив отпущение, королева позабыла потребовать от папы восемьдесят тысяч золотых флоринов.
* (Графиня Иоанна - Иоанна I, королева Неаполитанская (1327-1382), первым браком была замужем за Андреем Венгерским. По ее повелению Андрей был задушен, а сама она бежала из Италии от мести брата Андрея - венгерского короля Людовика I - в свое наследственное владение Прованс. Здесь она предложила антипапе Клименту VI продать Авиньон за 80 000 флоринов, если он официально признает ее непричастность к убийству и утвердит ее новый брак с князем Тарентским. Климент VI согласился на эту сделку.)
Людовик XIV, проявлявший необычайную твердость в отношении чужеземных государств, дважды завладевал Авиньоном - в 1662 и 1668 годах; Людовик XV последовал его примеру через столетие, в 1768 году, наконец, в 1790 году учредительное собрание присоединило Авиньон к Франции. Злые языки утверждают, что в характере жителей сохранились еще некоторые черты со времен итальянского господства; тому свидетельством башня Гласьер*, маршал Брюн.
*Гласьер - башня в Авиньоне, куда были брошены трупы роялистов, казненных в 1794 году за убийство революционного мэра города.
Единственный хорошо одетый человек, с которым мне пришлось говорить, сказал со скорбным видом, что из-за "ужасной" французской революции Авиньон лишился ценнейших картин и памятников. Я этому не верю; я вспоминаю описание Авиньона 1738 года милейшего президента де Броса*; лучшими картинами были тогда картины Миньяра и Парроселя.
* ("Италия сто лет тому назад", т. 1, стр. 330, изд. М. Колонна.)
Встречаю много старых солдат; здесь имеется отделение Дома Инвалидов. Что может быть разумнее? Средства небогатого шестидесятилетнего человека ведь не бог знает какие. Следовало бы разместить три четверти инвалидов Франции в Антибах, в одном лье от Вара и от границы, которую эти славные люди защищали бы в случае надобности. Хлеб, вино и мясо там дешевле, чем в Авиньоне, и черный борей Страбона не так свирепствует там.
Один корсиканец, человек рассудительный, г-н H., мне сказал: "История Франции начинается только с Людовика XI. С этого момента и до настоящего времени события последовательно идут одно за другим. До Людовика XI были лишь забавные эпизоды: Карл Великий, Карл V, Орлеанская дева. Следовало бы какому-нибудь умному человеку, вроде Верто*, перевести на французский язык ученого Сисмонди".
* (Верто, Рене (1655-1735) - французский историк. Сочинения его написаны живым и простым языком. Сисмонди, Симонд (1773-1842) - швейцарский экономист и историк. В своих исторических трудах ("История средневековых итальянских республик", 16 том, 1807-1844, и др.) Сисмонди высказывает либеральные точки зрения. Но эти труды написаны очень неуклюжим французским языком, отчего Стендаль и желает их "перевода" на "хороший" французский язык.)
Г-жа д'Арсак из Авиньона говорила своим дочерям: "Никогда не верьте превосходной степени (самый красивый, самый злой). Существует только посредственность".
История юной креолки: Мой понимать.
В тот момент, когда мне уже казалось, что я смогу в течение ближайших двух недель поездить по прелестному Провансу, в котором до сих пор я насладился лишь мистралем, пришло письмо из Марселя,; извещавшее меня, что наши алжирские дела не требуют моего приезда в Марсель, и одновременно другое, из Парижа, из которого я узнал, что в мое отсутствие дела нашей фирмы ведутся неумело и робко. Сегодня же вечером выезжаю снова в Ниверне, куда меня призывают эти безжалостные дела. Счастлив человек обеспеченный или по крайней мере уверенный в том, что он не будет раскаиваться, остановившись на полпути к небольшому состоянию!
Случайно, в самый момент отъезда, когда лошади уже были запряжены, я пошел взглянуть позади нового театра на ряд галерей, несомненно, римского происхождения. Они тянутся под многими домами. Если бы не пожалеть несколько сотен франков на раскопки, они могли бы дать весьма интересный материал; но на юге люди скупы. Поразительное невежество здешнего префекта: он приказал забросать землей случайно обнаруженные античные развалины, не дав даже времени их зарисовать.
Единственный уголок Франции, где действительно интересуются стариной,- это Нормандия. Счастливая область, которую изучает такой истинный ученый, как г-н Прево!
Ниверне, 18 июня.
Я проехал через Клермон и очень жалел, что не могу там остановиться. Как замечательно он расположен! Какой прекрасный собор! Какая чудесная жара ventillata!*.
* (С ветерком (итал.).)
Вид на Пюи-де-Дом, находящийся всего в двух лье от города, волнует воображение, между тем как впечатление от Лимани порождает мысль о великолепии и плодородии. Я смог уделить лишь четверть часа осмотру собора; он был начат около 1248 года и не окончен. Свод в ста футах от земли; длина здания - триста футов; столбы на круглой площадке перед церковью замечательны по своему изяществу. Это строгое, величественное здание господствует над городом, мрачным и построенным на пригорке. Меня поразил и восхитил вид, открывающийся с земляной насыпи. Очень древней церкви Нотр-Дам-дю-Пор, сооруженной в 560 году и перестроенной в 866-м, следовало бы посвятить несколько страниц. Но, как всегда, меня останавливает мысль о том, насколько это будет понятно. В Оверни широко используется различие в окраске материалов для внешней облицовки. Древние раскрашивали фасады своих храмов. До того как было сделано это открытие - что произошло сравнительно недавно,- ученые академики возмущались такой раскраской.
Местный корреспондент нашей фирмы уговорил меня пойти с ним в сад Мон-Жоли в двадцати минутах от города. Находящаяся там роскошная аллея из старых деревьев уже сама по себе заслуживает поездки за десять лье. А я смог уделить лишь полтора часа такому городу, как Клермон! По своему расположению он напоминает прелестнейшие швейцарские города, с той только разницей в его пользу, что он построен из лавы и что присутствие вулкана, даже потухшего, всегда придает пейзажу особое своеобразие и драматизм, приковывающие к нему неослабеваемое внимание. Читатель, по всей вероятности, согласится со мной - ничто так скоро не вызывает зевоты и не приводит к душевной усталости, как очень живописный пейзаж. В таких случаях античная колонна, даже самая заурядная, имеет огромное значение; она переносит душу в другую сферу ощущений.
Мое столь краткое пребывание в Клермоне было к тому же отравлено жалобами. Я парил в небесах; требование одной "дружественной" нам фирмы к другой, также "дружественной", спустило меня на землю. Когда же я буду достаточно богат, чтобы общаться с людьми, сообразуясь только со своим желанием? Потомки скажут: "Завистливый девятнадцатый век!" Этот прискорбный эпитет вполне заслужен им во Франции. Причиной всех сегодняшних неприятностей была только зависть.
Если бы в моем распоряжении была неделя, мне кажется, я прекрасно использовал бы ее в Канталах, в окрестностях Сен-Флура. Там имеются уединенные уголки, достойные душ, способных наслаждаться сонетами Петрарки; однако я не стану более подробно описывать эти уголки, дабы не допустить штампованных фраз и прилагательных в превосходной степени, которыми полны статьи разных писак в журналах.
Сегодня вечером своими откровенными и неосторожными разговорами я заслужил презрение одного торговца железом, гораздо более крупного, чем я, человека неглупого, но со старомодными взглядами, которых придерживались двадцать лет тому назад. Он восторгался "Всемирной биографией" Мишо. Должен признаться, что с тех пор как у меня две тысячи франков ежегодного дохода, я перестал думать об осторожности: это слишком скучно при моем небольшом честолюбии.
Если хочешь считаться в современной Франции способным человеком, необходимо говорить жалобным тоном, никогда не касаться общих вопросов и с уважением относиться к пяти - шести благоглупостям, которые и посейчас являются лжебогами, обязательными для человека, желающего во что бы то ни стало сделать карьеру. Можно было бы сказать, что не иметь веса является оскорблением для всех, имеющих вес. Боюсь, как бы через четыре - пять лет эти боги не оказались низвергнутыми. Это несчастье произойдет, когда делами будут вершить только те, кто родился после 1789 года.
Я предвижу вторичный прыжок в более далеком будущем, отстоящем от нашего времени на тридцать лет, когда делами будут вершить люди, которым было пятнадцать лет в 1828 году, в ту роковую эпоху, когда всякий, кто носил перчатки, осмеливался подвергать критике самые почитаемые до того избитые истины. Но к тому времени сыновья новых богачей научатся читать, к их голосу будут прислушиваться в литературе, и это явится преградой всякого рода нововведениям.
Следует отметить, что мое внимание отравлено на весь день, как только оно привлечено какими-нибудь низменными душами, причем сочетание душевной низменности со значительным умом делает яд еще более сильным; отсюда моя невнимательность, ведущая к неосторожности.
Вести этот дневник по вечерам, вернувшись в свою комнатушку в гостинице, доставляет мне гораздо более действенное удовольствие, чем чтение. Это занятие прекрасно очищает мое воображение от всех денежных вопросов, от всего того гнусного недоверия, которое мы величаем осторожностью. Осторожность! Сколь необходима она людям, не родившимся в состоятельной семье, и сколь тяжела она как для пренебрегающих ею, так и для прибегающих к ее помощи!
До сих пор я помещал в скобки, собираясь в дальнейшем все это опустить, детали внешнего облика больших готических памятников - единственного украшения французского пейзажа. Как много мог бы я сказать о Клермонском соборе!
Сегодня вечером идет проливной дождь (что может быть более гнетущим, чем проливной дождь, который громко стучит по мостовой уродливого провинциального города в семь часов вечера?!). Итак, из-за дождя я пользуюсь своим досугом и, больше того, беру на себя смелость предложить вниманию читателя некоторые сведения:
1) из истории романской архитектуры, сменившей в одиннадцатом веке римскую и подражавшей ей, насколько позволяли нищета и варварство тех времен;
2) из истории готической архитектуры, пришедшей в тринадцатом веке на смену романской и, в свою очередь, вытесненной около 1500 года Ренессансом.
Затем стали подражать итальянским образцам; примером тому может служить Валь де Грае; за ней последовала нелепая галло-греческая архитектура - Пантеон. И, наконец, появилась Нотр-Дам-де-Лорет - да почиет она в мире!
Вам известно, что готической называют теперь и архитектуру романскую и архитектуру готическую в собственном смысле слова. Последняя никогда ничего общего с готами не имела, в 1200 году никто и не помышлял об этих варварах.
Романская, а после нее готическая архитектура, заставившая позабыть первую, пользовались бесчисленным количеством мелких орнаментов; форма их менялась приблизительно каждые пятьдесят лет. Таким образом, если взять на себя труд запомнить последовательность форм двадцати вычурных мелких орнаментов, можно легко прослыть ученым в глазах толпы. Входя в первый раз в церковь, следует воскликнуть с вдохновенным видом:
- Эта часть относится в двенадцатому веку, а та - к четырнадцатому, вот эти толстые круглые столбы одиннадцатого века!
Так как абсолютно положиться на свою память весьма затруднительно, можно указывать даты с точностью до пятидесяти лет.
Может быть, перспектива прослыть авторитетом в такого рода вопросах внушит читателю мужество и он захочет ознакомиться с подробностями, излагаемыми ниже.
Предстоит решить следующую задачу.
Суметь, входя в церковь, произнести с вдохновенным или - что еще лучше - с серьезным, смиренным и несколько загадочным видом: "Эта часть одиннадцатого, а такая-то - четырнадцатого века".
1. Заметьте себе, что большинство церквей строилось в течение по крайней мере ста пятидесяти лет.
2. Вам известно название провинции, в которой вы находитесь,- Пуату, Овернь, Бретань и т. п.,- так вот, ежели известно название провинции, капители колонн подскажут вам дату с точностью до пятидесяти лет, ибо они состоят из фигурных барельефов, фантастических листьев или из листьев виноградной лозы и других, прекрасно скопированных с натуры.
Расцвет готики
В Реймсе - собор, начатый в эпоху перехода от романского стиля к готике. В Руане-собор св. Уэна, чистая цветущая готика с легким налетом пламенеющей. Цветущая готика копирует овощи с натуры.
Все постройки, носящие название Святой Часовни (в церковном или школьном стиле), имеют лишь один неф и форму застекленной клетки.
На юге Франции самые значительные здания были возведены во времена господства романского стиля с 1000 по 1200 год; на севере же - уже в пору господства готики - с 1200 по 1500 год.
У каждой провинции во Франции был свой период расцвета, когда в ней создавались прекрасные здания-Смены форм искусства происходили в данной провинции раньше или позже, в зависимости от местных условий.
Влияние материалов: в Пуату рабочий мог сделать пятьдесят капителей в год, в Бретани же он делал в год всего одну капитель из гранита.
Должно отметить, что нередко во Франции подражали константинопольскому собору св. Софии, с его куполами, а также византийской архитектуре или же римской времен Юстиниана. Однако мне кажется, что в Отене, в Эксе и т. д. в еще большей мере брали за образец крупные римские памятники, которые были перед глазами.
В конце двенадцатого - начале тринадцатого века происходит большой переворот: смелость овладевает умами в области архитектуры, ко всему прочному, тяжеловесному начинают относиться с презрением, нравится только дерзание, иначе говоря, солидные постройки романского стиля повсюду вытесняются высокими тонкими колоннами и сводами, возвышающимися на сто футов над землей,- торжествует готика.
Готика широко использовала стрельчатый свод, к которому прибегала иногда и романская архитектура. Так как такой свод не имеет распора или, во всяком случае, допускает его только в самой незначительной степени, готическое искусство помещало свод в воздухе на исключительной высоте, в конце чрезвычайно удлиненных колонн. Примеры тому - соборы в Страсбурге и Реймсе. Страница эта была бы совершенно понятна, если бы ее прочесть в знаменитом Констанцском соборе, являющемся как бы высшим выражением вертикальной линии, или хотя бы в церкви св. Дионисия.
Как мы уже говорили, почти во всех церквах отдельные части строились в разные века.
Настоятели Миланского собора ежегодно получали значительные суммы для окончания своего великолепного храма,- он строился из белого мрамора с филигранной резьбой, в готическом стиле. Они были настолько предусмотрительны, что все время оставляли портал в незаконченном, жалком виде. Что может быть нелепее, чем когда прямо на большую площадь выходит безобразная стена с пробитым в ней входом, свод которого выложен голыми кирпичами? А этот нищенский вход вел в роскошный собор, украшенный четырьмя тысячами статуй, с контрфорсами из белого мрамора художественной резьбы. В течение двух веков эта невинная хитрость доставила монахам миллионы; собор фигурировал во всех завещаниях. Но пришел Наполеон; в бытность свою итальянским королем он сыграл с монахами злую шутку, приказав достроить беломраморный фасад их храма - знаменитого Миланского собора. Нет ничего более красивого на свете!
Нередко во Франции романский неф при всей своей прочности и даже тяжеловесности ведет на хоры, построенные со всей готической легкостью и грациозностью.
Каково же общее впечатление от этих двух частей, где одна является противоположностью другой?
Привычка услужливо набрасывает свой покров на все эти противоречия. Разве не властвует она безраздельно над французами? Кто из нас решится критически отнестись к привычке?*. Тем более, что ведь только тридцать лет назад начали хоть немного разбираться в этих вопросах. Достаточно сказать, что еще даже не создана терминология. Готическая архитектура ждет своего Лавуазье.
* (Однажды провалился мост, на котором я стоял. Так как при этом погибло только трое, все возблагодарили бога за его милосердие.)
Если читатель обладает небольшой дозой терпения, я позволю себе добавить к моим объяснениям, что такое готика, еще шесть страничек по ее истории.
История готики
Седьмой век был уже веком варварства. Смотри жалобы историка Фредегера* **:
* (Фредегер (ум. ок. 660) - автор летописной компиляции и франкской хроники, относящейся к VII веку.)
** (Фредегер умер около 658 года)
"Я бы желал,- говорит он в полном унынии,- сохранить в достаточной степени легкость изложения, чтобы хоть в какой-то мере напоминать такого-то и такого-то (называет писателей, предшествовавших ему). Но трудно черпать воду, если она иссякла. Мир стареет, вот почему прозорливость в нас притупляется. В наши времена никто не может и не осмелится считать себя равным ораторам, нам предшествовавшим".
Карл Великий, этот могучий гений, призвал ученых чужеземцев: он приказал всем своим подданным научиться читать (государи в ту пору не боялись разума: сила их народа была их собственной силой). Он не только отдал такой приказ, но среди непрекращающихся войн сам деятельно помогал приводить его в исполнение.
Его твердая воля приносила плоды даже во времена царствования его слабохарактерного сына Людовика Благочестивого, а также Карла Лысого. Однако под владычеством королей, лишенных способности хотеть, среди все возраставшего беспорядка, дело великого человека, покоившегося в могиле, мало-помалу заглохло. От него не осталось и следа в IX веке, а в X во Франции наступил век полного варварства. Совсем не тронутые цивилизацией дикари, подобные тем, что встречались в Северной Америке еще двадцать лет назад, все же имели некоторое преимущество*: у них по крайней мере лицемерие и предательство наказывались. В X же веке таких лицемеров и предателей награждали самыми выгодными должностями.
* ("Путешествие капитана Бонвиля" Вашингтона Ирвинга.)
Бедствия и смута дошли до таких размеров, что общество скорее вредило людям, чем помогало им. Несколько мудрецов, удалившихся в монастырь, обратили внимание на этот тупик.
Среди страшного хаоса X века начал формироваться социальный организм, называемый нами Францией, что не мешает писателям монархического толка, которые, по-видимому, пользуются особыми источниками, беспрестанно говорить нам о нашей великой четырнадцативековой монархии.
Начиная с V века, задолго до полного варварства X, одни только епископы представляли организующую общественную силу. Об этом свидетельствует жизнь Григория Турского*, этого исключительно чистосердечного и достойного человека.
* (Григорий Турский умер около 595 года.)
Священнослужители должны были действовать в то время очень политично. Нужно было, не прибегая к физической силе, заставить с собой считаться дикарей, зачастую разъяренных, признававших только силу меча. Священники, чтобы установить свою власть, не переставая говорили об аде слабым представителям населения - детям, женщинам и дряхлым старцам.
Косвенная угроза, заключающаяся в громком слове "ад" - этой основе христианства, в конце IX века уже не могла служить сдерживающим началом для неистовых варваров. Поэтому священники, сговорившись между собой, объявили наступление конца света к 1000 году. Варвары сразу же насторожились.
Дары, приносимые духовенству, были огромны. Варвар-военачальник жертвовал тысячи арпанов соседнему монастырю, чтобы получить местечко на небесах. Если читатель сейчас во Франции, он может быть уверен, что место, на котором он находится, читая эти страницы, трижды приносилось в дар церкви. Варвары в минуты гнева или в случае какой-либо нужды отбирали у церкви все то, что их жены или они сами дарили ей в тот час, когда ад, казалось, грозил им вечными муками.
"Все, что ты объедешь на своем ослике,- сказал Дагобер св. Флорану,- пока я выкупаюсь и надену свое платье, будет принадлежать тебе". Св. Флоран поспешно сел на своего осла и пустился рысцой по горам и долам быстрей, чем это сделал бы на лошади лучший наездник.
Судя по этим важным событиям всеобщей истории, во Франции до 1000 года возводились только весьма жалкие строения.
Даже в Риме все приходило в упадок с поразительной быстротой; начиная с 300 года архитекторы, строившие триумфальную арку в честь Константина (она еще и теперь стоит возле Колизея), не придумали ничего лучшего, как украсть барельефы и колонны с триумфальной арки Траяна, причем поместили эти колонны вниз головой. И странное дело! Как раз в то время, когда в Риме дошли до такой степени варварства, галлы достигли самого высокого своего предела в литературе. Латинским языком пользовались повсюду: Тулуза, Отэн, Трир, Бордо стали блистательными столичными центрами. Но набеги варваров все уничтожили. Около 1000 года норманны и другие народности разорили Францию дотла. Трудно себе даже представить, в какое нищенское состояние пришли Шартр, Париж, Реймс - словом, те города, которые в XIII веке украсились великолепными зданиями.
Среди этой страшной неурядицы и всеобщих несчастий люди в конце концов стали думать только о настоящем; будущее не занимало их, одна мысль о рае согревала сердце. Строили только жалкие деревянные домишки, чтобы защитить себя от холода и непогоды. В X веке не стало больше архитектуры. Но после 1000 года благодаря искусно распространяемой идее о близости конца света, несметные богатства оказались в руках духовенства. И, следовательно, единственное удовольствие, которое мог себе доставить епископ в 1000 году, полностью подчинивший себе соседних крестьян, собравший несметное количество золота и серебра,- это постройка храма! Отсюда замечательное возрождение архитектуры в XI веке.
Удивительное дело! Наши предки-варвары, хотя и очень сильные физически, не подумали о том, чтобы строить из огромных каменных глыб, как это делали древние полудикие народы, оставившие в Альбе (близ Рима) и в ста других местах в Италии те величественные сооружения, которые в наши дни называются циклопическими.
Искусство строительства почти что погибло вместе с империей Цезарей, но римские здания частично сохранились в XI веке. Большинство служили крепостями, и у варваров явилась несчастная мысль им подражать. Эта первая классическая шутка, которую сыграла с нами античность. Если бы наши предки следовали своему инстинкту, они бы по крайней мере нагромоздили огромные каменные глыбы, и сооружения их были бы величественны. Они же стали подражать, и их удел - презрение потомков или забвение.
Десятый век может считаться для Франции эпохой наибольшего падения человеческого рода. Еще до конца этого века вожди варваров, руководимые епископами, старательно занимавшимися мирскими делами из боязни утратить свое влияние, задумали ввести законы по примеру тех, которыми управлялись римские города в Галлии.
Это совершенно правильное соображение привело к несчастнейшей мысли - копировать римские постройки. И нет ничего более бедного, жалкого, убогого, безобразного, чем эти плачевные имитации. Очень небольшое число их сохранилось, хотя прошло только восемь веков. Варвары употребляли маленькие кусочки камня, они складывали стены горизонтальными рядами кирпичей, стараясь вернуть ровность кладке.
Кирпич входит в употребление с времен императора Галлиена (253 г. Р. X.), но только при постройке второстепенных зданий. Некоторые части церкви св. Мартина в Анжере, а также Гревского собора и больницы в Меце* являются свидетельством того, что варвары использовали этот материал и для своих дворцов и для храмов. Не умея соразмерить вес и форму камней, не зная, как их соединить, как построить из них своды, они предпочитали употреблять стволы дубов, росших в их лесах. Поэтому они не возводили сводов для своих церквей, а крыли их деревянными крышами. Отсюда частые пожары (см. историю церкви св. Уэна),
* (Мериме. Очерки по церковной архитектуре.)
То, что старые церкви говорят нашей душе, когда мы созерцаем их в минуты покоя и умиротворенности, их моральное воздействие объясняется тем впечатлением, которое производит на нас архитектурный стиль.
По крайней мере десять ученых, в большей или меньшей степени враждующих с логикой, думали прославиться, присвоив особое название стилю зданий, построенных в XI веке на деньги, собранные в ожидании "конца света". Этот стиль именовался романским, византийским, ломбардским, саксонским и т. п. Насколько я знаю, общественное мнение не вынесло еще своего решения. В ожидании его я изберу название "романский", так как оно указывает на главную особенность зданий, возведенных в XI веке.
1. Прежде всего они явились подражанием римской архитектуре*.
* (Мне кажется, что я должен дополнить несколькими словами мое определение стиля. Наша душа, услышав гром, уже не приходит в ужас. Для многих людей этот звук по своей силе и насыщенности производит впечатление музыкальности. Самый зловредный атеист Франклин в своем безбожии взялся за объяснение молнии. Наша душа совсем не похожа на душу бургундца 1200 года. Романские и готические храмы говорят нам - выражаясь точно,- совсем другое, чем то, что они говорили варварам, страшащимся ада.)
2. Подражали также и архитектуре Востока. Вполне естественно, что священник, совершивший паломничество по святым местам, взявшись по возвращении за постройку церкви, старался воспроизвести гроб господень, которому поклонялся в Иерусалиме. По дороге в Иерусалим он повидал в Греции памятники Византийской империи, возможно, что и в Азии видел какие-нибудь здания, возведенные победителями-сарацинами - отсюда и купола.
К примеру, могущественный анжуйский вождь Фульк Нерра* не один раз побывал в святой земле; он восхищался сооружениями, которые ему пришлось там увидеть, и захотел, должно быть, возвести нечто подобное у себя дома.
* (Фильк, Нерра - анжуйский герцог (987-1039).)
3. Монашеские ордена владели большими богатствами, привилегиями и т. д., но каждый из них держался своих обрядов благочестия, более приятных богу, чем обряды соседа. Возводимые ими постройки должны были благоприятствовать исполнению этих обрядов. Большинство архитекторов были из священников.
4. Здравый смысл должен был бы обратить внимание на требования нашего обложенного тучами неба. Наш климат резко отличен от климата Востока, архитектуре которого мы столь неразумно подражали. Наши самые большие праздники пасха и рождество очень часто бывают при отвратительной погоде. Однако это соображение, которое заставило бы призадуматься каждого рассудительного человека, почти не оказало влияния на форму наших церквей, настолько священники старались рассорить наших добрых предков с логикой.
Крыши церквей, которым приходилось нести огромную тяжесть от снега, долгое время делались плоскими, как в благодатном климате Востока.
Эти четыре обстоятельства, только что мною перечисленные, должны были действовать совершенно различно, например в Париже, столь отдаленном от больших римских* сооружений, и в Ниме или Эксе, окруженных великолепными памятниками древности. Цирки Арля, Нима, Пон-дю-Гар, Квадратный дом, триумфальная арка и театр в Оранже и другие сооружения, быть может, существовавшие в XI веке и впоследствии разрушенные, учили грандиозности зодчих романских храмов. Они не воспользовались стрельчатым, таким прочным, сводом для моста св. Духа, а "портик" Авиньонского собора скопирован с античных образцов.
* (Я не могу привести здесь все возражения против возможной критики: для этого у меня нет места. Знаю, мне могут возразить, что в Париже в XI веке был дворец Жюльена, а в Лильбоне - несколько античных построек и т. д. Но доказать, что эти сооружения действительно тогда существовали и что они сравнимы с постройками в Ниме, Арле, Оранже, было бы весьма трудно. В XI веке, как и в наши дни, житель Парижа, чтобы посмотреть античный памятник, должен был доехать по крайней мере до Отена. Отеновский амфитеатр существовал, по-видимому, еще в XI веке.)
В дальнейшем, когда готика, отказавшись от тяжеловесности романского стиля и стараясь изумить своей кажущейся легкостью, попыталась проникнуть на юг Франции, она натолкнулась на могущественную соперницу в людских сердцах - восхищение акведуком Пон-дю-Гар и Квадратным домом.
Самая красивая, на мой взгляд, узорчато-резная капитель находится в Иссуаре. Вначале я было принял ее за работу талантливой художницы м-ль де Фово. Я видел точный рисунок этой капители у ученого М. На ней изображены крылатые девы и уснувшие воины в кольчугах.
Эта капитель относится к XI или, может быть, к XII веку. В XIV кираса постепенно заменила кольчугу.
В Бриуде встречаются очень любопытные капители; на них изображен обычно дьявол, пожирающий грешника. Верующим в ожидании проповедника приходилось смотреть на эти капители. Язык дьявола весьма странной формы и предназначен для самых различных целей.
На почте... мне показали акварель, которую оставила в залог молодая крестьянка. На акварели изображены окрестности Сен-Нектера (в семи - восьми лье от Клермона), извержение вулкана, застигнутое, если можно так выразиться, на месте преступления. Равнина на этой акварели усеяна маленькими вулканическими холмами и кратерами; справа гранитная скала, остановившая лаву во время сильного извержения.

Никола-Мари-Жозеф Шапюи. Дворец пап в Авиньоне. Рисунок с натуры. Литография Жана Жакотте
В Сен-Нектерской церкви узорчато-резные капители изображают чудотворные деяния святого, давшего имя этому городку. За исключением тех месяцев, когда туда съезжаются на воды, в Сен-Нектере не живет и ста человек. Неблагоразумно и рискованно ехать туда. Пришлось бы вместе с багажом брать с собой палатку. Чем стариннее капители, тем меньше на них выпуклых фигур. Это естественное следствие недостаточной умелости рабочих.
Ниверне, 19 июня.
"Дай бог, чтобы Париж запылал с четырех концов!"
Вот что было заявлено почти всерьез сегодня на роскошном обеде. Это милосердное пожелание высказали богатые негоцианты Южной Франции. Не только один человек завидует другому в нашем печальном XIX веке, не только каждому банкиру или богатому негоцианту ненавистен господин Лафит, но еще и Тулуза, Бордо и другие города никак не могут вынести процветания Парижа. Зависть к Парижу вызывают: во-первых, игра на бирже (человек, не рискуя, что об этом кто-нибудь узнает и что он прослывет игроком, может доставить себе острое наслаждение, бешено играя на бирже); во-вторых, рента. "В Париже шестьдесят тысяч держателей ренты,- говорят эти завистливые люди,- а в провинции их менее четырех тысяч. С земель получаешь лишь два с половиной процента дохода, и то с большим трудом, а деньги, помещенные в ренту в Париже, приносят четыре и три четверти процента". "Вы правы,- могли бы ответить на это рантье,- но земли дают удовлетворение вашему тщеславию и содействуют производству в капитаны национальной гвардии с присвоенной этому чину меховой шапкой". В-третьих, все крупные сделки совершаются в Париже; исключение составляет один Лион, да и то лишь в отношении второстепенных дел.
"Но кто же в этом виноват? - возразил я, ибо, чтобы не подумали, будто я уклоняюсь от этих нападок, мне пришлось сказать несколько кислых слов. - Только мелочная злоба, заставляющая покидать провинцию всех, кто может жить в Париже. Но, господа, ведь это басня о частях тела, восставших против желудка. Разве вам было бы желательно, чтобы наша страна была децентрализованной, как Испания, у которой вообще нет столицы?" и т. д. Меня слушали, дрожа от ярости. Тогда я доставил себе удовольствие еще усугубить зависть: "Но знаете ли вы Париж, господа? В 1800 году, после переписи, согласно которой в столице было лишь четыреста шестьдесят тысяч жителей, первый консул заявил: "В столице Франции должно быть полмиллиона жителей",- и повсюду стали печатать: полмиллиона! В 1837 году в Париже уже насчитывается девятьсот двадцать тысяч жителей, не считая предместий, как Вожирар, Батиньоль и т. п., прилегающих со всех сторон к Парижу. Двадцать богатых людей из моего департамента переселились в Париж, потому что там меньше злобствуют и завидуют, чем в провинции. Как бы вам этого ни хотелось, невозможно ненавидеть незнакомца".
Обед был превосходен, но скучен: присутствовали недавно разбогатевшие и очень богатые выскочки. Один новоиспеченный вельможа, красавец-мужчина, весь увешанный золотыми цепочками, весьма гордившийся орденской розеткой, полученной два дня тому назад, решил завладеть словом; казалось, что он отвечает зазубренный урок.
- На нашу революцию 1830 года,- воскликнул он,- возложена была высокая миссия, которую она прекрасно выполнила! Будем же почитать и благословлять память людей, гений и добродетель которых сделали Францию независимой от капризов соседних монархов, свободной и добродетельной внутри. Но не будем пытаться подражать этим благороднейшим людям, ибо они уже сделали все, что нужно, и нам остается лишь спокойно наслаждаться плодами их трудов. Бойтесь нарушить установившееся равновесие, не позволяйте себе неосторожно пробуждать в народе стремление к соревнованию - в этом главная опасность. Не нужно больше взаимного обучения, не нужно больших школ...- Тут послышался громкий смех, ибо господин этот сделал свою карьеру на науке и больших школах. Он был сильно этим задет, раздраженное самолюбие заставило его произнести несколько неосторожных фраз, отчего смех стал еще громче, и он был, можно сказать, ошикан, насколько позволяло приличие. Г-ну Н. весьма хотелось бы, подобно многим другим, пользоваться преимуществами своего положения и в то же время встречать в салонах прежнее уважение и всеобщую благосклонность. Вот в чем беда всех этих господ, сделавших карьеру за последние семь лет.
- Это поистине какая-то европейская болезнь,- воскликнул он с неудовольствием,- желание народов соваться в общественные дела и вмешиваться в прерогативы верховной власти! Чтобы правительство могло делать добро, перед ним должны стоять лишь чисто моральные барьеры, иначе ваша оппозиция отвлечет его от прямого дела или даже вызовет его гнев, и оно не сможет целиком отдаться высокой и трудной миссии, возложенной на него небом... (Я упрощаю слог его речи, который был еще более напыщенным.)
При этих словах все позволили себе посмеяться над великим деятелем, даже молодежь, только начинающая свою карьеру. Так я провел вечер; не был рассказан ни один забавный анекдот.
Я ненавижу, когда мне верят на слово; такая доверчивость - устаревшая привычка, которую и я менее всего хотел бы привить своему читателю. Я так часто (даже слишком часто) говорю о духе, который царит в провинции, о том особом провинциальном тоне, который за тридцать лье от Парижа все себе подчиняет, всюду проникает и все опошляет, что я подумал было о том, чтобы призвать на помощь драматургию и написать сценку этим провинциальным языком.
Но мне могли бы сказать, как говорили г-ну аббату Ф*., когда он воспроизводил диалоги в семинарии св. Сульпиция между собой и бесчестным Рейналем или вольнодумцем Дидро: "У вас они получаются слишком плоскими".
* (Аббат Ф,- Аббат де Фрейсину (1765-1841) - французский епископ, выступавший во время Империи с проповедями против философии просветительства.)
Привожу рассказ, в точности переписанный из приложения к газете "Constitutionnel" от 19 ноября 1837 года.
Если читатель сочтет пример этот слишком длинным, пусть он соизволит принять во внимание, что для того, чтобы удостоиться его критики, я был вынужден оставаться в таком умственном окружении на два месяца больше, чем это требовалось для моих дел.
Эпизоды из жизни Атаназа Оже
опубликованные его племянницей
(Оже Атаназ (1734-1792) - французский литератор-эллинист.)
ГРАФ ДЕ НОЭ, ЕПИСКОП ЛЕСКАРСКИЙ, И ЕГО ГЛАВНЫЙ ВИКАРИЙ
Сердечная близость и искреннейшая дружба связывали этих двух выдающихся людей, живших в 1791 году, в том самом году, когда разраставшаяся смута и различные партии уже начали угрожать прерогативам короля из династии Капетов*. Науки и искусства, однако, процветали, и многочисленные писатели продолжали свои труды, увенчанные успехом, при благосклонном к ним внимании просвещенного монарха, который покровительствовал им деятельно и открыто.
* ("...короля из династии Капетов", то есть Людовика XVI.)
Аббат Оже жил на улице Фосуайе, № 17, а монсиньор, епископ Лескарский,- на улице Канет, совсем поблизости. Так как оба они были людьми очень образованными и их нежная привязанность была взаимной, то вполне естественно, что постоянный обмен любезностями проистекал из этого задушевного и прочного союза. Аббат держал корректуру трудов епископа, а на маленькую Шарлотту-Софи Оже, племянницу аббата, была возложена обязанность, доставлявшая ей превеликое удовольствие, относить прелату эти корректуры. Это была моя мать, в то время десятилетняя девочка, прелестнейшая брюнетка, живая, бойкая и умненькая; второй такой и не сыскать. Г-н де Ноэ обожал малютку, которая была от этого в восторге и постоянно спрашивала своего почтенного дядюшку, не нужно ли отнести корректуры монсиньору.
Однажды в феврале, в самом тоскливом, ненастном и холодном зимнем месяце, дядя, как обычно, послал свою любимицу с бумагами. Моя добрая бабушка закутала ее в меховую шубку, и она ушла. Когда девочка, не торопясь, добралась до цели своего путешествия, снег падал большими хлопьями и епископ, поджидавший бумаги, наблюдал из окна за прелестной посланницей.
Он заметил, как она вошла в калитку, и сам спустился с непокрытой головой, не боясь промокнуть; он вышел во двор к девочке, взяв ее на руки, сразу снял шубку, завернул малютку в свою широкую сутану и отнес в свой кабинет, где жаркий огонь в камине пылал ярким пламенем, разбрасывая искры.
- Однако, дорогое дитя,- сказал он девчурке,- ваш дядя, видно, считает вас маленькой спартанкой, если посылает в такую погоду.
- Вовсе нет, монсиньор,- ответила она,- когда я уходила из дома, снег не шел и ни дядя, ни я не могли предвидеть, что я не успею дойти до вас!
- В таком случае, милая племянница (он часто так обращался к ней), снимем ваши тонкие башмачки, которые совсем промокли, и я посажу вас в мое большое вольтеровское кресло, чтобы дорогая малютка обсохла и хорошенько обогрелась. Вы завтракали?
- В девять часов утра я выпила, как обычно, чашку молока с двумя большими кусками хлеба с маслом и еще не голодна.
- Все равно! Вы ведь любите мое варенье из Бара и засахаренные фрукты. Я прикажу их вам подать.
- Вы слишком добры, монсиньор, мне ничего не нужно. Сейчас только полдень, а я позавтракала в девять часов.
- И что же, моя прелестная брюнеточка, вы думаете, что спустя три часа, после тяжелой дороги, да еще промокши из-за меня, вы не покушаете с удовольствием? Ах вы, маленькая лакомка, я уже вижу по вашим чудесным черным, таким лукавым глазкам, как вам хочется, чтобы все эти вкусные вещи уже стояли на моем письменном столе.
Он позвонил и приказал вошедшему слуге принести сласти его маленькой горячо любимой племяннице. Моя мать, рассказавшая мне об этом случае, добавила, что, несмотря на суровое время года, но приказанию епископа подали тарелочку чудесной земляники, первой в этом сезоне, и что монсиньор спросил ее, сколько ей положить ягод и любит ли она, чтобы на них посыпали много сахара. Малютка ответила:
- Нет, совсем немного, всего тринадцать ягодок и четырнадцать ложечек сахара.
Наконец, когда она хорошенько обогрелась и обсушилась, г-н де Ноэ приказал подать карету и сам отвез мою мать к ее доброму дядюшке. Когда они приехали, было два часа; в те времена принято было ужинать вечером, а в этот час обедали. Монсиньор епископ, который привез в своем экипаже десяток чудесных мальтийских апельсинов, преподнесенных ему накануне, напросился к обеду.
Обычно, когда прелат оказывал эту честь нашей семье, что случалось нередко, г-жа Оже знала, что нужно достать сливочный сырок из Шантильи, которым он очень любил полакомиться, и тотчас же послала за этим сыром своего единственного слугу. Видя, как мало слуг в нашем доме, епископ неоднократно настаивал на том, чтобы взяли одного из его лакеев в помощь матери и двум дочерям для прислуживания за столом. В тот день он настаивал более чем обычно, потому что заметил, как хлопотала моя бабушка, застигнутая врасплох. Но аббат Оже, мой дядя, всегда от этого отказывался.
- Прошу вас, монсиньор,- сказал он епископу,- не обращайте на это внимания. Беспокойство, отражающееся на вашем лице, лишает нас удовольствия и счастья, которое мы испытываем, принимая вас за своим столом. Разве вы не знаете, что у нас, как во времена Гомера, принцессы прислуживают за столом?
Эта острота вернула прелату его доброе расположение духа и веселость. Он не стал больше настаивать и, горячо пожав руку своему другу, сделавшему столь удачное сравнение, вместе с ним прошел в его кабинет, чтобы в ожидании трапезы заняться более серьезными вопросами. Когда все было готово и пригласили к столу, "маленькая спартанка", которая всегда старалась поставить свой прибор между дядей и его другом, и в этот раз не преминула это сделать. За десертом бабушка не забыла подать монсиньору сливочный сыр, который пришелся ему весьма по вкусу. Что же касается аббата Оже, то он терпеть не мог этого сыра и уверял, что заболевает от него лихорадкой.
- Да,- сказала вдруг Софи,- на моего дорогого дядюшку этот сливочный сыр плохо действует: у него створаживается лицо.
Девочка хотела этим намекнуть на то, что лицо дядюшки было очень некрасиво. Прелат засмеялся и поцеловал плутовку за ее тонкую, полную иронии шутку.
- Ах ты, злюка,- сказал старший викарий,- тебе это даром не пройдет, это отзовется на твоем кошельке! Месяц уже на исходе, и новый золотой на этот раз туда не попадет. Так-то, сударыня, вы дали понять монсиньору, что я некрасив, вы обратили его внимание на мой природный недостаток. А он-то всегда считал меня красавцем!
- Ну, полно, дорогой аббат, не сердитесь! Если небеса не наделили вас красотой лица, то они украсили вашу прекрасную душу всеми человеческими добродетелями. Однако если бы эта шалунья приходилась мне племянницей, я бы ее хорошенько отшлепал; но так как я лишь ее старый друг, то я ее расцелую за удовольствие, которое мне доставила ее острота, столь едкая и удачная.
- А, значит, и вы, монсиньор, туда же? Как это дурно с вашей стороны! Мы больше с вами не друзья.
Так эти два человека, созданные, чтобы понимать друг друга, никогда не отказывались, невзирая на свой высокий сан, от легкой шутки, которая еще ярче, сказала бы я, обнаруживала их добродушие и простоту их безупречных нравов. Г-н граф де Ноэ отличался высоким ростом, прекрасным лицом и манерой держать себя. Его благородная, изящная осанка, когда он облачался в одеяние, присвоенное его сану, вызывала всеобщее восхищение; что же касается главного викария, он был приземист, худ и очень некрасив.
ДЕСЕРТ У АББАТА ОЖЕ И ТАНЕЦ МОНСИНЬОРА ЕПИСКОПА ЛЕСКАРСКОГО И ЕГО ГЛАВНОГО ВИКАРИЯ
Дошли до десерта; чудесные апельсины, заботливо разложенные в прелестной фарфоровой позолоченной корзинке, красовались посреди стола. Пяток апельсинов нарезали кружками, затем с сахаром и ромом приготовили из них апельсиновый компот, который дядюшка очень любил. Подзадоривая один другого, друзья принялись вперегонки за десерт и болтали без умолку. Сами того не замечая, они оба опьянели, и раскаты их хохота, а также невольные слезы, выступавшие на их глазах от смеха, обратили на себя внимание трех дам - бабушки, тети Терезы, которая была на девять лет старше моей матери, и, наконец, маленькой плутовки, которая, встав из-за стола еще до того, как было подано кофе, подговорила свою сестру, чтобы та упросила бабушку перейти в гостиную, что и было тут же исполнено.
Перейдя в гостиную, монсиньор граф де Ноэ, брат г-жи де Полиньяк, епископ Лескарский, высокочтимый аббат и т. д., и т. д., и Атаназ Оже, его главный викарий, член всех академий и т. д., и т. д., оказались оба настолько навеселе, что едва держались на ногах и болтали, как сороки. Видя это, хитрая Софи схватила обоих за руки, заставила мать и сестру взять каждого за другую руку, и все сделали два или три круга по комнате, меж тем как проказница Софи (моя мать) прелестнейшим голоском, каким ее наделила природа, пела как могла лучше и громче. Добрейшие священнослужители тем охотнее приняли участие в этом шаловливом танце, что нескромные и чужие взоры не стесняли их, и если бы проказница Софи не дернула слишком сильно за руку своего доброго дядюшку и он не растянулся бы во весь рост на ковре, они бы еще долго плясали. Правда, он не ушибся, но все же больше не захотел продолжать игру. Так закончилась эта сценка, которая своим простодушием напоминает мне, если принять во внимание различие эпох и действующих лиц, доброго Генриха IV, который на четвереньках катал вокруг комнаты своего сынишку, сидевшего на нем верхом, и, не меняя своего положения, принимал посла иностранной державы.
- У вас есть дети, сударь? - спросил его король.
- Да, ваше величество.
- В таком случае мы можем продолжать нашу игру.
ДРУЖЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ ЛЕСКАРСКИМ ЕПИСКОПОМ АТАНАЗУ ОЖЕ, КОТОРЫЙ ЕГО РЕШИТЕЛЬНО ОТКЛОНИЛ
Эти двое ученых, которые так прекрасно понимали друг друга, почти целые дни проводили вместе и считали, что они использовали день наилучшим образом, если с полной искренностью могли обменяться мыслями и суждениями относительно своих литературных работ.
Однажды после дружеской беседы о свойствах человеческого сердца и ума, что дало им повод коснуться их привязанности друг к другу, г-н граф де Ноэ сказал своему главному викарию:
- Знаете, дорогой мой Атаназ, у меня явилась превосходная мысль, которая доставит мне величайшую радость, если вы ее одобрите.
- Какая мысль, монсиньор? - спросил аббат Оже,
- Я уже запретил вам, и притом категорически, употреблять, обращаясь ко мне, титул, когда мы вдвоем или в кругу близких друзей. Я хочу, чтобы вы называли меня, когда я бываю у вас или с вами и вашей семьей, просто Ноэ, а не "монсиньор", что в ваших устах меня всегда огорчает. Я не хочу также, чтоб, обращаясь ко мне, вы говорили "господин". Пожалуйста, называйте меня просто "Ноэ" или "мой друг". Вот что я тебе разрешаю. Слышишь, Атаназ?
И он добавил:
- Вот то предложение, которое я собирался тебе сделать. Я хочу, я требую и, если нужно, приказываю, чтобы впредь ты говорил мне "ты"; никаких "вы" между нами, мой дражайший друг! Я питаю к тебе чувство величайшей дружбы и глубокое уважение, которого заслуживают твоя примерная скромность и добродетели. Если бы я был близким другом самого короля Людовика XVI, я бы не считал, что мне оказана большая честь, чем теперь, когда я могу назвать своим истинным другом такого человека, как ты.
- Монсиньор! - воскликнул Атаназ.
- Опять! Я, право, рассержусь. Вы, значит, не слышали того, что я говорил, милостивый государь? Может быть, вы меня даже вовсе не слушали?
- Простите, - сказал мой дядя. - Позвольте мне разъяснить вам свою мысль. Мы горячо любим друг друга, даже больше, чем это можно выразить словами. Поверьте же, прошу вас, всей беспристрастности моих соображений, с которыми, я убежден, вы согласитесь, когда дослушаете меня до конца. Я был бы очень польщен и горд этим величайшим знаком расположения, но, привыкнув обращаться друг к другу на "ты" в кругу близких друзей, сможем ли мы уследить за собой, когда будем на людях? Не вырвется ли у нас это "ты" очень некстати, поскольку мы привыкли гораздо чаще бывать вдвоем без посторонних, чем на пышных церемониях, на которых нам приходится вместе присутствовать? Нет, ваш скромный друг и викарий не должен позволить себе обращаться к вам на "ты", я никогда этого не смогу. Достоинство каждого из нас не допустит, чтобы вы один оказывали мне такую честь. Если вы будете обращаться ко мне на "ты", дорогой Ноэ, в то время как у меня не хватит на это решимости, то не покажется ли окружающим, что вы приравниваете меня к своим слугам?
- Ты прав. Ну, говори мне "ты" хотя бы только сегодняшний вечер.
- С удовольствием, мой дорогой, истинный и искренний друг. Позволь мне вновь выразить тебе мое глубочайшее уважение и неизменную, искреннюю и вечную любовь и будь уверен, что, хотя мы только один вечер будем говорить друг другу "ты", ты всегда будешь иметь во мне самого преданного слугу.
Бурж, 20 июня 1837 г.
Я собираюсь признаться вам в поступке, который отнюдь не к лицу джентльмену и который, бесспорно, лишит меня расположения многих: только что я с радостью распрощался со своей коляской и своим слугой. Один друг, которого я встретил в Нивернейских кузницах, воспользуется этой коляской, чтобы поехать в Париж.
Я привык путешествовать, как простой приказчик торговой фирмы, и только в мальпосте или дилижансе чувствую себя легко и приятно. Я убеждаюсь в том, о чем прежде лишь догадывался: только радости, которыми наслаждался в двадцать пять лет, не теряют для тебя прелести в течение всей твоей жизни.
Возвращаясь в Париж, мой друг подвез меня к Ла-Шарите, где я с превеликим удовольствием купил себе место до Буржа в самом скромном провинциальном дилижансе*.
*(Дальнейшее приписано уже позже, в Гавре.)
Путешественнику, который соблазнится моим примером, я скажу, что достаточно захватить с собой самый легкий дорожный мешок, чтобы объездить Тур, Нант, Ванн, Карнак, Лориан, Ренн, Доль, Сен-Мало, Авранш, Кутанс, Гавр и Руан.
Эта часть моего путешествия, которую я проделал частью в дилижансах, частью на пароходе,- причем, ввиду отсутствия у меня фрака, я не бывал ни у кого с визитами,- была, бесспорно, самой приятной.
Встречая в дилижансах и за табльдотом деловых людей, занятых своей карьерой, или мелких землевладельцев, очень ревниво относящихся к своим интересам, я был гораздо ближе к истине в отношении всего, что привлекало их и мое внимание. Так как я не мог излагать свои мысли, не превратив их прежде в ходячую монету, мои слова не представляли для них ничего неожиданного, и я никогда не создавал себе неприятностей, задевая взгляды моего собеседника. Я приобрел таким образом во время моих переездов в дилижансах двух - трех друзей, и они, бесспорно, встретятся со мной с большим удовольствием, чем мои парижские приятели, которым я иногда противоречу помимо своего желания. Я мог бы без конца говорить о том, насколько деловая часть нации довольна правлением короля, с удовольствием повторяя при этом фразы из "Charivari".
Когда порой по вечерам скука одолевала меня, мне приходилось останавливать свое внимание на многих деталях, которые, конечно, выпали бы из моего поля зрения, если бы не одиночество, заставлявшее искать пищи для ума в любом пустяке. Хорошо вспоминаешь лишь пейзажи, навеявшие скуку.
Однако в общем, повторяю, я прекрасно себя чувствовал в этом полном одиночестве в течение месяца. Под предлогом приличий и вследствие тщеславия, заставляющего заурядных людей строго их соблюдать, общество с каждым днем становится все более лицемерным, и можно сказать, что создаваемые им стеснения превышают удовольствия.
Не посчитаться с приличиями было бы еще не столь ужасно, если бы не угрызения совести после такого преступления. Но я очень огорчаюсь, видя, как страдает из-за меня уязвленный в своем тщеславии благовоспитанный человек, доверчиво беседующий со мною, вдруг натолкнувшись с моей стороны на неожиданный ответ. Он опасается, что не найдется, что сказать.
Отсутствие огорчений, испытываемых, когда причиняешь огорчения другому, в соединении с ростом и обострением ощущений составляет, быть может, всю прелесть одиночества. Одиночество путешественника, впрочем, рассеивается движением, многообразием и новизной впечатлений.
Дилижанс, вышедший из Ла-Шарите, остановился на минуту в Русселане; эта почтовая станция состоит из одного дома среди поля, окруженного большими лесами. Немногие ландшафты вызывали во мне чувство такого полного одиночества; я провел там четверть часа, прогуливаясь вдоль леса в ста шагах от фермы; я был счастлив, мне казалось, что я сбросил с себя бремя всех мирских печалей.
Проехав несколько лье по необычайно унылой равнине на лошаденках, которым приходится делать перегон в шесть лье, я издали увидел башню знаменитого Буржского собора. Эта башня, увидеть которую я давно мечтал, неоднократно скрывалась с глаз из-за неровностей местности. Наконец мы добрались до небольших осушенных болот, где выращивается капуста; они непосредственно примыкают к городу; местные жители находят, что это красиво.
Мы въехали в город по улице, одновременно широкой и убогой, где не было ни единой живой души, кроме нескольких канониров полка, который депутатам Шера удалось заполучить для своего департамента.
Дилижанс подвез меня к лучшей местной гостинице, расположенной слева от дороги, ведущей из Парижа, посредине большой улицы. Не успел полусонный слуга в бумажном колпаке отнести мой дорожный мешок в отведенный мне номер, как меня вдруг охватила такая тоска, что просто описать невозможно, У меня явилась мысль послать на станцию за лошадью и тут же уехать в Иссуден, расположенный по дороге в Тур. Я задыхался от ощущения мещанского убожества.
Чтобы лишить себя возможности уступить столь нелепому отвращению, я выбежал из комнаты, омерзительной с виду, но споткнулся о ступеньку, которая была совершенно не к месту посреди площадки винтовой деревянной лестницы, спускавшейся к главному входу в гостиницу. Я чуть не упал. Лестница была настолько ветхая, что я побоялся, как бы деревянные перила из колонок, источенных червем, за которые я ухватился, не остались у меня в руках.
Я вышел из гостиницы, признаюсь, вслух проклиная провинциалов, я хотел пройти в собор, но предпочел бы умереть, чем спросить у одного из этих добрых людей дорогу; я чувствовал, что мало-мальски нелепый ответ может заставить меня тут же повернуть в улицу налево, где я заметил по приезде почтовых лошадей.
Я подумал, что люди XIII века отличались редким здравомыслием во всех случаях, когда указанный здравый смысл не был затемнен религией. Решив построить знаменитый епархиальный собор среди обширной равнины, они должны были избрать для этого самое высокое место в городе. Итак, я побрел вдоль сточных канав, посреди унылых улиц, которые тянутся то между оградами садов, то между жалкими трехэтажными домиками. Через пять минут я оказался у подножия прямоугольной башни собора. Вблизи башня не производит хорошего впечатления, потому что контуры ее, вырисовывающиеся в небе, не ровны. Этот весьма серьезный недостаток объясняется тем, что статуи святых слишком выдаются вперед и стоят под стрельчатыми навесами, вделанными в башни.
На мое счастье, вход в собор был еще открыт. Здесь реставрируют - и притом чудесно - большой готический портал. (Я узнал на следующий день, что замечательной реставрацией этого большого портала Бурж обязан разумному и талантливому человеку - городскому архитектору г-ну Жюльену, который в течение пятнадцати или двадцати лет целиком занят ремонтом этого огромного здания.)
Становилось уже совсем темно; я поспешил войти в церковь, боясь, как бы ее не закрыли. В самом деле, когда я вошел, огромное пустое здание осветили двумя или тремя лампадами. Признаюсь, меня охватило какое-то странное ощущение: я почувствовал себя христианином, я мыслил, как святой Иероним, которого вчера читал. На час моя душа избавилась от страданий, терзавших меня, словно булавочные уколы с самого приезда в Бурж.
Я чувствую всю невозможность дать какое-либо представление об этой церкви, которую, однако, никогда не забуду. У нее только одна башня; по своей форме она напоминает игральную карту; она разделена на пять нефов четырьмя рядами огромных колонн, имеющих вид связанных прутьев. Хотя церковь и начата около 845 года, все же она готического стиля. Два великолепных портала с севера и с юга, архитектурой которых я не мог достаточно налюбоваться, принадлежат, по-моему, к более ранней эпохе. Обратите внимание на деревянную дверь с южной стороны, покрытую заглавными R.
Вот все, что я могу ясно изложить. До тех пор, пока люди не смогут пользоваться маленьким словарем, содержащим названия ста главных частей готического храма, невозможно будет разъяснить простыми словами то, что вы видели; здесь совершенно необходима гравюра.
Ничто не отличается такой простотой, как архитектура греческих храмов; главные же достоинства готики - сложность, стремление изумить и тщательность отделки.
О том, каков этот огромный собор внутри, я могу сказать лишь одно: он вполне соответствует своему назначению. Приезжий, который бродит между его огромными пилястрами, преисполняется благоговения: он ощущает ничтожность человека перед лицом божества. Если бы не возмущающее нас лицемерие и политические цели, скрытые под словами благочестия, это чувство длилось бы несколько дней.
Мне посчастливилось быть почти в одиночестве; темнота быстро надвигалась. Спустя некоторое время привратник стал вертеться около меня. Видя, что я не понимаю, он приблизился ко мне и с решительным видом, который, быть может, был вызван прирожденной застенчивостью, сказал мне, что "нужно уходить".
Я сразу завоевал его дружеское расположение своей щедростью. Он сообщил мне массу подробностей, которые в эту минуту меня живо заинтересовали. Он рассказал мне, что под хорами имеется подземная церковь (или пещерная молельня).
Ввиду того, что не в моих силах дать здесь удобопонятное описание, я обращусь к истории, как это постоянно делают писатели, отличающиеся изяществом слога и отсутствием мысли, когда они должны дать отчет об опере или картине.
Собор св. Стефана - таково название одного из красивейших храмов во Франции - был заложен в 845 году, в период кратковременного расцвета искусства, которым оно было обязано Карлу Великому; закончен же он был много веков спустя. Портал церкви, к которому ведет двенадцать ступеней, имеет в ширину сто шестьдесят девять футов. Барельеф над главным входом изображает "Страшный суд". Во время религиозных войн XVI века протестанты разбили головы у большинства святых на фасаде собора.
Главный неф высотою в сто четырнадцать футов под замком свода и шириною в тридцать восемь футов. Длина всего здания - триста сорок восемь футов. Средняя вышина колонн - пятьдесят два фута. Большое церковное окно, украшенное яркими цветными стеклами, изготовляемыми в XII веке,- не менее двадцати семи футов в диаметре.
По моей настоятельной просьбе привратник пошел за фонарем, и я вместе с ним спустился в пещерную молельню (или подземную церковь). Там я осмотрел гробницу Иоанна I, герцога Беррийского. Его крупная голова имеет горделивый и злой вид. Стоит ли говорить, с каким удовольствием я обошел это огромное здание, освещенное только двумя лампадами, горевшими перед алтарями, и нашим фонарем! Я с наслаждением отдался этой чисто детской радости.
Я сговорился со славным привратником встретиться завтра в восемь часов утра. Он был до того любезен, что проводил меня в "модное кафе". Правда, когда я сказал ему, что хочу посетить "модное кафе", он не понял. Тогда я пояснил ему, что хочу пойти в такое кафе, которое приносит владельцу наибольший доход, больше других посещается, наконец, куда ходят офицеры. При последних словах на недоуменном лице привратника разгладились морщины, и мы двинулись в путь.
Кафе это не шикарно, однако оно было переполнено посетителями. В нем очень громко разговаривали; было немало артиллерийских офицеров в блестящих мундирах, которые играли в экарте со всем пылом юности, сопровождая восклицаниями каждый ход. Все это меня приободрило. Я послушался здравого смысла, который уже час твердил мне, что необходимо пробыть в Бурже весь завтрашний день. Что может быть более нелепо, чем покинуть один из самых больших центральных городов, куда я, конечно, никогда уже не попаду, так и не осмотрев его достопримечательностей? Здесь, без сомнения, имеется какая-нибудь церковь, заложенная Жаком Кером*, "казначеем" Карла VII, первым талантливым, как мне кажется, министром финансов, которым может похвалиться история нашей страны. Насколько я вспоминаю, его подвергли жесточайшим гонениям, выслали, разорили - и он умер на острове Хиосе (около 1456 года).
* (Жак Кёр (род. в конце XIV века) - крупный финансист и коммерсант, казначей Карла VII. Оклеветанный врагами, был принужден бежать из Франции и умер в 1456 году изгнанником на о-ве Хиос.)
В добавление ко всем бедам этого вечера я, выпив кофе с большой примесью цикория, отправился из кафе в гостиницу, надеясь поужинать, и заблудился. Время было неурочное - десять часов, и на множестве улочек, кривых и образующих лабиринты, было совершенно пустынно. Все время я попадал на одну и ту же маленькую площадь, усаженную деревьями. Наконец мне повстречался пьяница, самый комичный в мире: вдребезги пьяный, он все же хорошо ворочал языком и сердился на то, что я к нему обращаюсь. Он мне все время повторял:
- Какое мне дело, что вы только два часа как приехали к нам в город и не знаете, где ваша гостиница?
Он был очень забавен, когда, словно из милости и с глубочайшим презрением, иногда называл мне улицы, о которых я не имел понятия. Видя, что я не двигаюсь с места и продолжаю его расспрашивать, он сказал, издеваясь надо мной:
- Идите в этом направлении: там увидите почтовую станцию, а она-то уж вас довезет, куда захотите.
Он очень смеялся своей остроте и удалился, повторяя ее и ударяясь о стены.
Я же пошел быстро. Местоположение станции я заметил еще при въезде в Бурж. Все удалось как нельзя лучше: через пять минут я отыскал свою гостиницу, где толстая служанка сунула мне в руки вонючую свечу в грязном подсвечнике. Пишу эти страницы на комоде.
Бурж, 21 июня.
Я забыл рассказать, что вчера в гостинице меня заставили прождать битый час, прежде чем подали в номер ужин - такой отвратительный, что я, чтобы не заболеть, принужден был потребовать бутылку шампанского.
К счастью, стоит жаркая погода, и я могу держать окно открытым. Можете себе представить, что было бы, если бы в такой гостинице мне пришлось затопить паршивую печурку, поставленную возле окна, в глубине которой имеется отверстие величиною в кулак, сообщающееся с другой печной трубой!
Господи, какая разница, когда сравниваешь все это с югом Франции! Почему я не в Лангедоке?
Утром, поднявшись с постели, я взял проводника и гордо отправился снова в свое замечательное кафе, недоумевая, как я мог накануне заблудиться.
Я убедился что если бы я приехал в своей коляске, то все равно не мог бы остановиться в другой гостинице: она считается лучшей в городе. Мэру следовало бы пригласить какого-нибудь иностранца, чтобы тот открыл здесь гостиницу.
Выпив несколько чашек кофе, забеленного молоком, опять-таки с большой примесью цикория, я поспешил вернуться к собору, ради которого терплю все эти муки.
Он окончательно покорил меня. Когда-то, так как сводам угрожало разрушение, построили с противоположной от башни стороны, справа от посетителя, большой, очень прочный, но весьма уродливый контрфорс. Можно было бы в значительной степени устранить это уродство, вырезав на контрфорсе готические орнаменты глубиною в шесть дюймов, возведя стрельчатые своды, пилястры и т. п., в известной мере соответствующие орнаментам башни.
В то время как я любовался фасадом церкви, я заметил, что начали красить большой готический, только что реставрированный портал. Синий цвет, выбранный для того, чтобы придать порталу соответствие со всем окружающим, показался мне слишком ярким.
Я отыскал привратника и, поднимаясь вместе с ним на галереи церкви и на башню, весь покрылся благородной пылью веков. Унылую равнину, которая видна сверху, слегка разнообразят пригорки, покрытые лесами, среди которых я заметил белеющую большую дорогу, ведущую в Ла-Шарите, и образуемый ею просвет между деревьями.
Я снова спустился в подземную церковь. Но насколько она была красивее вчера вечером, при свете нашего единственного фонаря! Я обнаружил там несколько посредственных скульптур; складки одежд менее безобразны, чем обнаженные части тела. Великолепная ризница построена Жаком Кером.
Нет ничего более любопытного и, осмелюсь даже сказать, более прелестного, чем две боковые двери этой церкви. На двери со стороны архиепископского дворца, то есть с южной стороны, изображены фигуры, складки одежд которых были бы достойны римской статуи. Г-н Жюльен, искусный архитектор собора, реставрировал контрфорсы с возможным изяществом. Он соорудил на крыше каменную балюстраду" необычайной легкостью которой я не мог достаточно налюбоваться. Она производит просто восхитительное впечатление, если смотреть на нее из архиепископского сада.
Обнаружить этот сад, в котором столько густой тени в жгучий солнечный день, было для меня подлинным счастьем. После трех часов, которые я провел, изучая собор и любуясь им, отдых под старыми деревьями доставил мне наслаждение. Быть может, мне так понравился этот сад из-за отталкивающего уродства равнины, по которой я ехал. В саду я увидел памятник какому-то прославленному гражданину, улучшившему породу овец.
В этом саду очень удобные скамейки, с точно такими спинками, как в Лондоне, что внушило мне большое уважение к мэру города. На такой скамейке я прочел почти всего "Ромео" Шекспира. Я заметил в двадцати шагах от себя высокую стену, изрешеченную пулями. Вот одно из неудобств путешествия, когда избегаешь общества и провинциальных ученых, я не мог узнать, кто же стрелял. Несмотря на все мои просьбы, никто из редких посетителей сада, впрочем, очень любезных, не сумел меня на этот счет просветить. Мне пришлось остановиться на том, что эти пули попали сюда во время религиозных войн. Но были ли то протестантские или католические пули?
Услышав в конце сада военный марш, я приблизился к ограде и увидел артиллеристов, которые проходили учение вокруг небольшого артиллерийского парка из двенадцати или пятнадцати орудий. Я подошел поближе к пушкам и наткнулся на круглую башню с фундаментом из больших глыб, бесспорно, римского происхождения. Тотчас же мое сильное отвращение к этому городу уменьшилось наполовину. Я не скажу, чтобы такое чувство было справедливым, но это так. Действительно, за шестьсот пятнадцать лет до христианской эры Бурж был одной из столиц галлов. Бурж, в древности Аварикум, был осажден Цезарем.
Я поспешил вернуться в собор. Мой приятель-привратник дал мне пятнадцатилетнего проводника, от услуг которого я несколько раз отказывался, и даже с раздражением; однако же, несмотря на свой юный возраст, он прекрасно справился со своими обязанностями. Он знает наизусть названия пяти - шести достопримечательностей.
Мой проводник провел меня в королевский суд, помещавшийся в особняке Жака Кера. Трудно себе представить что-либо более любопытное. Чудесная постройка в стиле Ренессанса. Это сильно удлиненное здание, хотя и весьма неправильной формы, одно из прелестнейших на свете. Если забыть о нескольких перекладинах оконных рам, которые ныне сняты, можно было бы подумать, что Жак Кер только вчера покинул свой дворец. Повсюду видны его гербы - сердца, как на десятке червей. Нет ничего более очаровательного из построек в этом стиле, с их изгибами и завитками, чем часовня над входом, готическое окно которой изображает большую лилию. Часовню разделили надвое настилом, чтобы разместить канцелярии суда присяжных, который также находится во дворце Жака Кера. На стрельчатом своде какой-то итальянский художник написал альфреско головки ангелов, которые кажутся сказочно прекрасными среди уродливых лиц, придаваемых человеческому роду готическим искусством; это стиль болонской школы.
Я развлекался чтением ярлыков на нескольких десятках скверных ружей, совершивших преступления и выставленных здесь судом присяжных. Кабинет председателя этого суда очень остроумно отделан тем же г-ном Жюльеном; он нисколько не портит прелестной архитектуры Ренессанса. Проводник обратил мое внимание на то, что для свинцовых украшений на крыше пользовались будто бы свинцом двух цветов. Я поднялся на галерею, которая выходит на улицу, но здесь натолкнулся на недостаток того архитектурного стиля, где все подчинено орнаменту,- галерея настолько узка, что с трудом в нее входишь. Это прелестное здание относится к 1443 году.
Среди этого благородного изящества XV века еще более резко выступает грубость нашей эпохи. Меня повели в зал заседаний суда присяжных. Я предполагал, что он имеет некоторое сходство с Ланкастерской залой в Англии; вместо этого я попал в безобразный прямоугольный зал, оклеенный аляповатыми голубыми обоями с трехцветным бордюром. На завитках бордюра повсюду читаешь: "27, 28 и 29 июля". Увы, генеральный совет пожалел денег на это здание! Министры финансов, собирающие огромные деньги, помышляют в наши дни лишь о том, чтобы их скрыть, и не строят дворцов.
Мой юный проводник повел меня в дом "Голубых детей", недавно приобретенный городом, чтобы поселить там монахинь ордена Христианской доктрины. Этот дом еще лучше особняка Жака Кера. Настоящий шедевр: архитектура Ренессанса во всей своей прелести. Я бы никогда себе не простил, если бы уехал из Буржа, не повидав его, или, точнее, я никогда бы не поверил описаниям, которые довелось бы мне услышать. Это - воплощение рыцарского идеала.
Особенно привлекла мое внимание винтовая лестница в углу самого маленького двора; я никогда ее не забуду. Только она так мала, будто сделана для людей ростом в четыре фута. Камни, из которых она сложена, толщиной не более шести дюймов: не могу понять, как это все держится.
Над маленькой входной дверью, ведущей на эту миниатюрную лестницу, помещен слегка выпуклый медальон, изображающий мифического короля,- кажется, Франка, короля франков. Имеется там и надпись. Над дверьми главного корпуса здания изображены две головки, словно вылезающие из овального слухового окна, так же как на прелестных гробницах, в стиле Ренессанса, храма Минервы в Риме. Одна из этих головок имеет сходство с Наполеоном.
Монахиня, очень застенчивая с нами, но весьма властная с девочками из простонародья, собранными в этом доме, разрешила нам подняться по лестнице. Другая юная монахиня, тоже с серебряным крестом и в синем платье из грубой шерсти, открыла дверь, и мы смогли осмотреть, к великому удивлению всех девочек, огромный средневековый камин.
Монахиня была настолько любезна, что повела меня в часовню. Это помещение, шириной приблизительно в десять футов и длиной в двадцать пять, могло бы послужить образцом для чудесного будуара. По-моему, невозможно было создать в стиле Ренессанса что-нибудь более прелестное. Не хочу, однако, преувеличивать: здесь не чувствуется большого таланта, ничего, говорящего сердцу. Этот стиль тем более подходит для будуара. Не могу понять, почему не скопировали эту часовню в Париже; вероятно, она никому не известна.
Что такое глаза святоши? Анекдот о прекрасной монахине, которая крепко запирала свою дверь на ключ, а потом вышла замуж за краснодеревца.
Мой юный проводник семенил передо мной, повторяя вполголоса список достопримечательностей, с которыми должен ознакомиться приезжий, осматривающий Бурж. Мы дошли до дома Кюжаса, на улице Арен. Дом этот очарователен, иначе определить его нельзя. Почему его не скопировали в Париже? Я разобрал то, что сохранилось от причудливой надписи.
Потом мы отправились к романским воротам святого Урсина, рядом с артиллерийским парком. На стене справа, на высоте восьми - десяти футов, проводник указал мне барельеф, изображающий двенадцать месяцев года, каждый из которых представлен полевыми работами, ему свойственными. Выполнен барельеф очень неискусно, и все же смотреть на него - большое удовольствие. По-моему, это доказывает, что художник обладал истинным талантом. Только варварство его эпохи помешало ему добиться славы. Этот человек подобен Джотто. Мы встречаемся ежедневно с обратным явлением: люди весьма посредственные создают хорошие произведения благодаря веку, в котором они живут. Какими талантами блистал Мармонтель и все Мармонтели в живописи, которых я не хочу называть? Я видел подвалы дворца герцога Жана Беррийского - все, что осталось от зданий. Они очень недурно построены. Возможно, что архитектор был родом из Италии. Город сдал эти подвалы фабриканту селитры. Над частью этих подвалов департамент при поддержке государства собирается построить здание суда.
Это новое здание предположено выстроить в греческом стиле, но, так как в нем предполагается только один этаж, оно не будет величественным. Совет гражданского строительства, боясь выйти из бюджета - злейшего врага красоты (я говорю о бюджете), изъял из плана архитектора все, что не может быть использовано по прямому назначению, и я опасаюсь, как бы здание суда в Бурже не оказалось очень посредственным. Следовало построить его в готическом стиле. Я видел в Оксфорде готические постройки, довольно красивые, хотя и небольшого размера.
Я осмотрел Новый рынок, делающий честь как г-ну Жюльену, городскому архитектору, решившемуся его выстроить без фундамента, так и активности мэра.
Свой осмотр я закончил музеем. Он состоит из трех очень скромных комнатушек, куда свалили, словно в лавку старьевщика, все, имеющее отношение к искусству. Беррийский генеральный совет содрогнулся бы при мысли об ассигновании хотя бы небольшой суммы на приобретение бесполезных вещей. Тем не менее в Бурже нашелся ученый, который ревностно и со знанием дела занимается нумизматикой: это г-н Матер (кажется, первый председатель королевского суда).
В этом убогом, маленьком музее я долго и с уважением смотрел на портрет Жака Кера. Он висит здесь вперемежку с кардиналами, которые дали себе только труд родиться. Если когда-нибудь жители Беррийской провинции дойдут до таких вершин извращенности, что захотят истратить деньги на то, что не приносит дохода, они поставят две бронзовые статуи: одну Жаку Керу, другую Людовику XI - оба родились в Бурже и были талантливыми людьми.
Я позабыл сказать о библиотеке, весьма плохо размещенной в нескольких сырых залах архиепископского дворца. К счастью, монсиньор не желает этого нечестивого соседства. Впрочем, этому мудрому прелату не следовало бы бояться роста просвещения: я обнаружил только трех читателей среди всех этих старых книг, способных скорее остановить полет человеческой мысли, чем придать ей крылья. Вполне очевидно, что библиотеки маленьких городков должны были бы состоять исключительно из того собрания сочинений всех знаменитых авторов, которое именуется "Пантеон"* и стоит меньше, чем полторы тысячи франков. Г-н Гизо, которому нельзя отказать в том, что он заложил основы народного просвещения во Франции, был вполне прав, приказав подписаться на "Пантеон" на сумму в сто тысяч франков.
* ("Литературный Пантеон" - собрание памятников французской и иностранной литературы, начатое изданием в 1835 году и оставшееся незаконченным.)
Библиотекарь Буржа, насколько я могу судить в своем невежестве, человек способный. Я не осмелился спросить у него его фамилию. Он очень недурно скопировал счет расходов, произведенных в связи с постановкой одной мистерии. Стоит заглянуть в еще более древние времена: нигде не царило такого веселья, как во французских городах V века. Вспомним проклятия, которыми священник Сальвиаи осыпал это веселье, заставляющее забывать об аде.
Вместо того чтобы пообедать в моей убогой гостинице, как сделал бы обыкновенный путешественник, я провел последние два часа своего пребывания здесь, в соборе, и в прелестном саду архиепископского дворца, расположенном рядом с ним. Мне стало известно, что монсиньор намеревается закрыть свой сад для публики под тем предлогом, что в былые времена им пользовались одни лишь архиепископы.
Тур, 22 июня.
В девять часов вечера я занял свое место в дилижансе, весьма похожем на Ноев ковчег. Империал был занят охотничьими собаками, которые, казалось, были очень недовольны своим положением и громко выражали свое недовольство, что не помешало мне сначала поужинать, а потом соснуть до Иссудена. Около полуночи я прошелся по большой площади этого городка, как говорят, очень красивого. В пять часов, то есть на рассвете, мы прибыли в Шатору, который мне очень понравился. Над двором большой гостиницы, помещающейся в новом, очень чистом здании, был натянут холст. Мне казалось, что я в Провансе; я вспомнил натянутый холст над улицами Авиньона.
Когда пробило четверть шестого, я окончательно разбудил славного хозяина кафе, открывавшего свое заведение, к которому ведет маленькая аллея из молодых деревьев. Он мне сказал, что молоко привозят только в шесть часов. Тогда я рассказал ему о том, как ученые монахини придумали заменить молоко яичным желтком. Это великое изобретение не дошло еще до Шатору. Славный содержатель кафе дал мне одно яйцо и сахарного песку и стал внимательно следить за тем, что я делаю.
Замок, именем которого назван город и который был построен Раулем Щедрым в 940 году, существует еще поныне: он расположен на холме, где его башенки высятся над Эндрой. Я полюбовался чудесным видом. Город окружен плодородными лугами; дома, правда, старинные, но имеют свои характерные особенности; они не так убоги, как дома в Труа. По моей просьбе мне открыли церковь св. Ландри; но церковный сторож церкви св. Мартина прикинулся глухим. Потом я побежал во всю прыть к новой гостинице. Пятьдесят минут, предоставленные мне возницей, уже истекли, однако еще ничего не было готово к отъезду. Двоим или троим буржуа из Шатору, как видно, только сейчас, в три четверти шестого, пришло в голову отправиться в Тур. Сидя в дилижансе, на переднем месте, я был свидетелем погрузки их сундуков, а также их беспокойства за благополучие оных. Это было жалкое зрелище. Неожиданно появился какой-то фат, что-то напевавший себе под нос, и уселся рядом со мной. Он развлекал меня до деревушки, расположенной в шести лье отсюда, на дороге в Тур. Он старательно пытался растолковать мне, как будто бы мимоходом, что у него собственные лошади и, кроме того, что этих лошадей пришлют за ним,- я же делал вид, что ничего не понимаю. Когда мы прибыли в деревню, название которой я позабыл, лошадей и в помине не было; фат сразу же исчез. Я читал Цезаря до самого приезда в Шатильон. Мысленно я спорил с Жорж Санд, в таких ярких красках описавшей берега Эндры. Это жалкая речонка не более двадцати пяти футов шириной и четырех глубиною. Она вьется посреди довольно плоской равнины, окаймленной на горизонте весьма низкими холмами, на которых растет орешник высотою в двадцать футов. Я старался отыскать взглядом ту прекрасную Турень, о которой с таким пафосом говорили писатели сто лет тому назад и те из современных, которые им подражают. Мне так и не удалось ее найти: этой прекрасной Турени не существует.
Дилижанс на два часа останавливался в Шатильоне-на-Эндре, и я поспешил к знаменитой башне. Среди огромных глыб каменной ограды древнего замка возвышается утес, на утесе огромная круглая башня тридцати футов высотой, а на этой башне вторая - в шестьдесят футов. Обе они увиты великолепным плющом. Но было настолько жарко, что я не отважился подняться на башни. Полюбовавшись видом замка, я поспешно вернулся в гостиницу, где успел заметить столовую, если и не прохладную, то, во всяком случае, темную.
Я уже собрался почитать за завтраком, как вдруг заметил напротив себя высокого худого человека. У него был орлиный нос, седые бакенбарды и необычайно благородное лицо. Едва ли более величественная внешность могла быть у какого-нибудь храброго рыцаря, сподвижника Генриха IV. Простота обращения моего сотрапезника вполне соответствовала благородству его наружности, звук его голоса был очень приятен, говорил он умно и интересно. Мы беседовали о том, что может интересовать путешественника, например, о социальных навыках современных французов в сравнении с обычаями, господствовавшими тридцать лет тому назад.
Этот господин с благородными чертами лица, бесспорно, самый замечательный человек, встреченный мной в пути. К концу завтрака он мне сказал, что торгует вразнос шелковыми тканями и что его штаб-квартира находится в Лионе, где он проводит полтора месяца в году. Остальное время он объезжает городки и селения Франции в двухконной тележке, нагруженной шелками. В самом деле, выйдя на улицу, я увидел вывеску на холсте, подвешенную перед входом в дровяной сарайчик, в случае надобности служащий лавкой, который, как мне пояснил мой новый знакомец, содержатели гостиниц предоставляют ярмарочным торговцам, таким, как он.
- До 1814 года, - добавил мой новый знакомый,- буржуа маленького городка приходил взглянуть на товары с женой или любовницей, торговался не сколько минут и покупал на триста франков; теперь приходится разговаривать добрые четверть часа, чтобы продать что-нибудь на двадцать пять франков. Быстро и в большом количестве расходятся только шарфы по пяти - шести франков. Французы стали эгоистами.
Это - первое резкое слово, вырвавшееся у торговца шелками за всю беседу, которую я затянул на полтора часа. Он сказал мне, что в наши дни стало больше продавцов, чем покупателей. (В этом и заключаются великие трудности современной цивилизации: больше врачей, чем больных, больше адвокатов, чем процессов, и т. д.)
Я провел с этим приятнейшим человеком столько времени, сколько мог. По мере приближения к Лоту местность становится более плодородной. Берега Эндры покрыты здесь малорослым, жалким орешником высотою в пятнадцать футов. Большая дорога лишь немного отклоняется от этой речонки, водами которой питаются ивы и несколько тополей на соседних лугах.
Неожиданно слева за холмом передо мной воз" никли две башни, соединенные стеной, причем все это сооружение как бы обрублено по горизонтальной линии ударом меча: это Лошская башня. Здесь погиб подвергнутый Людовиком XII двадцатилетнему заточению замечательный человек Лодовико Моро*, герцог Миланский, друг и покровитель Леонардо да Винчи, Он сумел привлечь к своему маленькому двору большинство выдающихся людей своего времени, вступая с ними, как он это называл, в "поединки ума". Там обсуждали свободно, без каких-либо ограничений, всевозможные вопросы. Какой двор может похвалиться этим в наши дни? Я еще теперь помню его приятное лицо и мраморную его статую, которую видел в Чертозе, близ Павии. Правда, он был негодяем; но таковы, к несчастью, были почти все монархи его века. Он приказал отравить своего племянника, чтобы занять его престол, но не сжег заживо две тысячи своих подданных, как это сделал наш блестящий Франциск I* в надежде добиться союза с иностранным монархом.
* (Лодовико Сфорца, прозванный Моро (1451-1508) - герцог Миланский. В интересах своей личной политики он призвал в Италию Карла VIII, французского короля, но затем был арестован французами и заточен в крепость Лош в Турени, где и умер.)
* (Во время правления короля Франциска I (1515-1547), особенно после 1534 года, во Франции развернулось жестокое гонение на протестантов, часто сопровождавшееся аутодафе.)
Наш дилижанс менял лошадей на берегу Эндры, в предместье Лоша, и я не успел подняться на небольшой холм, на котором стоит тюрьма Лодовико Моро. Это предместье представляет собой очень широкую улицу с новыми домами по обе ее стороны. Все эти предместья, построенные за последние пятнадцать лет, походят одно на другое. Насколько они мало живописны, настолько же они удобны и несравненно приятнее городов, к которым примыкают. На домах намалеваны вывески, каждая буква на них имеет в длину восемнадцать дюймов. Три священника в сутанах, очень весело настроенные после хорошего обеда, влезли в дилижанс. Двое уселись рядом со мною и тут же завели весьма странный разговор. Веселый нрав этих господ всегда напоминает мне рассказы Вержье*. Беседа моих двух соседей была, бесспорно, куда забавней, чем был бы разговор двух толстых торговцев, которые могли попасться мне в пути. Вскоре мы очень подружились. Я все у них спрашивал, где же эта "прекрасная Турень". Они мне отвечали, что я увижу берега Луары. Когда же мы доехали до берегов Луары и я стал сетовать, увидав ряды из и тополей - это единственное украшение ее берегов,- мне стали говорить о несравненной красоте равнин, орошаемых Эндрой и Шером, которые я только что пересек. Нельзя отрицать, что по мере приближения от Лоша к Кормери земли становятся более плодородными, но красоты в этом нет никакой.
* (Вержье (1655-1720) - французский поэт, автор пародий и стихотворных рассказов, в которых он подражал Лафонтену.)
Наконец нам повстречалось несколько высоких деревьев в том месте, где дорога спускается по крутому южному берегу Шера, напротив Тура. От Шера до Луары вся местность сплошь представляет собой одно осушенное болото; на этой плодородной почве растут высокие голландские белые тополя. Вскоре за мостом через Шер мы выехали на главную улицу Тура. Она, по-моему, столь же широка, как улица Мира в Париже, что производит необычайное впечатление в провинции, где вы задыхаетесь от мещанского убожества. Эта улица прямехонько ведет вас к знаменитому мосту через Луару.
Я остановился в большой гостинице "Перепелка", рекомендованной мне остроумным Т. У меня неплохая комната, но я чуть не умер с голода после скудного обеда за табльдотом.
Там сидели двое или трое англичан, снимавших комнату с пансионом. Они терпеливо относились к своей беде, из чего можно было заключить, что обеды обычно столь же обильны; тянулся же обед не менее полутора часов. Я сбежал до десерта, чтобы осмотреть мост - гордость Тура. Он шириною в сорок семь футов, и каждый из его пятнадцати пролетов имеет семьдесят пять футов в диаметре.
Как все, что строится во Франции за последние пятьдесят лет, этот мост очень удобен, но совершенно лишен характерного облика. Нужно быть подкупленным журналистом или редактором департаментского ежегодника, чтобы осмелиться назвать этот мост красивым. Самый маленький из сотни мостов, построенных в Ломбардии по приказу Наполеона, производит впечатление чего-то изящного и красивого; но теперешние люди не брали приступом Константину, как это делали мы.
Поскольку я знал, что в Туре не сохранилось никаких следов от знаменитой церкви св. Мартина, мне оставалось лишь любоваться красотами природы, и я с интересом прошелся по холму к северу от моста. Холм этот великолепно расположен, весь залит солнцем, и с него открывается вид на широкую реку и плодородные земли. Честнейший человек Франции и, быть может, величайший поэт нашего века нашел себе здесь скромный приют. Какая разница между этой праведной жизнью и жизнью интриганов, приводящей в Париже к успеху! Я спросил у какого-то крестьянина, где тут Гренадьер.
- А-а, дом господина Беранже! - воскликнул он, как человек, хорошо знающий того, кто носит это имя, и любящий его.- Вот он, над гротами, выдолбленными в скале.- Я тотчас же туда поднялся.
Но в ту минуту, когда я уже собирался постучать в дверь, добродетель, называемая скромностью, снизошла на меня. Какое наслаждение услышать мнение такого умного человека обо всем, что творится на свете! Однако, сказал я себе, если все приезжие, которые любят его и восхищаются им, станут стучаться в двери Ла Гренадьер, тогда не стоило уезжать из Пас-си. Я имел мужество вернуться на большую дорогу, которая ведет к мосту. В скале из камня мягкой породы у самой дороги выдолблено бесконечное количество пещер, в которых обитают крестьяне.
Была уже темная ночь, когда я возвратился в Тур; я пошел осматривать развалины, которые считают остатками знаменитой церкви св. Мартина.
Это две квадратные башни, отделенные друг от друга удобными, но очень заурядными домиками. Полное отсутствие характерного облика - наибольший, на мой взгляд, недостаток всего того, что видишь в Туре.
Приезжающие сюда сотни англичан здесь менее надменны, чем в других местах. Они вычитали в старых описаниях Франции, что в Туре лучше говорят по-французски, чем в Париже.
Изнемогая от усталости, я зашел в читальню, занимающую весь второй этаж на главной улице. За целый год я еще ни разу не испытал такого холода. Дул сильнейший северный ветер, и, тем не менее, местные читатели считали возможным держать окна открытыми. Я мужественно воспротивился желанию попросить их закрыть окна, ибо опасался услышать в ответ какую-нибудь глупость.
Я вернулся в гостиницу, весь дрожа и боясь до смерти, что простудился,- это единственная беда, которая меня страшит: простудившись, я три недели по вечерам бываю в дурном настроении. А что остается бедному одинокому путнику, если он утратит хорошее расположение духа?
Я спросил кипятку, сам взял чайник на кухне и поднялся к себе, чтобы заварить чай. Поверите ли вы, что эти провинциальные чудовища три раза приносили мне даже неподогретую воду, и в конце концов служанка еще рассердилась на меня. Я замерз и пришел в ярость, я увидел, что был неправ, расставшись с моим верным Жозефом. К счастью, я понял, что остался в дураках только из-за того, что веду себя вежливо с окружающими меня варварами. Я стал трезвонить так, что чуть не сломал все звонки, я шумел, как англичанин, я требовал, чтобы у меня затопили. Это было исполнено, то есть моя комната наполнилась дымом, и прошло всего полтора часа после моей просьбы подать кипяток, как я уже смог заварить себе чай.
Согревшись и излечившись от своего недомогания, но не от своего гнева, я, как настоящий солдат, отправился выкурить сигару на тротуаре этой прекрасной улицы. Я хорошенько побранил себя за то, что так легко впадаю в гнев, и сказал себе: "Ira furor brevis"*. Если такие наклонности увеличатся с годами, я скоро стану старым неуживчивым холостяком и т. п. Ничто не помогало; я сердился на то, что рассердился.
* (Гнев, кратковременное безумие (лат.).)
Случайно я прошел мимо одного торговца железом. "А мой пакет с книгами?" - подумал я. Эта мысль все изменила. Пройдя двести шагов, я нашел у любезного г-на Д. пакет с двенадцатью томами, прибывшими только накануне.
Десять минут спустя я почувствовал себя счастливейшим человеком, сидя в своем номере перед пылающим камином и разрезая чудесный экземпляр Григория Турского, которого только что издало Общество по изучению истории Франции. Лишь омерзительные провинциальные свечи напоминали мне о месте, где я нахожусь. Я спустился на кухню, вызвал младшего поваренка, сунул ему десять су и смиренно попросил его купить мне фунт свечей. Он прекрасно справился с этим небольшим поручением, и наконец в два часа ночи мне потребовалось сильнейшее вмешательство рассудка, чтобы заставить себя лечь спать. Никогда еще в жизни чтение Григория Турского не возбуждало у меня столько мыслей. Какое чистосердечие! И сказать, что это был епископ! Какой контраст с нашими мудрствующими историками, которые претендуют на открытие новых истин и на гениальность, продавшись, как всем известно, в надежде на место в Академии или на денежную мзду!
Тур, 23 июня.
В десять часов я отправился в кафе и очутился среди тридцати офицеров в парадных мундирах. Я принес с собой свой чай, что вызвало гримасу у хозяйки. Но какое мне до этого дело? У меня нет ничего общего с провинциалами. Я чуть было не вспылил, добиваясь кипятка. Дурное настроение мегеры-хозяйки кафе не помешало мне оценить превосходное качество моего чая. Десять лет тому назад я пришел бы в ярость.
У меня в кармане был "Квентин Дорвард". Я отправился пешком, читая эту книгу, в деревню Риш, в двадцати минутах от Тура, где еще сохранились обломки замка Плесси-ле-Тур, Он был построен из кирпича. К концу своей жизни Людовик XI, обуянный страхом, превратил его в крепость. Одна только башня осталась от этого старинного здания.
Укрывшись в этом дворце, впавший в меланхолию Людовик XI вешал на соседних деревьях всех, кого он боялся. Там он и умер в 1483 году, дрожа от страха и вздыхая при мысли о смерти, как самый обыкновенный человек, то осыпая деньгами своего врача, то взывая к какому-то святому из далекой Калабрии. Этот король напоминает мне Тиберия, к тому ж еще охваченного страхом ада. Я вспоминаю его замечательный портрет в Пале-Рояле и его статую, изваянную г-ном Жале. Издали я видел развалины знаменитого и богатого бенедиктинского аббатства Мармутье, которое известно нашим современникам по комедии "Граф Ори"*; оно было разрушено в 1793 году.
* ("Граф Ори" - водевиль Скриба и Луарсона (1816) на сюжет средневекового французского предания.)
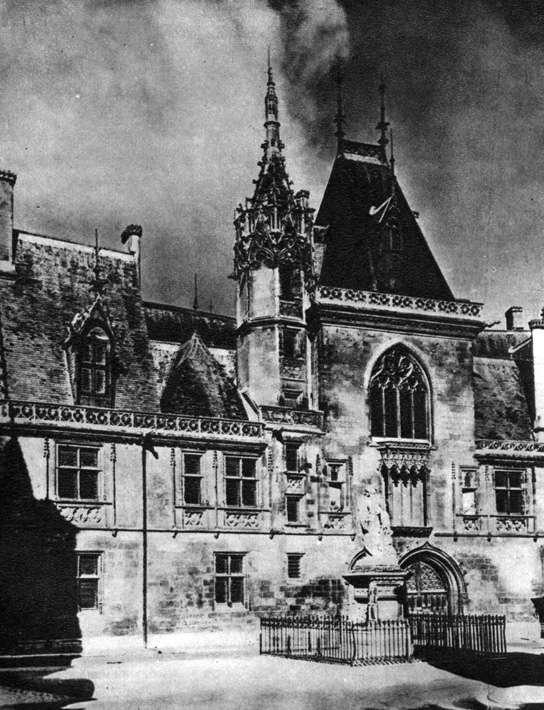
Бурж. Дом Жака Кёр. 1443

Ним. Гардский мост.(Акведук, построенный римлянами в 19 г. до н. э.)
Возвратившись в город, я отправился осматривать собор, который мне чрезмерно расхваливали. После того как он дважды горел, его начали вновь отстраивать в конце XII века, но, как видно, край этот был недостаточно религиозен, ибо собор закончили только в 1550 году. Вызывает восхищение розетка над порталом и две довольно высокие башни. Каноники собора, люди со вкусом, прикрыли резной деревянной обшивкой основы готических столбов хора. Церковный сторож показал мне беломраморное надгробие детей Карла VIII. От него я узнал, что башней Карла Великого называют квадратную башню, которую здесь выдают за остатки старинной церкви св. Мартина. Осмотрел библиотеку и жалкий музей. Выйдя из собора, я попал на довольно красивую улицу, но дома ее настолько низки, что совсем лишены стиля и могут лишь сказать прохожему: здесь вы в деревне. Улица эта привела меня в ту часть города, которая расположена к западу от главной улицы. Эта часть старого Тура очень плохо построена.
Я целый час пробыл у букиниста возле собора. Буду оставлять его книги, по мере их прочтения, в гостиницах. Читать вместо того, чтобы смотреть,- это значит плохо исполнять обязанности путешественника. Но что же делать в те часы, когда вас тошнит от убожества провинции?
Так как Тур мне в сильнейшей степени надоел, я нанял коляску, чтобы поблуждать за городом. Возница поехал по дороге в Люин. Все кругом свидетельствует о плодородии, о хорошей и искусной обработке земли, но, по правде сказать, ничего красивого там не было. Как это не похоже на неведомые берега Изеры!
Я вернулся к обеду за табльдотом; не стоило того: более мерзкого обеда я никогда не ел - еще хуже вчерашнего; подали рыбу-бешенку и тухлых цыплят. Но столовая огромная, окна плотно закрыты занавесками, и девушки, прислуживающие за столом, довольно забавны. Они вели продолжительные беседы с пансионерами. Двое или трое из этих господ очень жеманны: один из них - молодой человек пятидесяти пяти лет с чрезмерно отросшими седыми волосами, весьма кокетливо зачесанными, чтобы прикрыть лысину.
Я обедал с четырьмя или пятью англичанами, очень жалкими, - их ничто не может рассердить.
После обеда, поскольку не было спектакля, я побрел в читальню, где, как и вчера, было очень холодно. С досады разговорился со своим соседом, сублейтенантом, оказавшимся человеком толковым и даже неглупым. Речь зашла о мундирах, и я легкомысленно стал хвалить удобный, недорогой, но некрасивый мундир.
"Мы сражаемся раз в году, а солдат шесть раз в месяц бывает несчастен и сидит без гроша в кармане. Что утешит его в такой беде, если не успех у женщин, который ему доставляет мундир? Сделайте этот мундир как можно более блестящим; это составит часть его жалованья. Как вы думаете, почему в четвертом гусарском полку шестьсот добровольцев?"
Я скучаю в Туре, поэтому все, что я пишу здесь, должно казаться бледным. Насколько было бы приятнее и легче описывать путешествие по Италии! Какие чудесные пейзажи в этой прекрасной стране - ломбардские озера, Везувий! А картины Рафаэля? А музыка? Обратите внимание на духовный мир ее населения! В Италии моя душа могла бы беспрестанно восторгаться. Там нет однообразия.
Там вы не встретитесь с глупостью жителя Шампани или беррийца; итальянский крестьянин отличается глубоким здравым смыслом - следствие республиканского образа правления в средние века и необыкновенных мошенничеств, благодаря которым три десятка могущественных семейств сумели отнять власть у народа: Медичи, Малатеста, Бальоне и т. д.
Кроме того, природа, породившая итальянскую музыку, вложила здесь в сердца любовь к любви. В других странах любовь для половины жителей - это возможность удовлетворять свое тщеславие. Крестьянин в папской деревне имеет к каждой трапезе белый хлеб, мясо и вино.
Искусства родились в Италии около 1400 года; они унаследовали тот пламень, который средневековые республики зажгли в сердцах людей. Этим священным огнем, этим страстным великодушием дышит поэма Данте, начатая в 1300 году; она воспитала душу и ум Микеланджело.
А что мы видим во Франции между 1300 и 1400 годами? Маленьких тиранов, которые кичатся своей неграмотностью, да тупоумных рабов. Подумайте, какое это имело значение для духовного мира крестьян из Берри, Домба и т. п. Они верят в колдунов и не читают газет.
Другое дело, если бы искусства родились во Франции вместе с "Сидом". Религиозные войны воспламеняли души, зачахшие за время долгого и мерзкого феодализма: интриги фронды изощрили умы, и французы способны были бы на прекрасные поступки. Однако вопреки глупости, выраженной словами "век Людовика XIV", этот монарх быстро погасил пугавший его священный огонь. Безумной любовью к своей отчизне и ко всему прекрасному горело сердце Корнеля, тогда как изящный Расин воспринимал все это лишь разумом. Маршал Вобан был последним, кем владело это великодушие, признанное потом всеми смешным.
Лабрюйер, правда, покровительствуемый Боссюэ, свидетельствует о полном исчезновении этих благородных иллюзий, этого священного огня, без которого многие литературные жанры могут обойтись, но который совершенно необходим изящным искусствам. "Чума в Яффе" является лучшей картиной последнего времени лишь потому, что живописец был воодушевлен тем, что изображено на его картине. В 1796 году он был в Милане в штаб-квартире итальянской армии и считался самым шальным из французов. Его любовь к г-же П., его смерть с полной ясностью доказали, насколько он был чужд академизму,
Франция 1837 года имеет лишь одно действительно огромное преимущество: она королева мысли среди несчастной Европы, в которой еще властвует цензура.
Даже Италия - только одна из ее подданных. Как только брюссельский издатель узнает из Парижа, что какое-нибудь произведение пользуется успехом в читальнях, он издает его, и вопреки полиции этим произведением зачитываются в Петербурге и Неаполе. Спросите у бельгийских контрафакторов список произведений, принесших им наибольший доход, и вы увидите, что Франция является королевой мысли именно благодаря произведениям, осужденным французской Академией. Какая трагедия этих уважаемых академиков шла за последние десять лет на сценах Лондона или Вены?
Турень, 23 июня.
Только сегодня, и то совершенно случайно, я узнал продолжение одного происшествия, которое меня живо интересует. Старый агент нашей фирмы принес мне 220 франков, которые мне должна была одна молодая вдова, хорошенькая и очень богатая, почти что мой друг,- я имел удовольствие посылать ей из Парижа платья и шляпки. Г-жа Сен-Шели блондинка и "просто просится на картину", как здесь говорят. От ее рук пришел бы в восторг Канова. Я же особенно восхищался ее душевной чуткостью, что в наши дни все более редко встречаешь. Г-жа Сен-Шели по свойственной ей доброте верила в мою способность угадывать, что идет женщине двадцати девяти или тридцати лет, блондинке и, быть может, слишком высокой (это ее собственные слова в одном из писем).
Десять месяцев тому назад, в свой последний приезд, я нашел ее озабоченной. С тех пор она продала половину своих земель и внезапно уехала в Испанию. Ее доверенный получил от нее с момента ее отъезда всего два письма, помеченные Кадиксом, но отосланные из Англии.
Я встречал у г-жи Сен-Шели некоего г-на Масс..., здоровенного верзилу, прекрасно ездившего верхом, ловкого танцора и фехтовальщика, большого любителя поохотиться, хвастуна и к тому же несусветного грубияна. Меня удивляло, как женщина с такой благородной душой, с такой подлинной и редкой чуткостью могла выносить этого субъекта, который нас, мужчин, шокировал бы даже за табльдотом, если бы за ним собралась мало-мальски приличная компания.
Когда я в последний раз видел прелестную вдову, ее озабоченность была более чем естественной. Хитростью или, да будет дозволено это сказать, даже силой Масс... завоевал то, чего он иначе никогда бы не добился. Это еще не все: с возмутительным, достойным его бесстыдством он рассказал по секрету о самых интимных подробностях этого странного романа одному из своих друзей-охотников, славному малому, который мне все передал. Масс... ему сказал: "Теперь, когда меня любит такая богачка, да еще не первой молодости, дело мое в шляпе". Это чудовище говорит так о женщине, которой не исполнилось еще тридцати лет, и притом полной очарования.
Попав в ловушку Масс..., несчастная женщина, по всей вероятности, старалась его полюбить, но ей это не удалось. Она, насколько было возможно, избегала свиданий. "А мне наплевать,- говорил Масс… (простите за грубость выражения),- мне наплевать, раз она открыла мне свою кубышку" (то есть давала деньги).
Но тут какой-то очень богатый нахал, живший в соседнем городе, оскорбил одного из своих собутыльников. Однако у него после этого не хватило мужества драться. Нахал предложил через посредника г-ну Масс... 3 тысячи франков за то, чтобы тот затеял ссору с его противником и дрался с ним на дуэли, и премию в 6 тысяч франков, если Масс... его убьет. Масс... потребовал еще в придачу полное обмундирование из тончайшего лувьерского сукна. Условие было принято.
Масс... стал посещать бильярдную, куда изредка заходил нужный ему человек, несколько раз играл с ним и однажды довел его до того, что тот начал с ним ссору. Поединок прошел весьма удачно, и Масс убил своего противника.
Госпожа Сен-Шели упала в глубокий обморок, когда мировой судья, когда-то безуспешно за ней ухаживавший, рассказал ей об этом деле с некоторым злорадством, особенно подчеркнув требование костюма из тончайшего сукна.
Родственница г-жи Сен-Шели, проживавшая в каком-то городке неподалеку от Парижа, достала ей паспорт для поездки в Испанию и Америку, и под чужим именем, даже не под именем своей родственницы, эта милая, добрая женщина нашла себе приют в одном из этих государств. Старый Бре, ее доверенный, человек чрезвычайно сухой, со слезами на глазах отсчитал мне 220 франков, передавая все эти подробности. Этот верзила Масс, устроился сейчас в десяти лье от города, где жила г-жа Сен-Шели, и "производит фурор" своим костюмом из лувьерского сукна.
Я завидую счастливцу, который утешит г-жу Сен-Шели. У нее, быть может, никогда бы не было любовника, если бы не ловушка г-на Масс... Однако самое печальное в этом происшествии то, что оно разгорячит ее воображение, которое в конце концов восторжествует над разумом. Только любовь сможет утешить бедняжку. Г-жа Сен-Шели отличалась той душевной чуткостью, какую только допускает обладание большим состоянием; она была совершенно лишена того мелочного тщеславия и властолюбия, к которым слишком часто приводит богатство.
Всем известно, что, только живя в маленьком городе, можно ознакомиться с системой управления. Там все становится известным и все можно проверить. Пример, который я сейчас приведу, серьезен и, боюсь, немного скучен, поэтому я прошу дам пропустить пять - шесть страниц. Мошенничества, о которых трудно рассказать, переживут все остальные; боишься наскучить, стараясь поднять против них общественное мнение.
Все говорят о барышах, получаемых при передаче с торгов больших работ, которые производятся по распоряжению правительства, однако очень немногие имеют точное представление об этом вопросе. Люди верят или не верят в воровство, смотря по тому, друзья они или недруги правительства. Что до меня, то я считаю себя очень искренним другом королевского правительства и все же очень искренне верю в непрекращающееся воровство. Меня удручает не денежный вопрос, а мошенничество, вошедшее в обиход.
Так как я не хочу говорить о том, что творится во Франции, я расскажу о факте, недавно имевшем место в одном соседнем с нами государстве.
Перед въездом в городок под названием Живри был крутой подъем, проклинаемый всеми путниками. Чиновник, который именовался бы во Франции главным инженером Управления мостов и дорог, составил проект уменьшения уклона дороги. Расходная смета была одобрена высшим начальством; она составляла 70 000 франков; к работам следовало приступить в начале 1836 года.
В сентябре 1835 года занялись торгами по сдаче этих работ, к которым следовало приступить через полгода. Префект был в отпуске, и заменял его г-н Вольф (генеральный секретарь). Г-н Рагуа, главный инженер, человек честный, объезжал дороги за тридцать лье от главного города префектуры, где должны были состояться торги, но, так как он понимал, что тут нужно держать ухо востро, и боялся какого-нибудь мошенничества, он назначил своим заместителем г-на Вамбре, обыкновенного инженера, вполне честного человека. Инженеры предполагали, что подрядчики скинут с указанных в смете цен от восьми до десяти процентов и, как обычно, работы будут переданы тому, кто сделает наибольшую скидку.
13 сентября собрался совет префектуры; заседание открылось под председательством г-на Вольфа (генерального секретаря, исполнявшего обязанности префекта). Вводят подрядчиков (их всего четверо), и простодушный г-н Вамбре, к своему великому удивлению, слышит, что они предполагают лишь незначительную скидку со сметы - в один процент, полпроцента, треть и даже четверть процента. Тем не менее совет префектуры предоставляет работу некоему Дабо, предложившему скидку в один процент.
В тот же вечер инженер Вамбре возвращается к своим обычным занятиям, но из-за проливного дождя вынужден провести ночь в Ламбене - деревне по соседству с Живри.
Хозяин постоялого двора говорит ему:
- Ну, господин Вамбре, вас здорово обобрали сегодня утром на торгах.
- Скидка, правда, была очень незначительной, но при чем же тут воровство?
- Вам, господам, этого никогда не уразуметь,- продолжал хозяин.- Знайте же, что грязное дельце
обделали здесь, на моем постоялом дворе. Сегодня после торгов четыре субъекта, которых вы там видели, пришли сюда обедать за тем столом, за которым вы сидите. Но самое смешное то, что десять человек, которые хотели принять участие в торгах, тоже были здесь у меня в прошлое воскресенье. После долгого обсуждения г-н Брен, самая продувная бестия из этой банды, воскликнул: "Ну и дураки же мы, что так расшаркиваемся перед инженерами и префектом! Устроим между собой предварительные торги и дадим друг Другу слово уступить дело тому, кто предложит наибольшую скидку". Кроме данного слова, Брен подписал и заставил подписать остальных обязательство об уплате неустойки, на какую сумму, мне неизвестно, и наконец на столе, за которым вы обедаете, они провели торги по всем правилам. Когда вскрыли конверты, оказалось, что Дабо готов скинуть со сметы семь процентов, другие меньше,- дорогу из Живри предоставили Дабо. Было решено, что он явится на торги в префектуру и предложит скидку в один процент; для видимости придут на заседание еще двое или трое, которые предложат меньшие скидки, и, наконец, Дабо, если ему будут переданы с торгов работы, поделится с девятью остальными барышом - шестью процентами со сметных сумм по постройке новой дороги в Живри.
Бедный инженер Вамбре еще молод и честен,- он возмущен. На следующее утро в пять часов он нанимает лошадь, лучшую, чем его собственная, и мчится в главный город префектуры. Приезжает туда к десяти часам утра. Тут же он пишет г-ну Вольфу, исполняющему обязанности префекта, все, что он узнал, и умоляет его не представлять торгов, произведенных накануне, на утверждение начальника Главного управления мостов и дорог, находящегося в столице.
Заметьте, что, согласно закону, результаты торгов входят в силу лишь по утверждении их начальником Главного управления. 14 сентября в полдень несчастный Вамбре отправил письмо г-ну Вольфу; 15-го г-н Вольф ответил ему, что сведения, сообщенные им, "весьма неясны", и возможно, что это просто "сплетни завистников", которыми его (то есть Вольфа) долголетний административный опыт научил пренебрегать; впрочем, он не представит торгов на работу в Живри на утверждение начальника Главного управления до получения второго подробного рапорта от Вамбре.
Хотя письмо и было подписано г-ном Вольфом, но составлено оно было г-ном Лимоном, человеком осторожным, который состоял в течение десяти лет начальником канцелярии отдела мостов и дорог префектуры и отнюдь не обеднел на этом посту.
В тот же день, 14 сентября, к г-ну Вамбре явился Дабо с убедительной просьбой дать ему чертежи новой дороги, подряд на которую предоставлен ему со скидкой в один процент.
- Вы что же, не читали объявления? - ответил ему г-н Вамбре.- Вы должны бы знать, что работы подлежат выполнению только в марте будущего года, когда будут отпущены соответствующие кредиты.
- Неважно! - сказал Дабо. - Я выполню их авансом.
- Не советую, - возразил Вамбре. - Предложенная вами скидка недостаточна, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы начальник Главного управления не утвердил этих торгов.
Главный инженер Рагуа, предупрежденный о том, что произошло в главном городе префектуры, поспешил приехать. Он возвратился 22 сентября.
- У нас крадут от шести до семи тысяч франков,- сказал он Вамбре,- и, так как эта сумма поделена между всеми, нам будет очень трудно добиться правды.
В тот же день, 22 сентября, г-н Рагуа встретил на бульваре г-на Вольфа, генерального секретаря, исполняющего обязанности префекта.
- Кстати,- сказал ему тот,- торги на работу в Живри утверждены.
- Что такое? - воскликнул пораженный г-н Рагуа.- Торги состоялись 13-го, а утверждение получено вами уже 22-го! У меня имеется двести ваших писем по поводу такого же количества торгов, состоявшихся за время моей работы в этой префектуре, и никогда вы не посылали их на утверждение раньше, чем через восемь - десять дней.
- Если вы будете столь любезны зайти завтра в префектуру к десяти часам,- ответил ему г-н Вольф,- мы вызовем г-на Лимона, и все, конечно, вам станет ясно, как божий день.
На следующее утро, в десять часов, г-н Рагуа явился в префектуру, захватив с собой все письма, которые могли послужить для разъяснения этого дела.
- Как же это так? - сказал он г-ну Лимону.- Вы пишете 15-го г-ну Вамбре, что до получения его рапорта вы не отошлете постановления о торгах на утверждение начальника Главного управления, а между тем еще 14-го вы написали в Париж.
- Ну, что ж, сударь, это просто забывчивость!- возразил г-н Лимон с усмешкой.- А вы сами, господин главный инженер, вы же сами работаете в канцелярии,- разве у вас не могла произойти ошибка по рассеянности? Ну, а я, откровенно признаюсь, я позабыл 15-го то, что писал 14-го. Что поделаешь, торги на работы в Живри получили законную силу.
- Не думаю,- холодно ответил г-н Рагуа.
Не произнося более ни слова, он покинул исполняющего обязанности префекта и его начальника канцелярии и поспешил написать начальнику Главного управления. Торги были признаны недействительными; при вторичных торгах была получена скидка в семь тысяч франков, то есть в десять процентов против сметы, достигающей семидесяти тысяч франков.
Свобода печати не в силах пресечь такого рода злоупотребления. Рассказ об этом случае очень скучен, в чем вы сами могли убедиться. В такого рода историях экспозиция - необходимейшая часть драмы - слишком сложна, к тому же журналист ничего не смыслит в технике такого рода дел. Я даже сомневаюсь, чтобы наши депутаты, избранные до 1830 года,- насколько я их знаю,- пожелали бы вникнуть в мой рассказ.
Существует очень простой способ обеспечить Голландию честными людьми* в канцеляриях префектур. Нужно, чтобы начальник и их помощники были государственными чиновниками, оплачиваемыми государством, нужно, чтобы канцелярии префектур являлись школой для супрефектов и генеральных секретарей; тогда сразу же появятся образцы добродетели. С помощью честолюбия, которым горят все сердца, правительство могло бы добиться чудес.
* (Обеспечить Голландию честными людьми - то есть Францию.)
Необходимо восстановить институт генеральных секретарей, который был живой традицией префектур. Эта мера обойдется в двести шестьдесят тысяч франков в год, но она поможет избежать безумных расходов в два миллиона.
В каждой канцелярии префектуры нужен начальник и его помощник. Префект будет работать как с тем, так и с другим. Помощнику начальника канцелярии придется быть в курсе всех дел, и он всегда сумеет заменить начальника. Это обойдется в пятьсот шестнадцать тысяч франков.
Прежняя палата депутатов была весьма далека от понимания необходимости такого рода расходов, она противилась строгому обследованию, которое могло бы привести к раскрытию неприглядных истин. В общем, в голландских префектурах из четырех начальников канцелярии трое обогащаются.
Полгода тому назад у меня было дело в одной из префектур Франции. В связи с этим я узнал, что в 1815 году смета на расходы по канцелярии равнялась пятидесяти тысячам франков. В 1837 году число дел в канцелярии возросло в три раза, а смета расходов сократилась до сорока пяти тысяч франков. У нас, коммерсантов, это называется ложной экономией. Когда кто-нибудь из наших корреспондентов поступает таким образом, мы сокращаем с ним наши деловые операции.
Тем не менее префекты, не имеющие личного состояния, ежегодно откладывают по десяти тысяч франков со своего оклада или с расходов на канцелярию.
Я знаю десятки таких историй, которых я не привожу из боязни наскучить или, быть может, возбудить зависть у глупцов. Умоляю читателя хоть ненадолго задуматься над тем, что происходит в префектуре его департамента, и затем ответить, как сделал бы присяжный заседатель,- сгущены ли краски в предыдущем рассказе.
Если читатель живет в Париже, он не может быть компетентным судьей. О каком событии в административном мире узнаете вы правду в Париже? Разве человек, угощающий обедами, не имеет обычно двухсот друзей в обществе, готовых отрицать все его неблаговидные поступки? Отсюда страстное стремление к возможности устраивать обеды, которым обуреваем мелкий парижский буржуа.
Привожу диалог, имевший место менее двух недель тому назад между депутатом, прибывшим из Амстердама, и префектом.
Депутат. Впрочем, к вам скоро будут назначены пять учителей.
Префект. Очень рад! Я жду их с нетерпением. В Пенском кантоне положение очень неприятное: после принятия закона о пожизненной пенсии принцам там кишмя кишит республиканцами. Но эти новые учителя, которых я очень тщательно подобрал, - люди общительные; они будут посещать кафе, вести там разговоры, и с ними я надеюсь взять верх над республиканцами. Все в порядке.
- Но, дорогой префект, должен вам признаться, что назначены не те учителя, о которых вы просили: новые учителя - это господа Дюран - в Рошфор, Пьерро - в Сувиньи и т. д.
- Боже мой! Как это случилось?
- Очень просто; я просил об их назначении, и моих кандидатов предпочли вашим.
- Бог мой! Да что же заставило вас так поступить?
- Каждый из этих новых учителей добудет мне по крайней мере пять голосов, и, что еще важнее, я таким образом лишу двадцати пяти голосов моего соперника господина Дюфрена.
Префект, совершенно обескураженный, опустился в кресло.
- И после этого хотят, чтобы я управлял префектурой! Да возьмите ее себе, дорогой друг! Мне приказывают идти вперед - и отрезают ноги. Как же мне управлять волей людей в моей префектуре?
Известно ли вам, что г-н Доре, человек умный, бывший здесь префектом до 1830 года, работал в течение пяти лет, имея в виду одну цель: выборы. В каждом кантоне у него был свой человек, которого он щедро одаривал. Поэтому выборы у него проходили без сучка, без задоринки.
Я привел здесь лишь один из пятидесяти фактов; они слишком характерны, чтобы можно было писать о них: пришлось бы назвать имена, а это вызвало бы скандал, что, по-моему, грубо.
Если бы я имел честь принадлежать правительству, я считал бы самой большой глупостью заводить собственную газету. Француз еще далек от тайн управления и потому ничего не смыслит в крупном мероприятии, не знает, что о нем сказать, и скоро о нем забывает, если только не получает объяснений от какого-нибудь глупца, подкупленного, чтобы превозносить это мероприятие. Тогда француз начинает думать как раз противоположное тому, в чем хочет его убедить подкупленный субъект. Он считал бы себя обманутым, если бы поверил.
Несмотря на неприятную перспективу вызвать, говоря о политике, неудовольствие половины моих читателей, я все же решаюсь записывать то, что вижу. Я никогда не забуду того огромного удовольствия, какое я испытал в Лондоне, найдя в великолепном томе in-4° отрывки из путешествия Локка по Франции около 1670 года. Возможно, что через каких-нибудь пятьдесят лет все будут изумляться, как это могли додуматься до такой глупости, как выпуск газет префектурами. Господа префекты своими действиями достигают как раз обратного тому, чего они стремятся достигнуть. Я сам удостоверился в этом по крайней мере в десяти департаментах. С помощью более или менее ловких приемов префекты заставляют коммуны своих департаментов подписываться на газету, выпускаемую преданным им человеком, который ежедневно является за инструкциями в префектуру. Этот человек, бесспорно,- образец всех добродетелей, однако он иногда допускает некоторые оплошности. Точнее говоря, его усилия избежать самой низкопробной, с литературной точки зрения, пошлости остаются тщетными. И это вполне понятно. По каждому вопросу он боится сказать либо слишком мало, либо слишком много; он трепещет перед своим префектом, который, в свою очередь, трепещет каждое утро, раскрывая Moniteur. Я наблюдал в маленьких коммунах тот момент, когда деревенский почтарь приносит газету префектуры; крупные землевладельцы, платящие сто франков налога, которые собрались в кафе, считают себя обязанными думать как раз противоположное тому, что проповедует г-н префект. Я рассказывал в одном нивернейском городке о случае, происшедшем на моих глазах два месяца тому назад в Лангре. Мне очень серьезно возражали, что в моей версии это было напечатано третьего дня в газете префектуры. При этих словах все взоры, даже взоры золотой середины, остановились на мне с недоверием. За меня были лишь люди, знавшие меня по Парижу.
Правительство могло бы потребовать от всех своих чиновников на периферии сообщать ему сведения 1-го, 10-го и 20-го каждого месяца. Эти донесения следовало бы расположить на трех столбцах: проверенные факты, вещи возможные и слухи.
Прибегнув к такому простому средству и затратив сто тысяч франков на почтовые расходы, можно было бы собрать массу фактов, столь же точных, сколь и разнообразных, и заполнить ими, изложив их в развлекательной форме, первые три страницы газеты. На четвертой помещались бы королевские распоряжения и информация, которая давалась бы без тени похвалы или осуждения. И, конечно, никаких грубых опровержений других газет, никакого восхваления правительственных мероприятий. Печатались бы парламентские дебаты, причем выступлениям двенадцати - пятнадцати ораторов, пользующихся популярностью, посвящалось бы известное количество строк в точном соответствии с временем, проведенным ими на трибуне. Враждебность могла бы проявляться лишь в возбуждении дел о контрафакции против писателей, если бы они в течение недели использовали факты, опубликованные на первых трех страницах правительственной газеты. Если бы писатели стали утверждать, что сами получили то же известие, их попросили бы предъявить письмо с почтовым штемпелем.
Вначале я думал, что только усердие или стремление к повышению по службе побуждали префектов выставлять в смешном виде правительство с помощью своей злосчастной газеты. Но это вовсе не так. Г-н К только что сообщил мне, что префектам предписывается опубликовывать за свой счет ряд извещений, которые они должны довести до сведения всех коммун своих департаментов. Префекты считают весьма остроумным возложить на коммуны, под видом подписки на газету, издержки, которые они сами должны были бы покрывать из своих средств.
Жалованье чиновника, наделенного всеми Добродетелями, который в красноречивых строках восхваляет г-на префекта и министерство, составляет 3 000 франков, к тому же он надеется на получение выгодной супрефектуры. Бедняга редактор оппозиционной газеты едва зарабатывает 1 200 франков, однако он один из самых почетных гостей на всех торжествах у местных либералов. Обычная же беседа ближайших друзей префекта и правительства состоит в насмешках над глупостями, которые они прочитали утром в газете префектуры. Таким способом они рядятся в тогу независимости и превосходства и дают этим понять, что им известен подлинный смысл событий и оборотная сторона медали.
Если правительство когда-нибудь осуществит мысль о посылке в департаменты трех занятных страничек стоимостью в сорок франков для частных лиц и в двадцать для коммуны, оно зарежет три четверти провинциальных газет. На мой взгляд, это было бы великим злом.
Провинциал после чтения газеты всегда становится несколько менее отсталым и менее завистливым, чем обычно; как раз обратное случается с парижанином, который от газеты тупеет. Я разрешил себе описать здесь свои мечты, хотя и убежден, что ни одно правительство никогда не откажется от удовольствия прочитать напечатанные каждое утро похвалы распоряжениям, подписанным им накануне. Оно воображает, будто, кроме него, еще кто-то их читает, и не видит, что этим дается пища оппозиционным газетам. Без их разъясняющих восхвалений оппозиционной прессе пришлось бы самой сочинять экспозицию пьесы, разыгрываемой перед публикой. Однако предложить точную экспозицию современным французам - задача очень трудная. Доза внимания читателей к печатному слову заметно уменьшилась с тех пор, как авторы больше не перечитывают фраз, посылаемых ими в типографию.
Я настоятельно просил в гостинице разбудить меня в половине пятого утра, чтобы не опоздать на пароход, уходящий в Нант. Я был напуган печальным происшествием с целой семьей, которая обедала накануне за табльдотом и рассказывала, что утром они приехали на пристань ровно через час после того, как пароход отошел.
К счастью, я проснулся в четыре часа, и мне пришлось дергать за руку привратника, накануне униженно просившего у меня разрешения отнести мой дорожный мешок на пароход. Он нашел, что я поступил весьма неделикатно, потревожив его сон, и выражал неудовольствие даже после того, как я ему дал чаевые,
В половине шестого колеса парохода пришли в движение, но это движение было непродолжительным. Через десять минут мы благополучно застряли на отмели, являющейся продолжением острова на Луаре, который расположен ниже красивого моста. Капитан стал ругать на чем свет стоит своих подчиненных, говоря, что они должны были знать, что в этом месте нет прохода и что еще вчера вечером пароход, идя с низовья реки, принужден был двигаться вдоль правого берега.
Забавно, что он сам был на борту парохода в момент отплытия,- правда, он был занят тем, что, надувшись, как индейский петух, и с видом римского императора отдавал распоряжение, куда разместить судовую команду. Самое печальное то, что мы два с половиной часа провели неподвижно на мели в нестерпимой сырости, ибо через десять минут все было окутано таким густым туманом, что не видно было больше берегов Луары. Нас пронизывал холод, дамы перепугались. Наш пароход чуть не разбился, потому что капитан хотел заставить вращаться колеса, из которых одно завязло в песке. Величайший беспорядок царил среди матросов: все неистово ругались, ни у кого не оставалось времени, чтобы подумать о том, что следует предпринять. Самый молодой из моряков, по-моему, низшего чина, бросился в воду, и мы с ужасом увидели, что вода не доходит ему до пояса. Сделали несколько попыток, но все оказались тщетными. Хотели повернуть пароход так, чтобы его унесло течение. Но как его повернуть на мели шириной в пять или шесть футов, на которую он сел? Чтобы облегчить судно, нас всех (конечно, мужчин) заставили сесть в лодку. Но в этой лодке, не приспособленной к такому грузу, везде проступала вода. Вода доходила нам до лодыжек, и мне уже казалось, что лодка пойдет ко дну у конца отмели. По правде сказать, это не представляло большой опасности, мы погрузились бы в воду лишь по колена.
Матросы, в течение полутора часов кричавшие, как бесноватые, совсем охрипли. Они не в состоянии были отвечать на насмешки, сыпавшиеся с весельных судов, которые быстро скользили мимо нас по мощному течению Луары. Лодочники спрашивали матросов с парохода, обычно с такой наглостью обгонявшего их, не отвезти ли их груз в Нант.
Мне очень хотелось нанять для себя одну из этих лодок. Я дрожал от холода еще сильнее, чем третьего дня в читальне. Наконец, счетовод парохода решил окликнуть большую баржу, управляемую пятнадцатилетним мальчуганом. Мы все перебрались на сухую баржу. С этой минуты все мои горести прошли. Приняв груз, баржа чуть было не ушла одна; снова поднялись крики. Баржу крепко привязали к пароходу, матросы сели на весла, повернули баржу по течению, и, наконец, наше несчастное судно начало медленно двигаться. Слышен был скрип, когда оно проходило по мели.
В эту минуту громкий крик послышался с носа парохода; матросы принялись ругаться пуще прежнего; высокий юноша, который раньше бросился в воду, просто неистовствовал от злости. Нам грозила новая опасность! Большая спускавшаяся по Луаре баржа, которую тянули восемь лошадей, бежавших рысью, шла прямо на нас и вот-вот должна была столкнуться с нами. Крики и сумятица достигли крайних пределов, капитаны ругали друг друга, маленький счетовод был бледен, как смерть. Наконец мы привели в движение нашу машину, рискуя сломать одно из колес, все еще завязшее в песке. Судно дернулось в сторону и отошло приблизительно на шесть футов от своего прежнего положения. Люди с буксируемой баржи тоже кричали, как сумасшедшие, вторя погонщикам лошадей. Наконец эти люди сообразили, в чем дело, и баржа остановилась в десяти - двенадцати футах от нашего парохода.
По моему мнению, наше движение в сторону спасло бы нас от столкновения с баржей, даже если бы лошади и не остановились.
Видно, французы действительно обладают большой храбростью, подумал я, если при таком беспорядке они выигрывают сражения в минуту опасности. Быть может, остатки германской основательности, гарантирующей их от такого беспорядка,- причина того, что англичане почти всегда побеждают нас на суше. В битве при Фонтенуа - единственной, быть может, которая принесла нам победу,- французской армией командой вал немец (маршал Саконский), абсолютно не считавшийся с окружавшими его генералами и не слушавший их.
После того как пароход пришел в движение, волнение от пережитой неприятности вызвало приступ нелепой болтливости, длившийся до самого устья Эндры. В своих комментариях женщины совершенно искажали истину, причем рассказы пассажирок первого и второго классов, трусивших еще больше крестьянок, были еще более романтическими.
Поверит ли мне читатель, если я поклянусь, что не из эготизма поведал ему так многословно об этой маленькой беде? Цель моя была заставить недоброжелательного читателя, который несправедливо осуждает меня и тоже находится в пути, не принимать столь близко к сердцу все те недоразумения с паспортом, карантины и поломки экипажа, которые так часто портят самую приятную дорогу. Положительная же сторона в том, что узнаешь самого себя; научаешься побеждать дурное расположение духа в пути, как своего рода душевную болезнь, мешающую видеть любопытные вещи, которые, быть может, тебя окружают и среди которых тебе никогда уже не удастся побыть.
Мне кажется, поскольку наша страна находится на материке и нам свойственна известная склонность - возможно, и врожденная - к беспорядку, монархический образ правления, по крайней мере в 1837 году, для нас предпочтительней, чем лучшая республика. Будь у нас худший из королей, скажем, Фердинанд VII Испанский, я счел бы его более приемлемым правителем, чем республиканцев. Верю, они пришли бы к власти с самыми разумными намерениями, но вскоре разозлились бы и пожелали переделать все человечество.
Революция 89 года удалась только потому, что все плебеи, наделенные хоть в некоторой степени мужеством, были воодушевлены глубокой ненавистью, вызванной страшнейшими злоупотреблениями. А где же теперь страшнейшие злоупотребления?
И вдруг, словно чудом, на помощь революции явились семь или восемь великих людей, каждый из которых наметил свой путь в зависимости от своих страстей и предрассудков своей семьи. Эти великие люди обладали такой энергией, что еще сейчас, через сорок лет, малодушие, которым мы обязаны их победам и спокойному положению - следствию этих побед, еще не привыкло смотреть в глаза этой энергии.
Им помогала сотня значительных людей: Приеры, Петье, Дарю, Крете, Дефермоны, Мерлены.
В 1789 году тысячи французов страстно любили родину. Можем ли мы надеяться на такое стечение чудес в случае новой борьбы с Европой? Страх, который мы внушаем иностранным державам, знающим, что их подданные готовы подражать нам, научил их быть сплоченными. Воспользуемся же нашим нынешним счастьем и будем ждать. Будущее может быть для нас благоприятным, если мы все предоставим своему течению. Покажем же третьему сословию всей Европы картину нашего процветания и, чтобы еще ярче проявилось наше благополучие, откажемся от мятежей и удвоим наши богатства!
Туман и пронизывающий холод продолжались до устья Вьенны. Берега Луары однообразны: повсюду бледная зелень ив и тополей. Чтобы дать хоть некоторую пищу уму и не слишком скучать, я твердил себе, что мы проезжаем мимо Шинона, Ришелье, Монконтура; я старался припомнить события из истории Франции при последних Валуа и двух первых Бурбонах*. На пароходе меня уверяли, что Турень сохранила еще следы морального разложения - последствие длительного пребывания двора. Таково было мнение и Поля-Луи Курье (убитого неподалеку от мест, через которые я проезжаю).
* ("...при последних Валуа и двух первых Бурбонах", то есть Франция XVI-XVII веков.)
Взоры мои с жадностью искали хваленых берегов Луары; передо мной лишь низкорослые тополя и ивы, ни одного дерева вышиной в шестьдесят футов, ни одного прекрасного дуба, как в долине Арно, ни одного характерного холма. Беспрерывно тянутся плодородные луга и множество островов на поверхности воды, покрытые зарослями молодого ивняка, высотой в двенадцать футов, тонкие и свисающие ветви которого окунаются в реку. Среди этих зеленеющих, но лишенных живописности островков пароход прокладывал себе дорогу. Довольно часто нам попадались башни какого-нибудь замка в стиле Ренессанс, расположенного в пятистах шагах от реки, например, замок в Люин (родина Курье). Население этого городка ютится в пещерах, выдолбленных в скале. Меня хотят уверить, что перед нами столбы очень старинного акведука, находящегося близ Люин. На пароходе было много разговоров о замке Ла-Пуассоньер, где в 1524 году родился Ронсар. Над входом сохранилась еще и сейчас надпись: Voluptati et gratiis**. Перед замком все еще течет родник прекрасной Ириды*, называемый в этих местах Fontaine de la Bellerie. Я очень сожалею, что не побывал в Шенонсо, расположенном всего лишь в семи лье от Тура. Как известно, знаменитый замок того же имени построен на мосту через Шер, и ближайшие полые быки были отведены под кухни. Этот замок обитаем и прекрасно сохранился. Постройка восходит к XIII веку: она, по всей вероятности, являлась предмостным укреплением, возведенным для облегчения прогулок сеньора по обоим берегам Шера.
* ("Родник прекрасной Ириды" - намек на стихотворение Ронсара.)
** (Наслаждению и грациям (лат.).)
Поглядывая на берега Луары, я с удовольствием читал "Историю готического искусства" г-на де Комона. Мне кажется, что все содержание этого томика в триста страниц заимствовано из английских трудов; в нем имеются забавные литографии, хотя и не всегда точные. Заметно, что г-н де Комон сам не путешествовал и что английские авторы, на которых он ссылается, не знали юга Франции. В Англии, и лет всего лишь пятьдесят тому назад, решились взяться за изучение готического искусства. Такое изучение вполне соответствует помешательству на аристократизме, овладевшему этой страной*.
* ("Что стоит глаз врача?" - спросил недавно граф ***.)
За четыре с половиной лье от Тура мне любезно указали колонну Сен-Марса; это четырехгранный каменный столб восьмидесяти шести футов высотой, каждая из четырех сторон которого имеет в ширину двенадцать с половиною футов. Колонна эта - массивная сплошная постройка, не имеющая ни лестницы, ни окон. Она сделана из кирпича и увенчана еще четырьмя маленькими колоннами восьми футов высотой. Римского ли происхождения этот памятник? В Ланже находится готический замок, и в одном из обширных зал этого дворца, сейчас превращенного в конюшню, совершено было в 1491 году бракосочетание богатой наследницы Анны Бретонской с Карлом VIII.
Мы увидели замковую башню и белые дома Сомюра; издали они производят неплохое впечатление. За двадцать минут до прибытия город кажется величественным; стоит он на живописном холме. Когда мы проплывали вдоль набережной, на расстоянии пистолетного выстрела, нам очень понравились здешние лавки.
Замок или замковая башня, которую мы давно уже заметили, была построена в несколько приемов и закончена лишь в XIII веке. До 1789 года здесь помещалась государственная тюрьма, а в 1793 году замок был занят армией вандейцев. Церковь св. Петра относится к XIII веку; говорят, что она подлинно готического стиля с частями в романском стиле (предшествовавшем готическому или дерзновенному, который появился лишь в 1200 году). Любопытная церковь в Шантильи, как уверяют, построена до наступления великого варварства в 1000 году. Но мой чичероне полагает, что она относится к началу XII века. Говорят, в ней находятся большие стенные ковры XV века,- к великому сожалению, я не смог их осмотреть. Только увидев барельефы особняка Бурдеруля в Руане, я получил ясное представление о внешнем облике средневекового общества.
Церковь Нотр-дам-дез-Ардилье относится к 1553 году, церковь св. Иоанна, служащая теперь конюшней,- к концу XII века.
Несколько образованных людей, которые находились на пароходе, упомянули о двух долменах (друидических плитах) в окрестностях Сомюра. У одного из них, в Банье, плита возвышается на семь футов от земли, длиною она в пятьдесят восемь футов и шириною в двадцать один фут; тот же, который находится в Риу, не так велик; он стоит на вершине холма, и его называют "Крытый камень". В Сомюрском музее имеется античная труба длиною в пять футов.
К великому своему сожалению, я ничего этого не видал; пароход уносил меня все дальше. Мы без труда прошли под одним из прекрасных пролетов нового моста, после которого перед нами возникли большие здания Кавалерийской школы и тут же началась нескончаемая болтовня о судебном приговоре, недавно вынесенном одному молодому офицеру. Пожилой человек, житель Сомюра, сказал нам: "Возможно, что за ними водились кой-какие грешки, это вполне естественно для сублейтенанта; но недостаточно проверенные факты, легшие в основу приговора присяжных, абсурдны и не могли иметь места. Во всяком случае, можно было бы просить о помиловании: годичная высылка в Соединенные Штаты была бы более чем достаточным наказанием". Особенно примечательно в этом процессе то, что присяжные, как и все во Франции, не способны противостоять моде; именно это и является галльским грехом.
Только после впадения Майенны дамы, еще опасавшиеся, что мы снова сядем на мель, окончательно успокоились. Я заметил на левом берегу, в двадцати шагах от Луары, деревню, которая тянулась по крайней мере пол-лье. В этом месте река течет непосредственно у подножия скалы, сдерживающей ее с юга.
Изысканно одетый пожилой господин, о котором я впоследствии узнал, что это смещенный с должности префект, попросил у меня дать почитать ему один из томов серьезного романа Бошана* под заглавием "История Вандейской войны". Вскоре он мне его возвратил.
* (Бошан (1767-1832) - французский литератор, автор сильно беллетризованной "Истории вандейской войны" (1806).)
- Местному жителю, знающему правду, это невозможно читать,- сказал он мне.
Мы начали беседовать, чему я был очень рад. Этот префект, человек неглупый, который так же скучал, как я, рассказал мне с большими подробностями все, что происходило в окрестностях Луары в связи со смелым выступлением герцогини Беррийской. Хотя мы оба принадлежим к народной партии, мы не могли не отдать должного мужеству молодой женщины, тем более поразительному, что она получила самое жалкое придворное воспитание. Если бы граф д'Артуа поступил так же в 1794 году, мы не имели бы гражданского кодекса, затрудняющего передачу по наследству большие состояний, без которых невозможна подлинная монархия.
Очевидно, мой новый приятель побывал в Неаполе. Он рассказал мне несколько анекдотов, слишком вольных, чтобы их здесь повторить*.
* (Самые оригинальные и правдивые подробности о Неаполе и Сицилии я узнал у Пальмьери Миччике. Беседа воспитанниц палермских монастырей, происходившая в воздушном пространстве, над крышами домов, и подслушанная им однажды, когда отец в наказание запер его на чердак, просто великолепна.)
На этот раз мне скажут, что я якобинец. Кардинал Руффо* подзадоривал лацарони, которые оскорбляли патриотов, посаженных в грязные баржи, стоявшие на якоре в неаполитанском порту под жгучим августовским солнцем.
* (Кардинал Руффо возглавлял неаполитанские войска, сражавшиеся с французами в 1799 году и подавившие неаполитанскую революцию.)
- Сволочи, - кричал лацарони,- чем вам помешали пошлины на муку, что вы хотели их отменить?
В другой раз у либералов были украдены шляпы, что вовсе не весело при таком солнце.
Затем мы заговорили о carcere duro* ** г-на Меттерниха*** и об отрезанной ноге монсиньора Марончелли*.
* ("Carcere duro" г-на Меттерниха - суровый тюремный режим, применявшийся австрийскими властями по отношению к итальянским революционерам.)
** (Строгий тюремный режим (лат.).)
*** (Марончелли, Пьеро (1795-1846) - итальянский карбонарий, десять лет провел в австрийской тюрьме Шпильберге (Моравия). В связи с болезнью, вызванной тяжелым тюремным режимом, подвергся ампутации ноги.)
- Виной тому короли,- говорил мне префект,- своей неловкостью они накличут на нас республику, которая испортит нам жизнь на десять лет. Настоящие революционеры не те безумцы, которые призывают к революции, а те, которые внедряют ее в жизнь. Разве Пеллико руководился расчетом, когда он писал свое произведение, так крепко вошедшее в сознание парижан? Нет, по чистой случайности книга его оказалась в полной гармонии с жеманством, модным тогда в сенжерменских салонах Эта книга еще долго не потеряет читателя, ибо она в духе "Подражания Христу".
Наша беседа была прервана прохождением под Ансенисским мостом, что представляет немалые трудности. Колеса нашего парохода прошли с обеих сторон на три дюйма от мостовых быков, к счастью, деревянных. Опустили трубу из листового железа, но, несмотря на свое горизонтальное положение, ее нижний край задел за источенные червями мостовые балки. Как только вода хоть немного поднимется в Луаре, пароходы уже не смогут проходить под этим устарелым мостом, у которого следовало бы снять один бык.
Когда мы миновали мосты, бывший префект вновь обратился ко мне:
- Вы, конечно, слыхали о русской княгине Остроленко, чрезвычайно умной женщине, которая еще достаточно хороша собой, но горда, как дьявол.
При ней жила молодая девица, тоже украшенная всеми добродетелями, которая звала ее тетей. И вдруг, когда они приехали в Неаполь, княгине взбрело на ум выдать племянницу за сына знаменитого аптекаря Аркона. Все домочадцы боятся княгиню, как огня. По мере того, как она утрачивает молодость, она становится, пожалуй, самой большой аристократкой во всех северных монархиях.
Ее бедная племянница так и не нашла в себе решимости сказать ей, что она не хочет выходить замуж за аптекарского сына. Оглашение было сделано, все швеи Неаполя засели за шитье роскошного приданого.
Накануне свадьбы аптекарский сын явился к своей нареченной с огромным букетом цветов. Он долго беседовал с ней наедине на террасе в саду, в десяти шагах от княгини. Но его галантность не имела успеха. Физиономия страстно влюбленного аптекаря вызвала у девушки такое отвращение, что оно на этот раз оказалось сильнее страха, который княгиня внушала всем в доме. Молодая особа, однако, не осмелилась говорить со своей благодетельницей, она пошла выплакать свое горе к ее дворецкому, огромному, толстому неаполитанцу очень веселого нрава, который лишь в очень слабой степени разделял тот священный трепет, который испытывают северяне перед своими властителями.
Племянница сказала ему, что она предпочитает умереть, чем сочетаться браком с аптекарем, что ее отвращение непреоборимо, и т. д.
- Что же вы этого раньше не сказали? - повторял неаполитанец.- Хорошенькое поручение вы мне даете к ее светлости!
Молодая особа м-ль Мелани стала плакать пуще прежнего и разжалобила толстяка. Итальянская чувствительность еще не иссякла даже у профессиональных льстецов.
- Ну, хорошо, я попробую, - произнес наконец дворецкий и велел доложить о себе княгине. Но, увидев эти сверкающие, преисполненные гордости глаза, он сперва не нашелся, что сказать. И тогда он позволил себе шутку, к которой так часто прибегают неаполитанцы, когда они приведены в смущение. Заметив, что княгиня смеется, он начал другую шуточную историю, но вдруг остановился.
- Как я могу смеяться,- воскликнул он,- когда мне приходится сообщить вашей светлости такое неприятное известие! Прелестный гарнитур мебели, который по заказу нашего поверенного в Лондоне был выполнен с таким мастерством и за который он потребовал авансом сорок тысяч франков, попорчен, находится в самом плачевном состоянии. Корабль, на который эти вещи были погружены, дал течь, а ящики с мебелью лежали в самом низу трюма.
Княгиня стала громко охать.
- Однако заметьте себе, сударыня: небо, знающее мою безграничную преданность вашей светлости, наделило меня даром совершить чудо и обменять это несчастье на другое, тоже, конечно, очень серьезное, но которое не будет стоить вам ни единого су. Ваш чудесный гарнитур прибыл вчера, я сам его распаковал, все вещи в целости и сохранности, и завтра утром, если ваша светлость соблаговолит прийти в оранжерею, она сама сможет в этом убедиться.
- А какое другое несчастье? - в нетерпении воскликнула княгиня.
- Увы, речь идет о мадмуазель Мелани! Она питает столь глубокое почтение к вашей светлости, что не осмелилась признаться, что готова лучше умереть, чем выйти замуж за аптекаря.
Княгиня покраснела и, несмотря на свое обычное равнодушие, стала ходить взад и вперед по гостиной, в то время как дворецкий заканчивал свою защитительную речь.
- Вы дурак и наглец! - крикнула она.- Как смели вы примешать рассказ о мебели к такому серьезному делу!
И она в ярости бросилась к звонку.
- Позвать ко мне мадмуазель Мелани и моего кучера!
Через минуту оба предстали перед ней.
- Посмотри на мадмуазель Мелани! - приказала княгиня кучеру, знаменитому своей бородой в восемнадцать дюймов, вызывавшей восхищение всего Неаполя.
Кучер, схватив обеими руками свою бороду, пробормотал, что он не смеет.
- Посмотри на нее! - повторила княгиня таким тоном, что все задрожали...- Нравится она тебе?
Кучер снова пролепетал что-то невразумительное о своем уважении.
- Завтра ты на ней женишься.
Кучер стал неистово креститься, после чего шепотом признался, что он уже женат.
- Убирайся вон, дурак! - крикнула княгиня.- И пусть мадмуазель Мелани тоже убирается и никогда не показывается мне больше на глаза!
Назавтра княгиня велела мажордому подыскать монастырь и отдать туда несчастную Мелани, внеся на ее содержание за десять лет вперед.
Через три дня княгиня спросила мажордома, каково название монастыря, куда он собирается поместить Мелани; тот весьма политично ответил ей:
- Об этом происшествии заговорит весь город. Наши дамы высшего света очень интересуются тем, что делается в монастырях, они сами там воспитывались и сохраняют с ними самые тесные связи. Все захотят познакомиться с бедняжкой, выгнанной из дому. И кто знает? Быть может, будет произнесено нелепое слово - ревность. Не жалея своих сил, чтобы угодить вашей светлости, я нашел молодого французского коммерсанта, который согласен жениться на мадмуазель Мелани.
- Как его фамилия?
- Ашар.
- Как она пишется: Achard или Hachard?
- Право, не знаю; как будто...
- Вы дурак! Сейчас же узнайте об этом и Доложите мне до моего отъезда в театр!
- Его фамилия пишется Achard,- сообщил мажордом, войдя через некоторое время к княгине.
- Я согласна на этот брак,- решила княгиня.- Приданое пригодится. Не нужно будет менять метку*.
* (Я бы не позволил себе привести эту историю, если бы она не была напечатана в "La Presse" 30 ноября 1837 года.)
После этого наша беседа с бывшим префектом перешла на более серьезные темы. Мы затронули вопрос гораздо более рискованный, чем все то, о чем мы разговаривали до сих пор. Сошлись мы на том, что человек, которому его поместья приносят пятьдесят тысяч франков ежегодного дохода, должен платить более высокий налог, чем двести мелких землевладельцев, имеющих каждый по двести пятьдесят франков дохода. (Это для того, чтобы не кормить бездельников.)
Сумма в три или четыре миллиона, которую получило бы государство, увеличив обложение поместий землевладельцев, платящих налог более двух тысяч франков, позволила бы уменьшить подати ниже пяти франков, и вот каким образом.
Крестьянин, который платит сейчас шесть франков поземельного налога, будет платить только пять франков в том случае, если он докажет, что он сам или один из его детей грамотен, и только три франка, если он сможет доказать, что грамотны и он и двое из его детей. Эта мера привела бы к снижению всех налогов, не превышающих пяти франков, на сумму, которая ежегодно предусматривалась бы определенной статьей бюджета, уравновешиваемого поступлениями по прогрессивному налогу.
Уменьшать посредством обложения доход отца семейства, имеющего ежегодный доход двести пятьдесят франков в год и пятерых детей,- это значит наносить вред приросту населения. Неосторожность и религиозные предрассудки способствуют деторождению. Дети же до семи - восьмилетнего возраста во множестве гибнут от недостатка питания. Они были бы спасены, если бы раз в неделю могли есть мясо.
А ведь продукты, затраченные на питание четырех детей, которые к восьми годам умерли от недоедания и не успели принести никакой пользы обществу (то есть не способствовали своим трудом увеличению его ценностей), эквивалентны продуктам питания, потребленным за свою жизнь здоровым двадцатилетним юношей, который весьма полезен.
Общество - даже оставляя в стороне человеколюбие - заинтересовано в сохранении жизни каждого ребенка. Не следует забывать, что восемьдесят из ста детей, погибающих в деревнях, умирают из-за недостатка питания; болезни - лишь пустая видимость.
Нация теряет средства, израсходованные на питание этих восьмидесяти детей. Прогрессивный налог снизил бы число гибнущих из-за недоедания детей, быть может, до сорока процентов. Но найдется ли в голландской палате в 1836 году хотя бы сто депутатов, читавших Смита и Мальтуса или размышлявших над этими вопросами? Целесообразно отложить все эти трудные проблемы до того времени, когда депутатов будут оплачивать; тогда появятся люди, привыкшие работать.
Мы наговорили еще немало других глупостей. Штрафы являются наказанием только для бедняков, богатым людям они нипочем. Собственника экипажа, раздавившего в Париже человеческое существо, следовало бы не только приговаривать к штрафу в 150 франков, но еще и к сумме вдвое больше налога, уплаченного им в предыдущем году.
У одного человека тридцать шесть тысяч франков дохода в год, иначе говоря, сто франков в день; у другого - четыре тысячи франков в год, то есть одиннадцать франков в день. Кто решится утверждать, что штраф в пятьсот франков ложится одинаковой тяжестью на обоих виновных? Необходимо, следовательно, изменить законы о наложении денежных взысканий.
Приговор судьбы можно сформулировать следующим образом: безопасность богачей вскоре будет обусловлена отсутствием отчаяния у бедняков.
Рабочего, привлеченного к суду, сажают в тюрьму; это предварительное заключение длится один - два месяца; за это время его жене и детям остается только умереть с голоду или же начать воровать. Если же в тюрьму сажают состоятельного человека, он теряет только свободу.
Заставьте понять все это людей, никогда не читавших, я уже не говорю Бентама, но даже Монтескье, стиль которого - подлинный праздник для ума. Однажды какой-то законодатель посмеялся надо мной, потому что я читал Делольма* (относительно английского образа правления).
* (Делольм (1740-1806) - швейцарский юрист и государствовед, автор книги "Конституция Англии, или английский образ правления" (1771).)
Француз, желающий жить в городе с девятьюстами тысячами жителей, говорили мы, должен пожертвовать долей своей свободы. Вот о чем обязан был бы сказать министр, внося в Палату закон, воспрещающий всем отбывшим свой срок каторжникам и рецидивистам проживать в департаменте Сены. По этому закону каторжник сможет там жить, только если за него будет внесен залог в 5 000 франков, и то по специальному разрешению короля. Мошенники стали нынче уж очень ловки; вспомните Ласенера.
Малолетних рецидивистов (не достигших 16 лет) будут отправлять в рабочий дом в Тулоне, и они уже не смогут появиться в департаменте Сены. Их можно будет использовать на море. Если не принять таких мер, то у нас на каждом шагу будут происходить убийства, подобные убийству Маэса.
Полиция у нас прекрасная, но преступники настолько умелы, что вскоре она не сможет с ними справляться.
Жители на улице Ришелье могли бы нанять двух сторожей, взятых из раненых солдат (условие, которое избавит от бывших лакеев влиятельных особ). Эти сторожа, вооруженные пистолетом и копьем, ходили бы по улице Ришелье от одиннадцати часов вечера до рассвета и вскоре знали бы всех жителей. В Англии, Германии и Испании имеются такие сторожа.
Какой-нибудь престарелый, но еще бодрый генерал, бывший префект, проживающий на данной улице, мог бы быть избран эдилом местными домовладельцами и жильцами, платящими более ста франков налога. В его распоряжении были бы сторожа, и он имел бы дело только с воровством и посягательством на личную безопасность,- политика не входила бы в его компетенцию.
Так мы дружески беседовали в кают-компании парохода, ибо вскоре после Ансениса холод заставил нас там укрыться. Время начало томительно тянуться, как вдруг мы увидели огни Нанта.
Нант, 25 июня 1837 г.
Нет ничего более тягостного во Франции, чем минута, когда пароход подходит к пристани; каждый норовит схватить свои чемоданы или тюки и безжалостно расшвыривает целую гору самых различных предметов, нагроможденных на палубе. Все раздражены, все грубы.
Моя бедность спасла меня от этой сутолоки. Я взял свой дорожный мешок под мышку и одним из первых спустился по мосткам на нантскую мостовую. Не успел я сделать и двадцати шагов, следуя за человеком, который нес мой чемодан, как понял, что это большой город. Мы пошли вдоль чудесной решетки, служащей оградой саду, расположенному на набережной перед биржей. Мы поднялись по улице, которая ведет к театру. Лавки, хотя в большинстве уже закрытые - было девять часов вечера,- с внешней стороны производят прекрасное впечатление. Несколько еще освещенных ювелирных лавок напоминают роскошные магазины на улице Вивьен. Боже мой, как это непохоже на оплывшие свечи, освещающие грязные лавчонки в Туре, Бурже и большинстве городов центральной Франции! Это возвращение в цивилизованный мир вернуло мне все мое философское спокойствие, слегка нарушенное, признаться, июньским холодом и вынужденным двухчасовым купанием сегодня утром. Впрочем, удовольствие, доставляемое моим взорам, не отвлекло меня от моих телесных недугов. Я ждал чего-нибудь похожего если не на берега Рейна в Кобленце, то хотя бы на лесистые холмы в окрестностях Вилькье или Ла-Мейере-на-Сене. Передо мной же были лишь зеленеющие острова и обширные луга, окаймленные ивами. Слава, созданная Луаре, свидетельствует об отсутствии понимания красот природы, которое характерно для французов старого режима, для просвещенных умов вроде Вольтера или Лабрюйера. Только в эмиграции, в Гартвеле или Дрездене, у людей раскрылись глаза на такого рода красоту. Я слышал, как герцог де М. с большим пониманием говорил о том, каким образом следует украсить Компьенский парк.
Я остановился в великолепной гостинице, в прекрасном номере, выходящем на площадь Грален, где помещается театр. Пять или шесть улиц ведут к этой прелестной небольшой площади, которой восхищались бы даже в Париже.
Бегу в театр и поспеваю как раз в тот момент, когда Буффе* заканчивает свою роль в "Бедном Малом"**. Увидев Буффе, я подумал, что вернулся в Париж. Это, на мой взгляд, безусловно, лучший актер нашего театра. Во всех своих ролях он перевоплощается и в каждой новой роли не похож на себя. Берне, конечно, не лишен натуральности и правдивости, но это всегда один и тот же наивный простак, который нравится нам своим открытым характером и своей прямотой. По мере того как эти качества становятся все менее приемлемыми в обществе, все больше ценишь их на сцене.
* (Буффе (1800-1888) - популярный французский актер на характерные и комические роли.)
** ("Бедный Малый" - комедия-водевиль бр. Коньяр, поставленная в 1835 году.)
"Бедный Малый" - ничтожная пьеса, но сегодня вечером в диалоге отца с дочерью я нашел тему для дуэта, который мог бы написать Перголезе; он превзошел бы всех современных композиторов, даже Россини. Здесь потребовалась бы большая глубина, чем в квартете из "Bianca e Faliero"* (это шедевр остроумного человека, напускающего на себя чувствительность). Когда актеры Французской комедии расхаживают по сцене, они производят на меня впечатление людей хорошего общества, очень воспитанных, но по случайности совершенно лишенных остроумия. Непонятная скука начинает мало-помалу одолевать вас, и вы сначала не знаете, чему ее приписать. Поразмыслив, вы приходите к выводу, что мадмуазель Марс - образец, которому они все подражают,- не умеет передать ни одного более или менее пылкого душевного переживания:
* ("Бьянка и Фальеро" - опера Россини (1819).)
она в состоянии создать лишь образ женщины очень хорошего общества. Иногда она как будто хочет изобразить безумие, но тут же лукавым взглядом предупреждает вас, что не хочет утратить в ваших глазах своего личного превосходства над исполняемой ею ролью.
Какая доля правды допустима в изящных искусствах? Это очень серьезный вопрос. Двор Людовика XV заставил нас заменить правду элегантностью или, точнее, изысканностью. По этому пути мы дошли до аббата Делиля - треть общепринятых слов запрещено было произносить на сцене; отсюда мы сделали скачок к Вальтеру Скотту и к Беранже.
Если бы Амалия Беттини и Доменикони, великие итальянские актеры, могли играть на французском языке, они изумили бы Париж. Мне думается, что из мести их освистали бы. Потом кто-нибудь открыл бы, что в салонах на каждом шагу встречаешь те самые характеры, которые они изображали на сцене.
Буффе настолько восхитил меня тем, что сумел придать интерес плохонькой пьеске "Бедный Малый", что я позабыл ознакомиться с внешним обликом бретонского общества. Зал был битком набит.
Только когда я выходил из театра, одно лицо напомнило мне мадмуазель Сент-Ив из "Простака"*; то была молодая бретонка с черными глазами и видом не то чтобы решительным, но отважным, выходившая из ложи бенуара под руку с отцом; она показалась мне воплощением героинь Вандеи. Терпеть не могу, когда люди собираются за границей, чтобы добиться победы своей партии, однако такое заблуждение простительно крестьянам, особенно если оно продолжается недолго. "Меня глубоко восхищают некоторые черты преданности и мужества, которые прославили Вандею. Я восхищаюсь бедными крестьянами…" - проливавшими кровь ради того, чтобы светские аббаты в Париже пользовались доходами с трех или четырех богатых аббатств, расположенных в их провинции, в то время как сами эти крестьяне довольствовались лепешками из гречихи.
* ("Простак" - повесть Вольтера (1767). Героиня повести, бретонка м-ль де Сент-Ив, проявила твердость характера, стремясь освободить из заключения своего возлюбленного, но смогла добиться этого лишь ценою своего бесчестия.)
Само собой разумеется, что не вчера вечером вписал я все эти страницы в свой дневник; я умирал от усталости, когда вернулся из театра и из кафе в половине первого ночи.
Сегодня в шесть часов утра меня разбудили слуги, которые перед самой моей дверью прутьями выколачивали платье всех постояльцев гостиницы, насвистывая при этом что было мочи. А ведь я взял номер в третьем этаже, чтобы избежать шума. Но провинциалы всегда верны себе, и тщетны усилия спастись от них. Мой номер превосходно обставлен, и я плачу за него три франка в сутки, но в шесть часов утра меня будят самым варварским образом. Когда, выходя из своего номера, я очень кротко сказал старшему коридорному, что, быть может, для чистки платья нашлось бы помещение в нижнем этаже, он посмотрел на меня свирепыми глазами и ничего не ответил; как истый француз, он не простит мне всю жизнь, что не сумел мне ответить.
К счастью, корреспондент нашей фирмы - бывший вандеец. Он все еще в душе солдат и совсем не купец. Он видел храброго Кателино*, к которому, признаюсь, я питаю слабость. Он сказал мне, что купленная мною литография Кателино не имеет с ним ничего общего. С превеликим удовольствием принял я его приглашение к обеду на сегодняшний вечер.
* (Кателино (1759-1793) - один из вождей вандейцев, происходил из крестьян.)
Преисполненный мыслями о гражданской войне, я, покончив с делами, пошел смотреть место, где скрывалась герцогиня Беррийская*: она пряталась в доме возле крепости. Удивительно, что эту героическую женщину так долго не могли найти. Достаточно было бы измерить дом снаружи и внутри, как это делали французские солдаты в Москве, чтобы найти тайники. На крепости в разных концах я заметил лотарингские кресты.
* (...место, где скрывалась герцогиня Беррийская.- После неудачи вандейского восстания 1832 года герцогиня Беррийская скрывалась в Нанте. Дом, в котором она находилась, был указан полиции одним из ее сообщников, продавшим ее тайну министру Тьеру за крупную сумму денег. Однако и после того, как полиция заняла дом, она не смогла сразу найти герцогиню, спрятавшуюся в тайнике за камином. Жандармы случайно затопили камин, и герцогиня должна была выйти из тайника, чтобы не задохнуться от дыма.)
Я поднялся на бульвар, который расположен совсем неподалеку и высится над крепостью и над течением Луары. Вид оттуда очень неплох. Сидя на скамейке около большой лестницы, спускающейся к Луаре, я вспоминал события из истории длительного заточения в здешних местах знаменитого кардинала де Реца, который по зрелому обсуждению должен быть признан умнейшим человеком Франции. У него не замечаешь, как у Вольтера, ограниченности в суждениях; он имеет смелость говорить то, что с трудом поддается выражению.
Я вспомнил план похищения его кузины, прекрасной Маргариты де Рец. Он хотел увезти ее в Голландию, где люди укрывались в те времена от деспотизма французского короля.
"У мадмуазель де Рец были прекраснейшие глаза,- говорил кардинал*,- но особенно прекрасны они были, когда становились томными; я не видел лица, которому нега придавала бы столько прелести. Однажды, когда мы вместе обедали у одной местной дамы, м-ль де Рец, глядясь в зеркало, висевшее в нише, взором выразила всю нежность, живость и трогательность, присущие morbidezza** итальянок. Но, к сожалению, она не приметила того, что Паллюо, впоследствии маршал де Клерамбо, мог видеть ее отражение в зеркале".
* (Стр. 17, изд. Мишо, 1837 год.)
** (Чувствительность (итал.).)
Столь нежный взгляд, подмеченный умным человеком, возбудил такие подозрения, - ибо этот взгляд, бесспорно, был нарочитым,- что отец будущего кардинала поспешил увезти его в Париж.
Я провел два часа на этом холме. Здесь посажены деревья в несколько рядов и имеются статуи, которые ниже всякой критики. Внизу, в сторону Луары, я заметил два или три дома, которые нельзя было разрешить строить в таком красивом и богатом городе, как Нант. Но наши градоправители мало понимают в красоте. Примером может служить то, что они позволяют строить на парижских бульварах! В Германии самые маленькие города очаровательны; они так нарядны на вид, что лучший архитектор может позавидовать, и это достигается без стен, без зданий, без особых расходов, а исключительно с помощью солнца и деревьев. Это происходит оттого, что у немцев есть душа. Живопись их художника Корнелиуса* слаба, но они способны ею восхищаться; мы же стараемся постигнуть нашу живопись с помощью больших умственных усилий.
* (Корнелиус (1783-1867) - немецкий художник, писавший картины на мифологические и исторические темы.)
Деревья на Нантском бульваре очень хилы; видно, что земля никуда не годится. Я сейчас выскажу мысль, которая приведет в ужас нантских градоправителей, если им когда-нибудь придется с ней ознакомиться. Надо вырыть большие канавы в десять футов глубиной на боковых аллеях их бульвара и наполнить эти канавы чудесным черноземом, который следует доставить с берегов Луары.
Вдоль бульвара, на востоке, стоит ряд домов, вполне соответствующих моде, с точки зрения местной аристократии. Они обладают двумя качествами: они благородны и печальны. Здесь дышится к тому же полной грудью в физическом смысле этого слова. Я шел по аллее до самого конца в противоположном направлении от Луары. Я добрался до речки шириною в ладонь; по ней двигался пароход. Мне сказали, что эта река называется Эрдр. Я в восторге: наконец-то нашлась рифма для слова "perdre"*, а нам говорили в коллеже, что таковой не имеется.
* (Потерять (франц.).)
Идя вдоль берегов этой речки с твердо произносимым названием до самой Луары, я заметил слева высокое здание в галло-греческом стиле, той же нелепой архитектуры, как и Медицинский институт в Париже; это была префектура. На Эрдре я увидел шлюзы и мосты. Плохонькие деревянные дома XVI века принудительно заменяются великолепными трехэтажными каменными зданиями. Здесь протекает еще одна речонка - Севр Нантез.
Дойдя до набережной Луары, очень широкой и очень оживленной, я увидел, что единственным ее крашением служат вязы вышиною в шестьдесят футов, посаженные в один ряд на берегу реки против домов. Это производит огромное впечатление. Необычная форма каждого дерева действует на воображение; многие дома не лишены стиля и особенно хороши по окраске.
Я видел, как подошел хорошенький пароход; он прибыл из Сен-Назера, следовательно, с моря, которое находится в восьми лье отсюда. Я рассчитываю воспользоваться пароходом в один из ближайших дней.
По этой чудесной набережной, украшенной столь удачно и с такими малыми затратами, во всех направлениях снуют с деловым видом люди. Видна кипучая деятельность большого торгового города. Здесь имеются два омнибуса: один белый, другой желтый; кондукторами служат молоденькие восемнадцатилетние крестьянки; цена проезда - три су.
Я сел в омнибус и вышел только на его конечной остановке. Характер юной кондукторши ежеминутно подвергается испытанию со стороны пассажиров их шутками и различными проделками. Это очень забавно. Остановился омнибус у верфи. Я последовал за бегущими мальчишками: спускали корабль в шестьдесят тонн. Все прошло удачно. Я сожалел, что не испросил разрешения подняться на корабль; я смог бы испытать какое-нибудь сильное ощущение, возможно, страх, когда корабль носом погружался в воду. Я видел, как он величественно скользит по деревянному скату и затем спускается на воду, где и пробудет до конца своих дней. Меня окружали молодые матери семейств; у каждой из них было по четыре - пять малышей, которые все казались одного возраста. Я пытался вступить в беседу с одним старым таможенником, моим коллегой, таким же зрителем, как и я, но ничего интересного он мне не сказал.
Большое преимущество Нанта в том, что он частично расположен на холме, который поднимается от самой Луары на ее правом берегу, а на севере все более от нее отклоняется под углом приблизительно в тридцать градусов. Доки, где я нахожусь, занимают первую же небольшую равнину, расположенную между Луарой и холмом. Но Луара здесь не так широка, как Рона в Лионе. Нант стоит на очень узком рукаве реки. Реку здесь, как и повсюду, портят острова. Напротив верфи к этому рукаву Луары примыкает другой, гораздо более широкий. Я нанял лодку, чтобы подняться по этому рукаву, но сегодня меня преследовала неудача. Без лишних разговоров старый матрос с моей лодки попросил у меня шесть су на бутылку вина; вот уже две недели, как ему не случалось выпить, заявил он. По всей вероятности, это была ложь. Литр вина стоит пять сантимов в Марселе, а на побережье Бретани он должен быть не дороже пятнадцати сантимов; возможно, впрочем, что налог чрезмерно высок. Наши таможенные законы так нелепы!
Второй рукав Луары загорожен шестами, которые торчат из воды, образуя словно большие заглавные игреки (Y), причем острие всегда направлено к морю; это сети для ловли бешенки.
Следуя вверх по второму рукаву Луары, я добрался до какого-то моста; здесь я поспешил распрощаться со своей лодкой и подняться на мост весьма невзрачного вида, который возвышается над водой приблизительно на сорок футов. Не спеша проходил омнибус, шедший из Нанта; я сел в него, и вскоре мы пересекли третий рукав большой реки. Никогда в жизни мне не доводилось испытывать такой тряски: улица, соединяющая три моста, отвратительно вымощена. Из этого я заключил, что в Нанте не такой мэр, как в Бурже.
Я поспешил вернуться в гостиницу, чтобы переодеться: мне предстояло обедать у г-на Р. Так как Буффе сегодня не играл, я оставался в гостях до половины десятого и думаю, что если бы даже мой друг Буффе и играл, я бы задержался у моего хозяина до тех пор, пока он бы меня не выгнал. Я изголодался по дружеской беседе: вот уже неделя, как я, подобно мизантропу, живу вне общества, требуя от него только предоставления материальных благ - спектаклей, пароходов и впечатлений от его деятельности. У меня явилась мысль вести такой же образ жизни в Париже, если мне суждено состариться в Европе. От комедии, беспрестанно разыгрываемой современными французами, у меня разбаливается голова.
Впрочем, если бы мне даже не так страстно хотелось поговорить, я был бы очарован пятью - шестью славными бретонцами, с которыми познакомил меня г-н Р.
Его жена и четырнадцатилетняя дочь, совсем еще дитя, меня сразу же пленили: это естественные существа. Девочку нельзя назвать красивой, но она обворожительна, слегка своевольна, как избалованный ребенок. За обедом она потребовала всех раков из паштета, говоря, что она всегда их получает, когда за обедом нет посторонних. Г-жа Р. была бы очень недурна собой, если бы этого хотела, но она начинает на все смотреть философски, то есть пессимистически, как это и подобает тридцатишестилетней женщине, бесспорно, очень порядочной, но уже не влюбленной в своего мужа. Что касается меня, то, как извращенно мыслящий человек, я очень бы посоветовал ей завести себе любовника; это никому бы не повредило и отдалило бы, возможно, на десяток лет появление озлобленности и прощание с веселыми мыслями молодости. Это дом, куда я ходил бы ежедневно, если бы мне пришлось остаться в Нанте.
Я был бы просто безумцем, если бы поделился здесь с читателем всеми любопытными и меткими анекдотами, которыми позабавили нас сегодня вечером; я опубликую их через десять лет. Они показывают общество в диковинном виде; если бы на этот раз, поддавшись искушению, я решился познакомить с ними читателей, меня сочли бы одновременно легитимистом, ярым республиканцем и иезуитом.
В одной из этих историй показан с наилучшей стороны чистосердечный, храбрый генерал Обер Дюбайе из Гренобля, который привел в Вандею майнцский гарнизон.
Впрочем, у меня всегда вызывают большие возражения анекдоты, в которых остроумная развязка заставляет себя долго ждать и которые уделяют много места треволнениям человеческого сердца, подобно итальянским новеллам и рассказам Плутарха. В устной передаче такие анекдоты не кажутся чрезмерно длинными, но в напечатанном виде занимают пять - шесть страниц и вызывают во мне чувство неловкости.
Однажды, во времена, когда Макьявелли был министром иностранных дел несчастной Флорентийской республики, развращенной папскими деньгами, возник вопрос о направлении в Рим посла. "S'io vo chi sta? S'io sto chi va?*" - сказал Макьявелли.
* (
Если я туда поеду, кто останется здесь? Если я останусь здесь, кто поедет туда? (итал.)
)
Кто из современных аристократов когда-либо произнес что-нибудь подобное? Благодаря свободе ум у итальянцев развился уже к X веку*.
* (Достоверны только те сведения об Италии, которые взяты из летописи Муратори, а также из его талантливых рассуждений.)
Нант, 26 июня.
Мне пришлось осмотреть пять госпиталей в Нанте; но так как, благодарение богу, настоящее путешествие не претендует на то, чтобы давать статистические и научные данные, я избавлю от них читателя, как я это сделал при описании других городов. Не привожу и мыслей, явившихся у меня по поводу пауперизма. Флот и армия должны были бы поглотить всех бедных детей, достигших десяти лет, которые умирают сейчас из-за отсутствия бифштекса*. Объяснил, что такое фаланстеры Фурье, людям, показывавшим мне один из госпиталей. Они простодушно удивлялись. Заслуги, не отмеченные премией Монтиона и газетами, остаются неизвестными в провинции. Отсюда - талантливому человеку необходимо бывать в Париже, иначе он рискует вновь изобрести го, что уже было открыто.
* (Во Франции столько жителей, сколько она в состоянии произвести зерна, считая по 4 центнера на человека. В стране детей всегда рождается больше, чем их можно прокормить. Общество теряет все, что оно затрачивает на питание детей, умирающих раньше, чем они могут начать работать. Согласен ли читатель с этими суждениями, которые в Родосе показались бы китайской грамотой?)
Нантский собор св. Петра был будто бы выстроен впервые в 555 году св. Феликсом, но то и другое не вполне достоверно. Недавние раскопки установили, что часть церкви опирается на римскую стену, однако в самой церкви я не видел ничего относящегося к более раннему периоду, чем XI век. Хоры были реставрированы в XVIII веке; из этого уже ясно, насколько они нелепы. Свирепый Карье*, возмущенный религиозным сюжетом живописи на куполе, приказал покрыть его слоем масляной краски, которую недавно пытались смыть.
* (Карье (1756-1794) - один из активных деятелей революции, якобинец, известный своими репрессиями в Нанте (нантские потопления).)
Церковный сторож показал мне маленькую часовню, стены которой полностью походят на римские постройки,- они составлены из кубических, хорошо обтесанных камней.
Теперешний неф собора св. Петра был начат около 1434 года; он заменил неф романского стиля, которому грозило разрушение. Однако работы приостановились в конце XV века, что привело к весьма странным последствиям. Готическая часть церкви гораздо более высока, чем клирос, оставшийся в робком романском стиле; поэтому колокольня старой церкви помещается внутри новой. Но это не имеет значения; трудно себе представить что-либо более благородное и величественное, чем этот большой неф, особенно если на него смотреть в сумерках и в одиночестве. Сидя неподвижно на скамье, я чуть было не поддался искушению остаться на ночь запертым в церкви. Революция лишила характерных особенностей нижние части храма, разрушив перекладины оконных рам.
Что больше всего и уже издавна интересовало меня в Нанте, - это гробница последнего герцога Бретонского, Франциска II, и его жены Маргариты де Фуа, находящаяся в боковом приделе собора с южной стороны. Воздвигнутая в 1507 году Мишелем Коломбом, гробница эта является одним из красивейших памятников Ренессанса. Возможно, что она недостаточно высока. Сохранилась лишь одна эта работа великого скульптора, уроженца Сен-Поль-де-Леона.
Статуи герцога и его жены сделаны из белого мрамора и положены на черную мраморную плиту; впечатление получается очень суровое, но это вполне соответствует тому представлению о смерти, которое дается христианской религией. Смерть часто - лишь переход к аду. Вокруг мавзолея стоят четыре большие аллегорические фигуры: Сила душит дракона, которого она вытаскивает из башни; Справедливость держит меч; удила и фонарь возвещают, что перед нами Благоразумие; Мудрость держит в руках зеркало и компас.
Наивная грация и трогательная простота характерны для этих восхитительных статуй; они отличаются особенно тем, что не являются копиями идеального образца, всегда одного и того же и всегда холодного. Этим большим недостатком страдают головы, изваянные Кановой. Гвидо первый решился около 1570 года скопировать головы Ниобеи и ее дочерей. Красота произвела должное впечатление и восхитила все сердца:
в ней увидели олицетворение привычных движений души, особенно ценимых греками. В первую минуту восторга люди не заметили, что все лица, созданные Гвидо, походили одно на другое и что они не выражали тех душевных движений, которые ценились в 1570 году. После этого приятнейшего художника у нас были лишь копии с копий. Нет ничего более холодного, чем эти огромные псевдогреческие головы, которыми заполонили скульптуру. Складки одежд на статуях в Нанте исполнены с редким мастерством. Не знаю почему, во Франции одежда всегда прекрасно удавалась. Читатель, быть может, вспоминает одежды статуй в Бурже на южном портале собора.
Насколько сильнее были бы радости, доставляемые литературой и изящными искусствами, если бы Аполлона, Лаокоона, манускрипты Вергилия и Цицерона открыли только в XVII веке, когда пылкие страсти, привнесенные в цивилизованный мир нашествием варваров, стали угасать.
Четыре статуи Мишеля Коломба прекрасны, и все-таки в них, как и в мадоннах Рафаэля, созданных задолго до новаторства Гвидо, поражает яркая индивидуальность.
Один из моих вчерашних приятелей, который был столь любезен, что согласился быть моим чичероне, дал мне честное слово со всем пылом истого бретонца, что статуя Справедливость воспроизводит черты лица королевы Анны, обожаемой в Бретани; если бы остальные статуи тоже оказались портретными изображениями, я бы этому без труда поверил.
Бесспорно, что в выражении лиц этих статуй таится легкая насмешка, довольно пикантная и прежде всего подлинно французская. Вот каким образом Мишель Коломб добился такого впечатления: глаза приподняты к внешнему углу, и нижнее веко слегка выпукло, как у китайцев.
Это еще не все: весь мавзолей уставлен множеством небольших статуй из белого мрамора, изображающих двенадцать апостолов, Карла Великого, Людовика Святого и т. д. Большинство этих статуэток прелестно по своей правдивости и наивности поз. Можно одной фразой охарактеризовать их достоинства: они полная противоположность современным статуям. Напыщенность является до сих пор характерной чертой XIX века.
Я обратил также внимание на маленьких плакальщиц, головы которых частично скрыты под капюшоном. Руки и головы из белого мрамора, одежды - из сероватого.
Последние дни моего пребывания в Нанте я каждый вечер, когда позволяли дела, неизменно проводил полчаса перед этим чудесным памятником. Кроме его бесспорной красоты, он для скульптуры, по-моему, представляет почти то же, что Клеман Маро и Монтень для мысли, запечатленной на бумаге. (Следует приберечь довод для опровержения критики, которая не преминет указать мне, что Монтень то и дело цитирует античных авторов; но я сейчас говорю о том подлинно французском и индивидуальном, что мы находим в мыслях и стиле Монтеня.)
Вчера вечером, грезя перед статуями Мишеля Коломба, я забавлялся тем, что мысленно представлял себе, чем бы мы были, если бы никогда не имели ни такого живописца, как Шарль Лебрен, ни такого литературного вождя, как Лагарп.
Всех этих посредственностей - а они боги заурядных людей - могло бы у нас и не быть, если бы мы познакомились с Вергилием, Тацитом, Цицероном и Аполлоном Бельведерским лишь в 1700 году. У нас не было бы тогда памятника Людовику XIV около Порт-Сен-Мартена, обнаженного, в парике, держащего палицу Геркулеса в своей длани; не было бы даже памятника Людовику XIV на площади Победы верхом на лошади, с обнаженными ногами и в парике; не было бы всех злых трагедий Вольтера и его подражателей, тех трагедий, которые притязают - вещь невероятная - на то, чтобы являться подражаниями греческой драматургии, зачастую несколько тусклой из-за стремления к простоте. Наша драматургия походила бы на драматургию Лопе де Вега и Аларкона*, имевших смелость изображать души испанцев. Их хорошие и дурные пьесы называют романтическими, потому что они стремятся непосредственно нравиться своим современникам, вовсе не думая подражать тому, что когда-то одобрялось народом, столь отличным от народа, среди которого они сами живут**.
* (Аларкон (1581-1639) - испанский драматург.)
** (См. "Расин и Шекспир", брошюру 1824 года. Слово романтизм с тех пор перестали употреблять, но самый вопрос не продвинулся ни на шаг вперед, и это не вина романтизма, если до сих пор не появилось произведения, достойного "Сида" или "Андромахи". В каждой цивилизации бывает лишь одно мгновение ее жизни, когда могут появляться шедевры, а мы только вступаем в новую эру цивилизации. Я считаю, что есть только одно исключение из сказанного: это "Калигула", трагедия Александра Дюма, которая знакомит нас с этим безумным венценосцем и с теми безумцами, которые его терпели.)
Один нантский священник, человек с сильным характером, возымел смелую мысль закончить постройку собора; скоро начнут разрушать романский клирос и возводить новый, рабски подражая архитектуре нефа.
Я одобряю смелость этого начинания; зачем, однако, всегда подражать тому, что нравилось в былые времена умершей и погребенной цивилизации? Мы столь бедны силой воли, столь робки, что даже не решаемся задать себе такой простой вопрос: но что же нравится лично мне?
За табльдотом нашей гостиницы, столь гордой своей широкой каменной лестницей и прекрасной архитектурой в стиле Людовика XV, умираешь с голоду. Здесь встречаешь англичан, которые держат себя за столом с отталкивающей грубостью. Но я отыскал очень недурной ресторан напротив театра. Хозяйка, молодая, привлекательная женщина, простая и любезная, дает советы относительно меню обеда. Она рассказала мне, что большая гостиница, в которой я остановился, была построена на капитал, состоявший из акций, превращенных в пожизненную ренту; это случилось двадцать лет тому назад, однако находящиеся в живых акционеры получают до сих пор не более пяти процентов дохода.
Мне очень нравится большое кафе рядом с восемью высокими уродливыми колоннами, украшающими фасад театра. Это центр веселящегося цивилизованного общества и местной молодежи, наподобие кафе в Италии. Предвижу, что смогу здесь получать прекрасные бретонские сливки. Я затягиваю завтрак, читая газету; разговоры и смех за соседними столиками, уже гораздо менее чопорные, чем в Париже, приводят меня в веселое настроение.
Я был бы несправедлив к молодым людям из высшего общества Нанта, если бы не поспешил добавить, что эти господа задирают голову со всей подобающей им надменностью и что эту голову украшает слишком широкий пробор; но они, следуя хорошему тону, не посещают кафе. "До 1789 года,- сказал мне граф де Т.,- молодой человек из аристократической семьи ни за что на свете не появился бы в кафе". Что может быть тоскливее в наши дни, чем завтрак дома с дедушкой и бабушкой, за столом, окруженным слугами, которым отдаются приказания и которых тут же бранят? Что до меня, то я никогда не скучаю в кафе; однако там можешь встретиться с неожиданностью и не чувствуешь себя полновластным хозяином.
Сегодня в шесть часов утра, когда я отправлялся на пароход, идущий в Пембеф и Сен-Назер, двери кафе, в котором я рассчитывал позавтракать, оказались плотно закрытыми.
Посадка была очень веселой: пароход пришвартовался у подножия того ряда старых вязов, который придает столь характерную прелесть нантской набережной. Среди пассажиров было семь или восемь священников в полном облачении - сутане и воротничках; но здесь, более уверенные в общем уважении к ним, они менее чопорны, чем в Париже. В Нанте вы не услышите шуток в вольтеровском стиле. Да и кто здесь читает Вольтера? Аббаты, которые повстречались мне сегодня утром, с большой свободой говорили о преимуществах и невыгодах своего положения с точки зрения жизненных удобств.
Берега Луары в окрестностях Нанта приятны для глаз; долго не теряешь из виду возвышенности, на которой построена часть города. Эта возвышенность, покрытая деревьями, тянется по прямой линии, постепенно удаляясь от реки. Окрестности усеяны загородными домами. Один из них, недавно построенный на холме, на южном берегу Луары, каким-то богатым человеком, приехавшим из Парижа, резко отличается от всего окружающего. По всей вероятности, это копия какого-нибудь дома на берегах Бренты: расположение окон напоминает Палладио.
Общий вид арсенала на острове Эндрэ, где морское ведомство возводит сейчас большие постройки, говорит о полезности, но красоты там нет и следа. Проезжая, замечаешь большие склады продолговатой формы, довольно низкие, крытые черепицей, и много пароходов на верфях; видишь, как, кружась, тянутся ввысь огромные клубы черного дыма. Здесь работает весьма достойный человек, г-н Женжамбр; по всей вероятности, у него, как и у г-на Амороса в Париже, неприятностей хоть отбавляй.
В общем, эта экскурсия по Луаре не может выдержать никакого сравнения с чудесной поездкой из Руана в Гавр. Когда мы отплывали из Нанта, дул приятный ветерок; в нескольких лье от Пембефа значительно посвежело, небо покрылось тучами, стало холодно, и все неприятности поездки по воде дали себя знать. Около Пембефа море было неспокойным и очень грязным. Чтобы взглянуть на открытое море, я продолжил свой путь до Сен-Назера.
Здесь, однако, я не проявил особенного мужества. Было холодно, моросил дождь, дул сильный ветер. Не успели мы бросить якорь, как из-за новой плотины, примыкающей к бедной деревушке с остроконечной колокольней, появилось и стало приближаться к нам множество лодочек, бесстрашно подпрыгивавших на гребне волн. Пена водяных валов ежеминутно разбивалась о борт лодок и заливала их. Я представил себе, что в Сен-Назере мне придется из-за дождя коротать время в каком-нибудь маленьком унылом кафе, пахнущем сыростью и выкуренными накануне трубками. Невозможно будет погулять там даже под зонтиком. Такому рассуждению нельзя отказать в справедливости, но беда в том, что оно немного смахивало на страх,- сначала я этого не заметил. Я ответил капитану, предлагавшему мне лучшую лодку, что не собираюсь сойти на берег. Уважение ко мне быстро уменьшилось, особенно если учесть, что в дороге я задавал капитану ряд серьезных вопросов, из чего он заключил, что я человек с весом.
Несколько женщин, умиравших со страху, все же решились одна за другой сесть в лодки, так что в конце концов я остался на пароходе один со старым кюре и его экономкой. Кюре до того испугался, что даже рассвирепел, когда капитан попытался ему доказать, что нет никакой опасности сесть в лодку, чтобы добраться до берега. Признаюсь, мою роль во время этого диалога нельзя было назвать блестящей. Я провел целый час на палубе, глядя на открытое море в бинокль, озябший, с большим трудом удерживая в руках раскрытый зонтик, который я старался прислонить к снастям. Пароход сильно качало; время от времени канат, которым он был прикреплен, натягивался до отказа. Море, низкие берега и тучи - все было серо и печально. Когда мне надоедало смотреть, я читал томик in-32 - "Государя" Макьявелли.
Наконец пассажиры вернулись на борт. Молодой викарий испуганного кюре одним из первых прыгнул в лодку, чтобы высадиться в Сен-Назере, ибо не сомневался, что его патрон последует за ним. Нужно было видеть его лицо при возвращении; лодка, на которой он подъезжал, была еще в сорока шагах от парохода, когда он стал уже делать извиняющиеся жесты и вместе с тем самым забавным образом выражать свое изумление. Он хотел дать понять, что был удивлен, не увидев на берегу своего кюре, и что сел в лодку только потому, что был твердо уверен, что кюре следует за ним. В ту минуту, когда молодой викарий исчерпал все средства для выражения своих чувств, волна, разбившаяся о лодку, залила водой треуголку, которую он держал в руке. Я приблизился, чтобы присутствовать при встрече. Старый кюре был красен, как рак. Он воскликнул в тот момент, когда викарий собирался заговорить: "Конечно, я и не думал пугаться" и т. д. Эти слова определили характер всего последующего диалога: теперь уже извинялся кюре; лицо викария тотчас же прояснилось.
Следующая остановка была в Пембефе. Пароход остановился на несколько минут, я сошел на берег и пробежался по городу; с огромным трудом я удерживал зонтик от порывов ветра. Этот город состоит из миниатюрных домиков, очень низких и очень чистеньких, иногда даже одноэтажных: можно подумать, что вы в одном из городков на Темзе по дороге из Рамсгета в Лондон.
Я вернулся на пароход изрядно промокшим и утешился кофе. Через час погода прояснилась, облака окрасились в чудесный красноватый цвет, и вечер нашего возвращения в Нант был великолепен. Загородные домики показались мне более красивыми, чем утром. Среди крестьянок, ехавших во втором классе, я заметил одну в национальном костюме. Одежда крестьян синего цвета, у них широкие штаны, а длинные волосы острижены в кружок под самым ухом, что придает им набожный вид.
Один уже весьма пожилой господин, севший в Пембефе и очень занимательно говоривший о Вандее, рассказал мне, что 29 июня 1793 года пятьдесят тысяч вандейцев под начальством Кателино, которого, чтобы примирить соперничавших между собой настоящих генералов, они избрали своим главнокомандующим, атаковали Нант, где войсками командовали Канкло и Бессер. Атака была произведена с правого берега Луары, сражение началось сразу в девяти пунктах, и обе стороны проявили чудеса храбрости. Б конце концов республиканская артиллерия, которую вандейские канониры, простые крестьяне, не в состоянии были снять, произвела огромные опустошения среди этих славных людей; повсюду отброшенные, они отступили, унося с собой своего смертельно раненного главнокомандующего Кателино. При этом штурме нантская национальная гвардия выказала большую твердость. Гражданская война длилась еще довольно долго в этих краях и окончилась лишь 29 марта 1795 года, в день, когда в Нанте был расстрелян Шарет*. Здесь были странные случаи предательства, но об этом я не намерен рассказывать, тем более что узнал о них только три дня тому назад.
* (Шарет - один из вождей вандейцев, участвовавший в операции Кателино под Нантом. Попав в плен, он был приговорен к смерти и 29 марта 1796 года (а не 1795 года, как пишет Стендаль) расстрелян.)
Я слушал этот рассказ с тем большим интересом, что, как можно было заключить из целого ряда подробностей, мой собеседник являлся живым свидетелем описываемых им событий. Я не скрыл от него, что один из вожаков Конвента, часто посещавший моего отца, неоднократно говорил нам, что Вандея дважды, в разное время,- причем он точно указывал даты,- могла бы пойти на Париж и уничтожить республику. Вандейцам недоставало лишь французского принца, который открыто возглавил бы их, подобно тому, как это сделала впоследствии герцогиня Беррийская.
Нант, 28 июня.
Вчера около четырех часов вечера, в чудесную погоду, когда пароход, быстро поднимаясь по Луаре, проходил мимо загородных домов, длинных рядов ив и однообразных акаций, во множестве посаженных поблизости от реки, машину остановили, чтобы принять на борт пассажиров с маленькой лодки. Первым появился на палубе священник в воротничке, затем две пожилые женщины, а четвертой была молодая девушка лет двадцати в зеленой шляпке.
Я просто остолбенел и не мог от нее оторвать глаз, - это была, бесспорно, одна из красивейших головок, когда-либо виденных мною в жизни. Если она и походила на какой-нибудь уже известный образец красоты, то скорее всего на самую трогательную из тех Добродетелей, которыми Мишель Коломб украсил гробницу герцога Франциска в Нантском соборе.
Я бросил свою сигару в реку, и в этом жесте была, по всей вероятности, такая подчеркнутая почтительность, что обе пожилые женщины изумленно на меня посмотрели. Это призвало меня к осторожности, и я постарался занять такое положение, чтобы можно было любоваться добродетелью Мишеля Коломба, не привлекая к себе злобных взглядов пошлых людей. Все время, пока девушка находилась на пароходе, мое восхищение все возрастало. Ее естественность и благородная непринужденность, несомненно, обусловленные силой характера, а не привычным высоким общественным положением, ее достойная уверенность в себе были выше всяких похвал.
Лицо ее ничем не походило на лица жеманничающих аристократических девиц Сен-Жерменского предместья, у которых голова ни минуты не сохраняет вертикального положения. Еще меньше напоминало оно красоту греческих статуй. Черты лица этой прекрасной бретонки в зеленой шляпе были подлинно французскими. Какое божественное очарование! Не быть ничьей копией! Производить особенное, совсем новое впечатление! Мое восхищение ею было безграничным; я буквально сходил с ума. Два часа, проведенные с девушкой на пароходе, показались мне десятью минутами.
С трудом я смог дать себе отчет в том, что мое восхищение основано на новизне. Я испытывал лишь живейший восторг и глубочайшее изумление до той минуты, когда девушка в сопровождении двух пожилых женщин и священника высадилась в Нанте.
Напрасно подсказывал мне разум, что следовало бы заговорить о чем-нибудь со священником и что вслед за тем я смог бы вступить в беседу и с дамами, - у меня не хватило на это смелости. Мне пришлось бы отвлечься от сладостного восторга, переполнявшего сердце, чтобы подумать о светских благоглупостях, с которыми приличествовало обратиться к священнику.
Признаюсь, что в момент высадки мне пришлось сделать над собой усилие и не последовать издали за этими дамами, хотя бы для того, чтобы еще несколько лишних минут видеть зеленые ленты на шляпке. За два часа я не нашел ни одного недостатка ни в ее лице, исполненном небесной красоты, ни в ее разговоре, который я прекрасно слышал. Она большую часть времени утешала старшую из двух дам, сын или племянник которой провалился на выборах (возможно, в муниципальный совет).
"Быть может, ему пришлось бы совершить по роду своих обязанностей такие поступки, которые оскорбили бы взгляды кого-нибудь из его друзей!" - говорила очаровательная карлистка, ибо в Бретани такой цвет шляпы не оставляет никаких сомнений. Впрочем, я догадался об этом много позднее. Редкий здравый смысл, и, однако, ни одного слова, ни одной мысли, которые не были бы преисполнены женственности. Вот идеальная женщина, какую так редко можно встретить во Франции! Моя незнакомка была довольно высокого роста и прекрасно сложена, хотя, быть может, со временем она немного располнеет.
Я полагал - и, пожалуй, не без основания,- что ее душевные качества заметно отличаются от тех, которые обычно свойственны женщинам, славящимся своей красотой. Ее чувства, хотя и сильные, не проявлялись резче, чем это позволяла женская сдержанность, и ни в чем не замечалось усилия сдерживать себя. Самая безупречная естественность сквозила во всех ее словах. Надо было всмотреться, чтобы понять силу ее чувств. Даже достаточно проницательный человек прекрасно мог бы это проглядеть.
Я определенно видел, что девушка в зеленой шляпке заметила мое исключительное к ней внимание, которое я старался скрыть, насколько это было в моих силах, и это послужило главной причиной, заставившей меня отказаться - не знаю, был ли я прав,- от мысли пойти вслед за этими дамами. Рано или поздно, все равно, пришлось бы расстаться с ней, и к тому же не снискав ее уважения.
Черты лица Венеры Милосской выражают благородное и серьезное спокойствие, которое хотя и свидетельствует о возвышенной душе, но может прекрасно уживаться с отсутствием тонкого ума. В этом ее отличие от моей спутницы. Заметно было, что ирония ей не чужда, и это, мне кажется, и навело меня на мысль о ее сходстве с одной из статуй Мишеля Коломба. Такая способность видеть смешное, которой лишены все героини романов,- не придает ли она особую ценность движениям благородной души, насколько они могут проявиться в обыденной беседе? В этом лице не было и следа глупости или хотя бы несообразительности, в чем зачастую можно было бы упрекнуть лица греческих красавиц. По моему мнению, именно этот упрек могли бы сделать греческой скульптуре последующие века. На это греческое искусство, правда, могло бы возразить, что оно стремилось нравиться грекам времен Перикла, а не французам, прочитавшим романы Кребильона. Но я, совершающий прогулку на пароходе по Луаре, я-то читал эти романы, и с превеликим удовольствием.
После этой минутной встречи и иллюзий, которыми, помимо моей воли, ее приукрасило мое воображение, ничто уже не могло показаться мне в Нанте пошлым или ничтожным.
Подвожу итог наблюдениям длинного вечера: все, что в Париже является избитой истиной, служит украшением провинциальной беседы, которая к тому же полна преувеличений. У знаменитого парижского актера пятеро детей - провинциал приписывает ему восьмерых, да еще очень гордится своей осведомленностью. Если министр отложил из своего оклада полмиллиона франков, провинциал скажет - два миллиона. В этом я убедился сегодня вечером, слушая разговоры, вызванные спектаклем. В Нанте шла премьера комедии "Кумовство". Я был в ложе со знакомыми. Сильнейшее изумление провинциалов. Что такое? Осмеливаются так говорить о Палате депутатов? О той Палате, которая до 1830 года распределяла все мелкие должности с окладом в тысячу франков и варварским образом отнимала их у людей, прослуживших двадцать лет, если они не имели права голоса! После изумления, длившегося добрую минуту, начали безумно аплодировать наивнейшим эпиграммам г-на Скриба. Не смея признаться себе в этом, бедные провинциалы устали от пьес, которые они с таким пылом расхваливают,- от пьес, скроенных по старому образцу в стиле Детуша* и "Домашнего тирана"**. Они уже ценят - но еще не хвалят - единственного человека этого столетия, имевшего смелость изобразить, хотя бы только несколькими штрихами, нравы, встречаемые им в обществе, а не только подражать Детушу и Мариво. Сегодня вечером упрекали "Кумовство" за то, что выборы в этой пьесе происходят в течение одних суток; это значит обвинять автора в том, что он не пожелал навлечь на себя десяток неприятностей, из которых первая же могла иметь решающее последствие: полиция запретила бы пьесу. Бесспорно, она не допустила бы точного изображения на сцене всей механики выборов до 1830 года. (Подумайте о выборах в вашем департаменте; они вам, быть может, знакомы.)
* (Детуш (1680-1754) и Мариво (1688-1763) - французские комедиографы.)
** ("Домашний тиран" - комедия Дюваля (1805).)
Во времена Мольера буржуа не боялись насмешки. Людовик XIV хотел, чтобы никто не смел рассуждать без его разрешения, и Мольер был ему в этом отношении полезен. Он внушил робость буржуа; но с тех пор как они стали преувеличивать силу насмешки, комедия лишилась свободы. Лавочники, кажется, при Людовике XVIII, собирались побить Брюна*, и в пассаже "Панорама" должен был вступить в бой отряд кавалерии. Мы сильно отстали: при Людовике XIV разрешалось гораздо больше. Одно соображение подтвердит мою мысль: разве не правда, что точное и даже, если угодно, сатирическое изображение плутней и обмана, которыми сопровождались выборы до 1830 года, задевало меньшее количество людей, чем поступки и слова Тартюфа, разоблачавшие и препятствовавшие темным делишкам целой клики во времена Людовика XIV, клики многочисленной, в которую входили герцогини и привратницы? "Тартюф" был столь опасен и столь метко бил по способам обогащения людей этой клики, что знаменитый Бурдалу был разгневан, а Лабрюиер, чтобы заслужить одобрение своего покровителя Боссюэ, вынужден был осудить Мольера, хотя бы с литературной точки зрения.
* (Брюна (1766-1851) - французский комический актер.)
В наши дни в обществе существует лишь один голос, способный высмеять мошеннические проделки при выборах до 1830 года. Но для того, чтобы показать это ярко на сцене, г-н Скриб далеко не располагает той свободой, с какою Мольер мог осмеивать ханжей.
Отсюда весьма поразительный вывод, который очень удивил бы Даламбера и Дидро: нужен деспот для того, чтобы комедия была свободна, точно так же, как нужен двор для того, чтобы могли появиться очень яркие, сильно комические типы. Другими словами, с того времени, как каждое сословие не имеет больше образца, указанного королем* и принятого всеми для подражания, нельзя уже показывать публике людей, которые забавно впадают в ошибки, воображая, что поступают в соответствии с хорошим тоном. Все, следовательно, ополчаются против несчастного смеха; даже полукрестьяне, и те шумят, возмущаясь неправдоподобием. Выборы, проведенные за двенадцать часов! Да еще с помощью газеты! Эх, господа, для газеты с восемью тысячами подписчиков требуется всего полгода, чтобы создать великого человека!
* (В этом смысле можно считать Мольера правительственным писателем, поэтому, когда он умирал, у него было 60 тысяч франков ежегодного дохода.)
Вот что, слово в слово, сказал мне вчера вечером старый республиканский офицер, раненный в битве при Мансе и ставший ныне торговцем скобяным товаром:
- Толпа сама по себе способна понимать лишь низменное. Она начинает догадываться, что человек действительно велик, лишь убедившись, что в течение одного или двух веков у него не нашлось преемника. Так случилось с Мольером. Все те тщетные усилия, которые делались в Испании в течение 1836 и 1837 годов*, наводят на мысль мелкого буржуа, что Карно и Дантон все же чего-то стоили, хотя и не были титулованными особами.
* (Тщетные усилия... в Испании в течение 1836 и 1837 годов...- Когда Стендаль писал эти строки, Испания была накануне войны между прогрессистами (буржуазными либералами), требовавшими введения новой, более либеральной конституции, и консерваторами. Кроме того, в стране шла гражданская война между "кристиносами" (сторонниками регентши Кристины) и "карлистами" (сторонниками Карла VII, то есть представителями монархической и католической реакции).)
Я отвечал ему:
- Энергия, порожденная подвигами, стоившими вам руки, встречается теперь только при ежегодной ренте, не превышающей полутора тысяч франков. Люди более богатые еще и теперь чувствуют отвращение ко всему, что требует силы, однако Гражданский кодекс быстро добирается до всех миллионеров; он мельчит состояния и заставляет всех что-нибудь собой представлять и уважать энергию.
Третьего дня мне пришлось обедать с человеком геркулесовского сложения, богатым землевладельцем из окрестностей Нового Орлеана. Этот господин, совсем как простак, охотится на певчих дроздов и сносит им голову пулей, чтобы не портить дичи, как он говорит. Я не поверил ни одному его слову, так как имею смелость считать себя хорошим стрелком. Американец это заметил, и на следующее утро мы вышли вместе. Он застрелил семь не то воробьев, не то зябликов, и без промаха. Он снес головы двум дроздам, но, так как пули летят далеко и приходилось принимать серьезные меры предосторожности, мы пожалели, что не находимся в лесах Нового Света, и мой новый приятель оставил свой карабин. Ствол у него очень длинный, а пули очень мелкого калибра; заряжается он довольно быстро. С помощью ружья и дроби американец истребил всех болотных куликов, которые нам попадались. Я не видел, чтобы он хоть раз промахнулся.
Господину Джем... было семнадцать лет в 1814 году, во время знаменитой битвы при Новом Орлеане, когда пять тысяч национальных гвардейцев обратили в бегство десятитысячную английскую армию, лучших солдат на свете, которые еще недавно сражались в течение нескольких лет против французских солдат Наполеона.
- Мы сражались рассыпанной цепью,- сказал г-н Дж...,- и меньше чем через час все английские офицеры были перебиты. Англичане, эти великие педанты, заявляли, что такого рода война безнравственна. Дело в том, что им ни разу не приходилось сменить своих часовых, так как их всех убивали на посту. Но наши люди, чтобы добраться до часовых, должны были ползти на четвереньках по грязи, и англичане, не ограничиваясь упреком в безнравственности, называли нас еще грязными рубашками.
В день сражения только один человек из английской армии (полковник Ренье, уроженец Франции) смог добраться до вражеских окопов. Он обернулся, чтобы позвать своих солдат, и упал замертво. Вечером, после того как битва была выиграна, двое из наших национальных гвардейцев оспаривали друг у друга честь смертельного удара храброму воину.
- Черт побери! - воскликнул Ламбер.- Есть очень простой способ выяснить этот вопрос! Я целился в сердце.
- А я - в глаз,- сказал Нибле.
Пошли на поле боя с двумя фонарями: у полковника Ренье были прострелены сердце и глаз.
Большое мужество проявил генерал Джексон, приказавший под свою ответственность расстрелять двух англичан, оправданных военным судом. Говорили, что эти люди под предлогом торговли пушниной вели дикарей в бой против американцев. На следующий день все англичане покинули дикарей, которые уже не решаются показаться перед американскими войсками.
В день битвы при Новом Орлеане* генерал Джексон решился передать командование всей своей артиллерией храброму Лафиту, французскому пирату, который со своими пятьюстами флибустьерами захотел сражаться, мстя за страдания, перенесенные им в английских плавучих тюрьмах. За голову Лафита американское правительство обещало награду. Если бы он предал Джексона, тому оставалось бы только пустить себе пулю в лоб. Генерал откровенно сказал об этом Лафиту, передавая ему свою артиллерию.
* ("В день битвы при Новом Орлеане".- Новый Орлеан, уступленный в 1803 году Францией Соединенным Штатам, подвергся в 1814 году нападению со стороны англичан, пытавшихся захватить этот важный стратегический и торговый пункт в свои руки. Американские войска под командованием генерала Джексона отразили это нападение.)
Мой товарищ по охоте сообщил мне еще много других подробностей, которые я выслушал с большим интересом. Я опишу их славному Р., моему другу, уроженцу Лозанны. Такими длинными карабинами должна будет защищаться Швейцария, если на нее нападет армия, подобная армии Ксеркса. Но где найти в Швейцарии человека, который умел бы хотеть? Есть ли еще в Европе человек, подобный Джексону? Найдутся, конечно, Робер-Макеры, очень храбрые и красноречивые люди. Но в трудных обстоятельствах человека, лишенного совести, неожиданно покидает сила- это плохая лошадь, которая падает на льду и не хочет больше подняться.
Нант, 30 июня 1837 г.
Я уже обратил внимание на музей, который помещается в новом здании, расположенном неподалеку от правого берега Эрдра, но боялся туда войти: пришлось бы пожертвовать днем, и, быть может, зря. В нижнем этаже помещаются какие-то торговые ряды.
Прекрасная погода, вчера столь благоприятствовавшая охоте, за ночь испортилась. Небо свинцового цвета, все кажется тяжелым и тусклым, и я почти уподобляюсь авраншскому епископу. Настроение мало подходящее для осмотра картин.
Мы пересекаем бульвар, который мне так нравится,- прелестное место, спокойное и уединенное. Бульвар этот расположен посреди города, в двух шагах от театра, и все же здесь находят убежище сотни птиц. Красивые дома с симметричными фасадами. Прекрасное насаждение молодых вязов, которые чудесно разрастаются; здесь имеется все, что благоприятствует растительности: тепло и влажность.
Музей помещается в красивом новом здании на маленькой рыночной площади. Если бы я хуже знал провинцию, я бы мог предположить, что при постройке этих семи больших, довольно высоких залов имелось в виду их теперешнее назначение. Но можно ли допустить мысль, что господа градоправители истратили поступления от городских налогов на такую совершенно бесполезную пустяковину, как картинная галерея? Гораздо более правдоподобно, что здание было предназначено под склад зерна.
Провинциалы завидуют Парижу и клевещут на него. "С нами обращаются, как с париями!" - восклицают они. Но они постоянно подражают этому городу, возбуждающему в них зависть. Несколько лет тому назад парижские администраторы отказались от старинного мудрого обычая - накопления в складах огромного количества зерна, чтобы быть "во всеоружии", как говорили раньше, в случае неурожая. Но наконец после того, как об этом писали уже сорок лет, администрация заметила, что это прекрасное изобретение приводит к результатам, как раз противоположным тем, каких от него ожидают. Она сделала это открытие, когда июльская революция посадила на административные посты людей, прежде писавших по вопросам политической экономии.
Пришлось отказаться в Париже от запасов зерна, собранного здесь из наилучших побуждений. Амбары, к постройке которых приступили во времена Империи и предусмотрительно расположенные между предместьями Сент-Антуан и Сен-Марсо, остались недостроенными.
Во время эпидемии холеры мы превратили наши амбары для зерна в госпиталь; в Нанте их, как видно, отдали под музей. Если бы с самого начала предполагали строить музей, разве не сделали бы вместо каменных плит деревянных полов? Весьма возможно, что я ошибаюсь, но мне не хотелось задавать вопросов, ибо я боялся услышать в ответ какую-нибудь патриотическую ложь. Если тип постройки, ее внешний вид и привели меня к ошибочному выводу, это не имеет значения.
Я обхожу залы; они обширны и светлы, легко найти подходящее для каждой картины освещение; хорошие картины можно было бы здесь прекрасно рассмотреть, если бы только они имелись. Но первое впечатление малоблагоприятно: я вижу одну лишь мазню или же копии. Не следовало, однако, падать духом.
После внимательного осмотра я обнаружил следующее:
1. Прекрасную голову Христа в терновом венце, приписываемую Себастьяно дель Пьомбо. Весьма возможно, что это оригинал. Картина правдива, выразительна, краски и рисунок безупречны. Манера письма величественная (противоположность картинам Миньяра, Жувене и Жироде). Но я как будто припоминаю, что видел ту же самую голову в галерее Корсини во Флоренции. Маловероятно, чтобы здесь был оригинал, а у князя Корсини - копия. Следовало бы потратить час на осмотр этой картины при хорошем освещении.
Себастьяно, которому один папа, покровитель искусств, поручил накладывать свинцовые печати на некоторые буллы, ныне приносит большой доход торговцам картинами Рима, Флоренции, Венеции и т. д. Этот живописец - прекрасный колорист. Микеланджело снабжал его рисунками, чтобы насолить Рафаэлю и его школе. Манера письма этого художника выразительна и величава; его ценят знатоки, он производит сильное впечатление даже на людей, которые больше занимаются денежными делами и удовлетворением своего честолюбия, чем изящными искусствами. Торговцы картинами, составляющие себе состояние на тщеславии путешественников, заваливают русских князей и богатых англичан картинами Себастьяно дель Пьомбо. Эти господа покупают за пятьдесят или сто луидоров весьма приличную копию, которая в Москве оказывается подлинником. Нужно нанести сильный удар, чтобы поразить сердце северян. Предпочитают же северяне немецкую шумиху нежным кантиленам Matrimonio sej-reto*, которые кажутся им слишком простыми.
* (Тайный брак (итал.).)
2. Портрет Венецианца с рыжей бородой, приписываемый Джорджоне. Это лучшая из законченных картин музея; и все же она написана не Джорджоне.
3. "Крестный путь Христа", приписываемый Леонардо да Винчи. Поясные фигуры поражают необычайной правдивостью. Голова Христа полна величия. Общий тон очень темный. Картина не закончена. Можно было бы сказать, что живописец пользовался только лессировкой. Следовало бы рассмотреть эту картину вблизи. Не исключена возможность, что это оригинал, но все же это сомнительно. Если это оригинал, то ему нет цены.
4. Каталог указывает, что маловыразительная и белесая голова, написанная жестко и все же лишенная энергии, принадлежит кисти Тинторетто и, больше того, что это портрет фра Паоло Сарпи, то есть величайшего представителя практической философии нового времени*.
* (Смотри замечательную историю его жизни, написанную монахом, его товарищем, занявшим после Сарпи место теолога Венецианской республики.)
5. Две картины Каналетто: Пьяцца Навона в Риме (до сих пор я встречал лишь виды Венеции кисти этого живописца) и церковь в Салюцо; великолепное освещение, большая точность, но всегда одна и та же картина!
6. Портрет женщины в черном - лицо, полное мысли, выразительности, правдивости,- приписывается Филиппу де Шампань. Но разве костюм ее не значительно более поздней эпохи?
7. Прелестная голова какой-то святой, приписываемая Аннибале Карраччи. Изящная картина болонской школы, возможно, кисти Елизаветы Сирани, ученицы Гвидо. Я видал нечто похожее в галерее Росси в Болонье.
8. Умирающий святой со сложенными накрест руками. Это уродливо, правдиво, немного резко, в общем, напоминает Гверчино, следовательно, испанской школы.
Так как я, не стесняясь, громко выражал свое мнение, беседуя с моим новым приятелем-вандейцем и его женой, к нам запросто обратился совершенно седой, сухопарый и жеманный господин. Этот субъект показался мне занятным. Он не лишен ни здравого смысла, ни понимания живописи, ни даже известного упорства. Он принимает меня за знатока, и вот у нас завязалась беседа, продолжавшаяся два с лишним часа.
Я узнаю, что "его" музей - один из "наиболее заслуживающих внимания" во Франции: одну картину расхвалил директор Дрезденской галереи, другую - директор Берлинского музея и г-н Э., известный ученый, серьезный молодой человек, "который не бросает слов на ветер", хорошо продумывает всякий вопрос и высказывает свое мнение только после зрелого размышления. (Последнее было, вероятно, колкостью по моему адресу. Так как вандеец мне нравится, то мы с ним много болтали и переговаривались друг с другом с разных концов зала.) "У нас здесь,- продолжал жеманный человек,- около сорока картин из бывшего музея Наполеона; кроме того, при продаже имущества г-на Како, уроженца Нанта и бывшего посла в Риме, город приобрел большое количество картин из его великолепной коллекции".
9. "Взгляните на эту голову рыцаря-крестоносца кисти знаменитого Кановы! Как она вам нравится?" Я нахожу, что она ниже среднего, написана вяло, пошло, невыразительно - настоящая живопись юной девицы. Черты лица красивы, краска напоминают о том, что Канова родился в Венеции, а не во Флоренции, но, в общем, во всем полотне только и есть хорошего, что имя великого скульптора, написанное внизу картины. Она из галереи Како, на ней следующая надпись:
Offerto all Illustrissimo ed Ornatissirno sig. Cacault, Ambasciatore di Francia in Rorna, dal suo umilissirno servo ed amico Canova* (собственноручная подпись).
* (В дар славнейшему и высокочтимому г-ну Како, французскому послу в Риме, от его смиреннейшего раба и друга Кановы (итал.).)
Канова, которому на старости лет надоело восхищение, расточаемое всей Европой (за исключением Франции) его статуям, возымел безумную мысль стать живописцем; и, так как в Риме такой талантливый человек, как Канова, недосягаем для насмешек, великий художник не стал скрывать своей слабости.
10. "Вот оригинальная картина Рафаэля!" - воскликнул сухопарый человек. Я увидел всем известную Мадонну, двадцать раз изображавшуюся на гравюрах. Перед нами отвратительная копия, мазня первого сорта. "Как,- спросил я его,- вы полагаете, что это оригинал?" "Конечно,- ответил мой собеседник с удвоенной важностью,- таково мнение всех знатоков".
11. "Вот вам превосходная копия "Богоматери в скалах" Леонардо да Винчи,- продолжал сухопарый господин.- Она приятнее для глаз, чем закопченный оригинал в Лувре". "Знайте же, милостивый государь, что в Лувре нет ничего закопченного; мы соскоблили все картины до слоя красок и умеем хорошо их облакировать".
Должен признаться, что мне бы очень хотелось иметь картинную галерею из таких очаровательных копий: они напоминали бы мне некоторые оригиналы, к которым я отношусь с нежностью и которые мне недоступны,- в этом их единственный недостаток, а не в том, что они закопчены. Сквозь разрушительное действие времени любящий искусство глаз видит картины такими, какими они вышли из мастерской великого художника.
12. Еще копия - с другой картины Леонардо: "Неверие св. Фомы". Оригинал находится в Милане, в Амброзиане. Эта копия менее удачна, чем предыдущая, но все же очень недурна.
13. "Святое семейство" Отто Вениуса (жил около 1540 года). Это оригинал, и получен он из музея Наполеона; картина написана суховато, но наивно и правдиво. Этот немец знал Рафаэля или его учеников. Не могу поверить, чтобы он сам дошел до этой манеры письма.
14. "Извержение Везувия" какого-то итальянца XVIII века.
Написана картина как театральная декорация, поэтому она эффектна - средство, к которому прибегают неучи: впечатление, как от мелодрамы.
15. "Елизавета, королева английская" - прекрасный портрет фламандской школы. Выражение лица хитрое, язвительное, злое, поджатые губы, заостренный нос. Незамужняя женщина, кричащая о своей добродетели. Ее манера играть своей золотой цепочкой прекрасно передана. Мне бы очень хотелось, чтобы этот портрет действительно походил на оригинал. Он прекрасно изображает эту королеву, которая била своих министров, если они ей противоречили. Но что значат ее слабости? Она умела царствовать.
16. Портрет некрасивой женщины, "чрезвычайно расхваленный г-ном Э.,- сказал наш собеседник.- Это картина испанского художника, возможно, Мурильо". Г-н Э., по всей вероятности, хотел сказать что-нибудь приятное этому славному человеку, и так как во Франции привыкли к уродливым линиям, к фальши в красках, к абсурдности или отсутствию светотени, этот женский портрет будет вскоре приниматься в Нанте за шедевр.
17. "Старик, играющий на виоле" - гнусная и ужасающая правда. Испанская картина, приписываемая Мурильо. Она имеет свои достоинства. Искусный колорит, естественное выражение лица. Получена из музея Наполеона. Возможно, что картина эта кисти Веласкеса, который в начале своей деятельности брал сюжеты из простонародной жизни.
18. Прекрасная копия в мраморе вазы Уорика.
19. "Воспитание богоматери" Крайера.
20. Молодая девушка перед постригом. Живописцу помог интересный сюжет. Девушка одета в голубое платье, ей четырнадцать лет, это болезненное, томящееся, экзальтированное существо. Лицо напоминает святую Терезу. "Приписывается итальянскому или испанскому художнику",- сказал сухопарый человек, который после этой картины освободил нас от своих глубокомысленных суждений.
Я дошел до вопроса, который всегда следует себе поставить: "Что бы я выбрал, если бы мне предложили взять из этого музея то, что я хочу?" Во-первых и прежде всего - "Крестный путь", быть может, кисти Леонардо. Это огромное "быть может" перевешивает и оттесняет все остальное. Затем, пожалуй, Себастьяно дель Пьомбо; далее поясной портрет, приписываемый Джорджоне, портрет Елизаветы и копию "Богоматери в скалах" Леонардо да Винчи.
У входной двери я увидел очень любопытные фрагменты средневековой скульптуры. Имеются ли здесь какие-нибудь памятники галльского искусства или хотя бы относящиеся к VIII веку, подобные тем, которые я видел в Ла-Шарите у г-на Грассе? Над дверью повешена большая картина, кисти покойного Сигалона, изображающая Гофолию, на глазах которой, по ее приказанию, убивают пятьдесят потомков какого-то иудейского царя. Нантский музей мог бы передать эту картину музею в Ниме.
Я вышел из музея, изнемогая от усталости. У меня шалят нервы, как говорит г-н де С. Прогулка на лодке по Эрдру. Ничего не поделаешь, конец дня был для меня потерян. В общем, я был слишком строг к этому музею. (И все эти страницы придется переделать, если когда-нибудь вновь попаду в Нант. Нужно взять с собой лупу, чтобы рассмотреть, как выписаны ногти и волосы в "Крестном пути" Леонардо.)
Какой-то супрефект, смещенный с должности и потому философски настроенный, говорил мне вчера: "Подозрительность и сухая рассудочность, лежащие в основе деятельности обеих палат, окончательно уничтожают во Франции рыцарство. Человек, который живет лишь для того, чтобы своей элегантностью внушать женщинам величайшее к себе уважение, скоро станет у нас большой редкостью. В Англии же, наоборот, Бреммель* и д'Орсе попытались воскресить этот закон, внеся лишь одну поправку - "the fashion"**.
* (Бреммель, Джордж (1778-1840) и граф д'Орсе (1801 -1852) - тогдашние законодатели мод в светском английском обществе, теоретики "дендизма" - элегантности и "хорошего тона".)
** (Тон высшего света (англ.).)
В те времена, когда господствовал дух рыцарства, Франция не имела художника, способного воплотить идеал окружавшего его общества, дать выражение этого общества в мраморе или в живописи. Ничто не может быть так близко Бентаму, как идеал, одушевлявший Рафаэля. В своем "Персее" Канова отрицает силу и в этом смысле приближается к тому умонастроению, которое во многом предпочитает изящество силе и ум - справедливости. Рыцарство затмило здравый смысл античного Рима, а здравый смысл обеих палат уничтожает рыцарство. Все это подарит людям со вкусом много разных видов прекрасного.
Сегодня вечером я встретил г-на Шарля - "благородного отца" местной труппы. Мы радостно приветствовали друг друга. Я хорошо его знал, когда он был артиллерийским унтер-офицером на Мартинике. Это человек благородный и на редкость здравомыслящий.
Каким прекрасным секретарем был бы он для министра!
Господин Ш. отличается тем, что не дает себя обмануть внешним впечатлениям. Его довольно скромное положение в обществе нисколько не влияет на его взгляды на окружающее.
"Комедийное искусство,- сказал он мне,- вновь расцветет во Франции лишь тогда, когда на сцене перестанут подражать придворному вельможе, которого в жизни больше не существует. Нет ничего более буржуазного, чем манеры и лица восьми или десяти уважаемых особ, занимающих самые почетные места в Королевском альманахе. Я знаю лишь одно или два исключения. Последними вельможами были г-н Нарбонн*, умерший в Виттенберге, и г-н де Талейран.
* (Нарбонн (1755-1813) - вельможа старого французского двора, видный дипломат при Наполеоне.)
Так вот,- продолжал г-н Ш.,- как только нантский буржуа, присутствующий в театре при постановке комедии, видит в списке действующих лиц имя Клитандра*, он требует точного воспроизведения манер, какие в его представлении были когда-то у маршала де Ришелье. Представьте себе, если вы способны на это, каким он его себе представляет.
* (Клитандр - условный образ французской классической комедии, тип великосветского влюбленного молодого человека.)
У нас будут приличные актеры,- продолжал унтер-офицер,- только тогда, когда двенадцатилетним детям, участвовавшим в комедиях в Париже, в театре Одеон или в пассаже Оперы, исполнится двадцать пять лет. Когда они достигнут возраста страстей, им уже не помешает робость, они будут обладать и памятью, и искусством жеста, и т. д. Владея техникой искусства, они смогут полностью сосредоточиваться на воспроизведении и идеализации персонажа, пьесы. Если природа наделила их острым взглядом, чтобы распознать, каков внешний облик молодого человека, имеющего с самого рождения сорок тысяч франков дохода, они сумеют дать его образ в роли Клитандра. Тогда их ждет другая трудность: выяснится, что словесный текст роли не соответствует манерам, принятым в XIX веке.
Самые хорошенькие актрисы французского театра отличаются примерным благонравием; в Лондоне они отказывались от весьма лестных предложений. Значит, эти дамы сумеют дать образ французской женщины нашего века, прежде всего благонравной и властной.
Нет ничего более жалкого, чем современные актеры,- продолжал г-н Ш.,- у этих несчастных людей нет ничего своего, даже собственного имени. Многие из них не лишены подлинных способностей; но провинциал не желает, чтобы в сценическом искусстве отразился переворот, происшедший в литературе. Он все еще признает лишь подражание Флери.
- Подумаешь, переворот! - восклицает он.- Отвратительный пафос; ничего естественного; вечная боязнь простоты, действующие лица декламируют оды. Прекрасные плоды романтизма!
Романтизм, или отмена трех единств в драме, был победой здравого смысла; воспользоваться падением этого нелепого тирана для создания прекрасных пьес - такова задача гения. А между тем французского гения влечет к себе Академия наук или политическая трибуна. Если бы г-н Тьер не был оратором, он стал бы писателем.
В 1837 году в Германии, а особенно в Италии, есть гораздо лучшие актеры, чем во Франции. Где у нас Доменикони или Амалия Беттини, которая по доброте своей считает себя худшей актрисой, чем мадемуазель Марс? Только города, в которых она выступает, хуже Парижа. Итальянские труппы переезжают из одного города в другой каждые четыре месяца, и самому большому таланту приходится снова делать усилия, чтобы добиться успеха. Болонья рада была бы случаю освистать то, что во Флоренции вызвало аплодисменты. Какой благородный отец в Париже превзойдет Лаблаша?
Нант, 1 июля 1837 г.
День этот был посвящен осмотру общественных памятников. Это одна из наиболее тяжелых повинностей, которые возлагаются на бедного путешественника, впервые приехавшего в какой-нибудь край.
Лучшие кварталы Нанта выстроены одновременно с лучшими кварталами Марселя. В конце прошлого века стараниями г-на Гралена, богатого финансиста, были созданы площадь, носящая его имя, прилегающие к ней улицы, Королевская площадь и т. д.
Замок Буффэ относится к концу X века. Очень высокая многоугольная башня, на которую водрузили главные городские часы, была сооружена только в 1662 году.
Замок, выстроенный Аланом Кривобородым в 938 году, украшают по бокам круглые башни, по всей вероятности, XIV века. Герцог де Меркёр восстановил его во время гражданских войн; поэтому на нем видны лотарингские кресты, которые я заметил и на бастионе близ Луары. Оконные карнизы этого здания справа от главного входа изящно отделаны. В большом готическом зале, окнами выходящем на Луару, помещается несколько бочек с порохом; по этой причине мы смогли лишь мельком взглянуть на него, и то нам пришлось пустить в ход все влияние моего любезного спутника. Свод украшен изящными нервюрами.
Выйдя из этого зала, мы случайно попали на улицу Бьес, возле моста Мадлен. "Здесь был повешен маршал де Рэ,- сказал мне мой новый приятель.- Ему было только сорок четыре года. Де Рэ - это прототип Синей Бороды из детской сказки. Этот необыкновенный человек был маршалом Франции и имел миллион двести тысяч франков дохода". Он окончил свои дни на виселице 25 октября 1440 года.
Этот донжуан тщеславно попирал все то. что люди чтят, и, только удовлетворив это свое главное стремление, находил счастье в обладании женщинами. Таков же был характер и знаменитого Франческо Ченчи в Риме, имевшего миллион ежегодного дохода; он был убит двумя разбойниками, которых провела к нему в спальню его юная дочь Беатриче, обесчещенная им. За это преступление она была обезглавлена 13 сентября 1599 года, шестнадцати лет от роду.
Польза безраздельно господствовала в героические времена, и теперь мы снова возвращаемся к пользе. Затем явилось рыцарство, которому пришла странная фантазия сделать женщин судьями своих достоинств.
Донжуан доводит это до крайности: он обожает женщин и, чтобы нравиться им, хочет показать, до какой степени ему безразличны мужчины. Мысль об этом любопытном следствии рыцарства - порождении церкви - занимала меня в течение всего вечера. Я просматривал книги, выдержки из которых привожу.
Заметьте, что всякому донжуану свойственно непреодолимое влечение к женщине. Это влечение говорит о необычайно богатом воображении. Следовательно, нет ничего удивительного, что всякий донжуан в конце концов начинает верить в магию, в философский камень и другие безрассудства. Счастье его, если он не доживает до старости, ибо старость для такого рода людей ужасна.
Жиль де Рэ был очень храбр. Родившись в 1396 году, он в 1429 стал маршалом Франции при короновании Карла VII в Реймсе. В 1427 году он взял приступом замок Люд, убив его коменданта. В 1429 году он был одним из военачальников, помогавших Жанне д'Арк, этой непонятой девушке, ввезти съестные припасы в Орлеан. Став маршалом в тридцать три года, он получал высокие назначения в армии французского короля. Поэма Вольтера знакомит нас с этой войной, события которой так перемежаются с любовными похождениями.
В двадцать четыре года Жиль де Рэ женился на богатой наследнице Катрине де Туар; в 1432 году он получил наследство от ее деда с материнской стороны, Жана де Краона. Годовой доход молодого маршала достиг тогда трехсот тысяч ливров (миллиона двухсот тысяч франков в 1837 году).
Обладать в тридцать шесть лет таким огромным состоянием, иметь высший воинский чин и прекрасную военную репутацию - слишком тяжелое бремя для человека с пылким воображением.
Молодой маршал перестал заниматься воинскими делами. Да и что могли бы они дать ему нового? Он стремился к победам над женщинами и хотел предстать перед ними, снискав уважение и восторг мужчин, своих современников.
Своей роскошью он хотел затмить роскошь монархов. Благодаря этому он весьма скоро растратил состояние, дававшее ему миллион двести тысяч дохода в год. Историки утверждают, что его стража состояла из двухсот человек, что у него были пажи, капелланы, дети-певчие, музыканты; большинство из них были его пособниками или сообщниками в его отвратительном распутстве. Вскоре, пресытившись обыкновенным сладострастием, он задумал придать ему остроту, прибегнув к преступлениям.
Я нашел еще другие подробности в описаниях его великолепия. Это был человек с богатым воображением, и потому религия играла большую роль в его жизни. Его домовая церковь была затянута парчой и шелковыми тканями. (Шелк был тогда ценнее золота: вспомним историю с парой шелковых чулок Франциска I, имевшую место спустя столетие.) Церковная утварь и все украшения в этой часовне были из золота и осыпаны драгоценными камнями. Маршал до безумия любил музыку, и у него был орган, который так ему нравился, что он всегда и всюду возил его с собой.
Я останавливаюсь на характере маршала де Рэ, ибо этот своеобразный человек был первым в своем роде. Римлянин Франческо Ченчи родился только в 1560 году. Для полного проявления всех душевных свойств донжуана необходимо соединение большого состояния, необычайной храбрости, пламенного воображения и необузданной страсти к женщинам. К тому же ему необходимо родиться в таком веке, когда женщины объявлены судьями людских достоинств. Во времена Гомера женщины были лишь служанками; Ахилл, такой блестящий человек, совсем не думал об одобрении Бризеиды, он предпочитал заслужить одобрение Патрокла.
Капелланы маршала де Рэ в красных облачениях, подбитых беличьим мехом, носили звания старшего викария, регента хора, архидиакона и даже епископа. Маршал дошел до такого безумства, что просил папы разрешения иметь своего крестоносителя. Одним из самых успешных способов, к которым прибегал молодой маршал, чтобы добиться восхищения жителей городов, куда его приводила необузданная погоня за наслаждениями, были дорогостоящие постановки мистерий. Мистерии - единственное зрелище, известное в эпоху, последовавшую за варварством,- оказывали благодаря своей новизне сильнейшее влияние на человеческие души. В особенности женщины обливались слезами, и восторг их доходил до экстаза.
В 1434 году, после двух лет такой веселой жизни, состояние маршала уже настолько уменьшилось, что ему пришлось продать Иоанну V, герцогу Бретонскому, множество своих замков и земель. Семья расточителя хотела этому воспрепятствовать, но маршалу удалось устранить все помехи, и в 1437 году он получил деньги за проданное имущество.
Вскоре все нормальные источники его доходов иссякли. Тут-то и проявил себя человек с богатым воображением. Жиль де Рэ, человек для своего времени очень образованный, обратился к поискам философского камня*. Когда превращение металлов не удалось, он призвал на помощь магию и взял к себе на службу итальянца Франческо Прелати. Враги маршала утверждали, что он обещал дьяволу все, кроме своей души и своей жизни. Но по странности, свойственной пылкой натуре, де Рэ, даже пытаясь вступить в связь со всемогущим существом - врагом истинного бога, продолжал совершать молебствия со своими капелланами.
* (Возможно, что химия в скором времени сумеет делать алмазы.)
Приведу одно из первых преступлений Жиля де Рэ, насколько можно восстановить истину, скрытую под напыщенными фразами, столь излюбленными судьями всех времен.
Маршал ездил на окраину Бретани под именем одного из своих певчих: он был влюблен в жену какого-то судостроителя, которая страстно его любила. У этой женщины была невестка, возмущавшаяся ее легкомыслием и неосторожностью. Жиль де Рэ безумно влюбился в эту невестку, но встретил самый решительный отпор. Однако, почувствовав, в конце концов, что она может ему уступить, невестка внезапно исчезла. Она бежала к своему мужу, богатому мельнику, жившему на берегах Вилены, близ Фужере. Маршал вскоре появился в этой местности, но мельник знал его в лицо, и встретиться с мельничихой было нелегко. Однако маршал упорно преследовал ее, для чего несколько раз проделывал путь из Нанта в фужере, и в конце концов добился успеха. Но после одного свидания муж, у которого возникли подозрения, убил жену кинжалом. Взбешенный маршал явился к нему в дом и заколол мельника так же, как и двух его слуг.
Я с прискорбием подхожу к ужасающим страницам этой необыкновенной жизни. Поиски изощренных наслаждений или требования магии привели маршала к умерщвлению детей. Чтобы выяснить, какую цель он преследовал, нужно было бы достать один из многочисленных манускриптов, относящихся к этому процессу, но я недостаточно влиятелен для этого.
Как говорят, независимо от этих чудовищных наслаждений человек, желающий вызвать дьявола и умилостивить его, должен обратиться к помощи некоторых чар, для которых необходима кровь, сердце или другие части детского тела. Дьявол требует большой нравственной жертвы от того, кто хочет его видеть. С какой целью производились убийства, осталось невыясненным. Но, к несчастью, было вполне доказано, что люди маршала старались завлечь в его замки, приманивая лакомствами, молодых девушек и особенно юношей, и что эти молодые люди затем бесследно исчезали. Во время своих поездок по Бретани пособники маршала приставали к бедным ремесленникам, имевшим красивых детей, уговаривая их доверить своих сыновей маршалу, который будто бы должен был принять их в число своих пажей и обеспечить их будущее. Друзья маршала - Пренсе, Жиль де Силье, Роже де Браквиль и другие участники его забав,- по всем данным, были причастны и к этим гнусным делам. Они доставляли жертвы своему могущественному другу или угрожали родителям и пресекали их жалобы.
Рассказы об этих тягчайших преступлениях долго волновали Бретань. Наконец скандальная огласка злодеяний Жиля де Рэ взяла верх над его могуществом и влиянием. В сентябре 1440 года его взяли под стражу, заключили в Нантский замок, и герцог Бретонский приказал начать против него процесс.
Сухость приведенного выше рассказа свидетельствует о том, что жизнь первого донжуана известна нам только по напыщенным фразам тупоумных судей. Каковы же были мотивы, каковы подробности не только его чудовищных злодеяний, но и всех тех поступков его жизни, которые не были ему поставлены в вину? Нам это не известно. Поэтому мы весьма далеки от того, чтобы иметь подлинный портрет этого необыкновенного человека.
Вместе с Жил ем де Рэ арестовали и двух его соучастников - Анри и Этьена Корильо, прозванного Пуату; чернокнижник Прелати к этому времени уже успел умереть. На очной ставке со своими двумя сообщниками маршал отрекся от своих слуг, "У меня всегда служили,- сказал он,- только порядочные люди". Но впоследствии пытки так устрашили этого человека, раба своего воображения, что он признался в своих преступлениях и подтвердил показания Анри и Этьена Корильо.
Не стану приводить здесь все ужасающие и непристойные подробности этого процесса. Это было ненасытное распутство, находившее удовлетворение лишь в полном презрении ко всему, что уважается людьми. Этот донжуан доставлял себе все наслаждения, каких требовало его тщеславие, и одни наслаждения приводили его к жажде других. Он всегда следовал преступным велениям своего причудливого и поразительно богатого воображения.
В королевской библиотеке в Париже существует восемь рукописей, относящихся к этому процессу, девятая - в Нантском замке. Жиль де Рэ умертвил множество детей и юношей различного возраста от восьми до восемнадцати лет. Эти человеческие жертвы приносились в замках Машкуль, Шантосэ и Тифоже, принадлежавших маршалу, в его особняке Ла-Сюз в Нанте и в большинстве городов, куда он приезжал со своей свитой. Он признался, что это кровавое сладострастие длилось восемь лет; один из его соучастников показал, что оно длилось четырнадцать лет. Чтобы уничтожить следы преступлений, трупы жертв сжигались в его замках.
Недостаток этой истории, взятой из уголовного процесса, заключается в сходстве ее с романом, который вселяет ужас и вместе с тем написан бесстрастно. Чтобы набраться мужества и прочесть ее до конца, требуется вспомнить, что факты, доказанные правосудием, опорочивают высокого сановника, человека просвещенного, богатого и могущественного; следовательно, это не может быть клеветой. Несмотря на указанные меры предосторожности, в Шантосэ было найдено сорок шесть трупов и скелетов, в Машкуле - восемьдесят.
Маршал продал герцогу Бретонскому, своему государю, замок Сент-Этьен де Мальмор, а затем снова завладел им, угрожая коменданту, что, если тот не отдаст ему замка, он убьет его брата, находящегося в его, маршала, власти. Нужда в деньгах, которую испытывал к концу своего краткого жизненного пути маршал, принудила его к подобным поступкам, бывшим для него несравненно более опасными, чем установленные убийства. Трибунал под председательством Пьера де Л'Опиталя, сенешаля Бретани, приговорил Жиля де Рэ к смерти, так же, как и двоих его сообщников.
Чтобы удовлетворить перед смертью свою страсть к процессиям, маршал добился того, что к месту казни его провожал епископ Нанта со своим клиром. Он до конца сыграл свою роль в этой церемонии, выказав полное раскаяние и читая наставления; он увещевал своих соучастников до самой их смерти, простился с ними и обещал встретиться с ними в раю. На его великое несчастье, 25 октября 1440 года он был повешен посреди обширных бьесских лугов; ему было всего лишь сорок четыре года*.
* (Можно найти и другие подробности, смотри том 8 "Смеси", взятой из одной большой библиотеки, а также у Монстреле.)
Предать гласности процесс этого своеобразного человека было бы опасно. В наш скучающий век, жаждущий необыденного, де Рэ, быть может, нашел бы подражателей. Вообще же говоря, этот процесс, изложенный в форме рассказа, был бы очень похож на "Жизнь Бенвенуто Челлини" и помог бы лучше ознакомиться с нравами того времени, чем множество риторических упражнений ученых, от которых клонит ко сну. Заметьте, что рассуждения общего характера всегда толкуются читателем в свете привычек того века, в котором он живет. В этом процессе факты настолько ясно изложены, что невозможно дать им обратное толкование*.
* (Могу добавить еще "Законы и обычаи", собранные Буало, членом превотального суда при Людовике IX. Нельзя не признать, что это весьма нелегкое чтение, но узнаешь оттуда больше, чем из 20 томов современных авторов. Исторические заметки г-на Капефига представляют также много любопытного.)
В нантской библиотеке мне, невежде, любезно показали рукопись "Града господня" святого Августина, переведенную Раулем де Прелем в 1375 году. Ее украшает превосходная миниатюра, на которой изображены две дамы и рыцарь, играющие в карты. Увидев это, я с ученым видом сказал библиотекарю: "На картах, изобретенных, если не ошибаюсь, в Китае, вначале не было привычных нам фигур, которые принесены ему в дар Европой уже в конце XIV века. Фигуры эти, взятые из самых различных эпох: Гектор, Давид, Ланселот, Карл Великий,- свидетельствуют о том смешении воспоминаний и представлений, которое характерно для конца средних веков".
Большое количество документов, касающихся Вандейских войн, собрано в архивах префектуры. Если бы Бурбоны после Реставрации обладали хоть какими-нибудь государственными талантами, они направили бы в Нант несколько штабных офицеров - местных уроженцев, и те нашли бы в бумагах префектуры две папки подлинных и интересных документов. И столько героев-роялистов не остались бы в неизвестности, carent quia vate sacro*.
* (О них не вещают вдохновенные поэты (лат.).)
В XVIII веке индивидуальность и темперамент нигде не проявились более ярко, чем среди простых крестьян, думавших, что они мстят за бога. Соединение такого мужества и военной хитрости с полной неспособностью понять письменное слово никогда еще в такой степени не наблюдалось в истории. Мой спутник ухаживал в течение нескольких часов в своем загородном доме за смертельно раненным вандейцем, который сказал ему, что все священники, по его мнению, похожи друг на друга и дрался он вовсе не для того, чтобы доставить удовольствие своему кюре, а просто не в состоянии был примириться с тем, что на основании закона о разводе Национальный Конвент мог заставить его развестись с женой, которую он обожал, да и вообще, черт возьми, он не хотел "плясать под чью-либо дудку".
Нант оказался для меня местом встреч. На бирже я столкнулся с морским капитаном, который был моим попутчиком во время моей поездки на Мартинику. Последние три года он провел на Балтике в Санкт-Петербурге.
- Не нападут ли на нас казаки? - спросил я его.
- Император,- ответил он, - бесспорно, умен и считался бы незаурядным человеком, даже если бы был простым смертным. Этот монарх - самый красивый человек в своей стране и также один из самых храбрых в ней; но его, как лафонтеновского зайца, снедает страх. В каждом умном человеке - а их немало в Петербурге - он видит врага; настолько большие тяготы налагает самодержавная власть.
1. Царь взбешен тем, что происходит во Франции; свобода печати вызывает у него конвульсии, но у него нет двадцати миллионов франков, чтобы успокоить свой гнев. Министр финансов Канкрин, талантливый человек, с трудом сводит концы с концами, вызывая у всех крики недовольства.
2. Император не желает, чтобы в России были обманутые мужья. Если молодой офицер слишком часто бывает у хорошенькой женщины, его приглашают в полицию и предлагают прекратить свои посещения. Ежели он не обращает внимания на такое предупреждение, его ссылают. Особо страстная любовь может довести до Сибири. Ничто так не досаждает молодым аристократам. Обычно самодержавный монарх понимает, что он сохраняет свое положение, не мешая знати иметь те же грешки, что и он сам. Сен-Симон говорит о том, что Людовик XIV давал крупные пенсии всем своим придворным и, хотя был смехотворно набожен, никогда не препятствовал существованию обманутых мужей. Герцог де Вильруа, один из ближайших ему людей, имел открытую связь с воспитательницей принцев королевской крови.
Впрочем царь, очень красивый собой, походит в некотором отношении на наших французских префектов, которые, проповедуя благочестие в своих гостиных, сами никогда не ходят в церковь.
3. Россия не желает, чтобы Сербия получила конституцию, которую ей хочет дать князь Милош, лучше всех зарейнских государей знающий свое дело.
4. В России много умных людей, и их самолюбие чрезвычайно страдает оттого, что у них нет конституции, тогда как она есть даже в Баварии и такой маленькой стране, как Вюртемберг. Русские хотят иметь палату пэров, состоящую из знатных людей, имеющих сто тысяч рублей ежегодного дохода за вычетом долгов, и палату депутатов, состоящую на треть из офицеров, на треть из аристократов и на треть из негоциантов и заводчиков, с тем, чтобы обе палаты ежегодно вотировали бюджет. Представление о свободе в России другое, чем у нас. Аристократ понимает, что свобода рано или поздно отнимет у него его крестьян (которые, кстати сказать, очень счастливы). Самолюбие русского аристократа страдает еще и оттого, что он не может ездить в Париж и что каждая ничтожная французская газетка беспрепятственно обзывает его варваром.
- Я не сомневаюсь,- продолжал капитан К.,- что не пройдет и двадцати пяти лет, как эта страна получит какое-то подобие конституции и что венценосец будет подкупать ораторов орденами.
В Петербурге считают Ермолова человеком больших достоинств, возможно, даже гениальным. Многие хотели бы, чтобы он возглавил министерство внутренних дел. Генерал Жомини готовит очень образованных офицеров, в чем можно будет убедиться во время первой же войны. Но эти офицеры не желают, чтобы их считали большими дураками, чем баварцев.
Россия поглощает три четверти французских книг, выпускаемых бельгийскими контрафакторами, и я знаю двадцать русских молодых людей, которые больше, чем вы, в курсе всех изданий, вышедших в Париже за последние десять лет. Комедии г-жи Ансело ставятся на русском и французском языках в петербургских театрах.
Бретань, 3 июля.
Весь вечер я слушал, как превозносили до небес феодализм, причем восхищался им весьма уважаемый человек, опровергать которого было бы еще скучнее.
Самое большее, что можно было бы сказать о феодализме, как и о христианстве Григория Турского,- это то, что он лучше ужасающей неурядицы X века. Но даже царствование Нерона или Фердинанда было лучше, чем феодализм.
Глупые или, скорее, хитрые люди, при поддержке простаков расхваливающие в наши дни старину и желающие к ней вернуться, говорят двадцатилетнему юноше: "Дорогое дитя, когда вам было полгода, вас кормили молоком, и, согласитесь, с огромным успехом,- ну так вот, вернитесь к молоку".
Исключительное духовное превосходство итальянского народа над французским в 1400 году объясняется тем, что итальянцы начиная с IX века сражались, чтобы добиться того, к чему они стремились, в то время как французы следовали в войнах за своим феодальным сеньером, чтобы не попасть в тюрьму. К несчастью, цивилизация средневековых республик оплодотворила лишь итальянские равнины, и феодалы Европы избрали их местом вооруженных встреч для разрешения своих распрей.
Вечер благополучно закончился едкой критикой поведения г-жи де Нентре, прелестной женщины, которую я немного знаю. Дело касалось одного интересного происшествия, которое я и хочу записать; это очень обыденный факт, но он кажется весьма таинственным и даже скандальным местным "львам" того большого города, где мне о нем рассказали. Эти господа провели большую часть лета в замке Рабестен. В соседней деревне имеются лишь убогие хижины,- если бы я вздумал их описать, вы не поверили бы, что во Франции существует нечто подобное. Г-жа де Нентре приказала приспособить домик садовника и предоставить в нем клетушки многочисленным гостям, которые оспаривают друг у друга место, ибо г-же де Нентре нет еще сорока лет. Я считаю ее очень привлекательной женщиной; она красива, держит себя с большим достоинством и без всякого высокомерия; речь ее, по моему мнению, полна естественности. Если бы она бросила хоть один благосклонный взгляд, за ней увивались бы поклонники, но никто на это не решается. Местные "львы" были бы весьма не прочь за ней приволокнуться; у нее самое большое состояние в этой провинции, но она хочет, чтобы все взоры были обращены только на ее дочь. Леонора де Нентре - величественная красавица, у нее черты лица гречанки, ей только что исполнилось двадцать лет, к тому же она принесет будущему супругу, как говорят, в своем фартучке 25 000 франков ежегодного дохода и блестящие надежды на будущее. Если читатель даже одарен пылким воображением, он лишь в слабой степени сумеет представить себе впечатление, производимое соединением стольких прелестей. Дело в том, что мадмуазель де Нентре может изменить в корне будущее каждого из окружающих ее молодых людей. Ее опекун, заменяющий ей отца, родственник покойного г-на де Нентре, нотариус по фамилии Жюж, человек больших достоинств, но со странностями; за ним ухаживают все в департаменте. Этот лукавый старец сравнивает себя с Улиссом и высмеивает женихов.
Вчера вечером мне пришлось бодрствовать до трех четвертей первого - неурочный час для этого края, в ста пятидесяти лье от Парижа. Рассказывал хозяин дома, человек, не блещущий умом, причем его то и дело перебивали. Назойливые гости старались завладеть разговором под предлогом необходимости дополнить повествование хозяина весьма существенными обстоятельствами.
В его рассказе не было ничего необычайного, он обладал одним достоинством - неприкрашенной точностью; все здесь было в соответствии с истиной, как в деревенском объявлении о продаже люцерны. Такая правдивость представляет огромную трудность для писателя; так как действующие лица еще живы и даже весьма молоды, мне придется прибегнуть к множеству вымышленных имен и во всеуслышание заявить, что я ни в коей мере не одобряю поступков и взглядов действующих лиц.
Читателю уже известно, что весь Руссильон был в сильнейшей степени заинтересован красотой, богатством и даже умом мадмуазель де Нентре, единственной дочери своеобразной женщины, никогда не слывшей красавицей, но, тем не менее, внушившей трем или четырем людям сильнейшую страсть, оставшуюся неразделенной. Какая-то особенная прелесть, которой здешние люди не в состоянии оценить, объясняет победы г-жи де Нентре. Ее открыто обвиняли в кокетстве, однако даже ненавидящие ее женщины единодушно признают, что она из гордости никогда не имела любовников. "Она разговаривает с нашими мужчинами, как сестра,- заявляли они,- и этим нам вредит". Г-жа де Нентре, которой я имел честь быть представленным в один из моих предшествующих приездов, противопоставляет абсолютную и искреннюю простоту глубокомысленному и безграничному политиканству, составляющему житейскую мудрость провинциалов, в особенности людей, имеющих десять тысяч франков дохода и замок и надеющихся удвоить свое состояние. А г-жа де Нентре владеет тремя замками, в одном из которых несколько дней тому назад мне было оказано гостеприимство. Ввиду бедности деревни привратник предоставил мне комнатушку, и меня поразило, что в длинной галерее, которая туда ведет, выгравированы изображения более четырехсот лиц, прославившихся после 1789 года. Именно в этом замке жила она до описываемого события. Насколько я мог понять эту своеобразную женщину, поведение которой в настоящий момент служит темой пересудов в восьми департаментах, г-жа де Нентре осмеливается поступать во всех случаях своей жизни так, как ей больше всего нравится поступить в данную минуту. Поэтому ее терпеть не могут все те глупцы, которым умение держать себя в обществе заменяет ум. Так как она была очень богата и достаточно знатна в 1815 году, двое ловких людей, называемых в этом крае иезуитами, предприняли шаги, чтобы выдать ее замуж в интересах определенной партии. И вдруг стало известно, что она обвенчалась с неким г-ном де Нентре, не имевшим ничего за душой. Это был бедный офицер, уволенный из расформировываемой Луарской армии.
Во время этого нелепейшего расформирования батальон, которым, как старейший капитан, командовал г-н де Нентре, взбунтовался. Солдаты потребовали, чтобы им до увольнения уплатили все задержанное жалованье. Г-н де Нентре добился удовлетворения этого требования своего батальона. Однако были голоса, обвинявшие его в сговоре с роялистами, которые распускали армию. Когда все было окончено, г-н де Нентре приказал солдатам построиться в каре.
- Господа, ибо сейчас я ровня вам,- сказал он им,- все мы французские граждане. Господа, вы полностью удовлетворены?
- Да, да! Да здравствует капитан!
'Когда крики прекратились, г-н де Нентре продолжал:
- Господа, здесь раздавались голоса, обвинявшие меня в мошенничестве. Черт побери, я требую сатисфакции! Ле-Мартруа слывет лучшим фехтовальщиком в полку. Выходи же, Ле-Мартруа, и скинь мундир!
Все его поддерживают. Со всех сторон раздается: "Да здравствует капитан!" Ле-Мартруа принужден отвязать от своего ранца рапиры; освободили острия. Поединок продолжался довольно долго. Сначала у г-на де Нентре была задета рука, но вскоре он нанес сильный удар Ле-Мартруа.
- Господа,- сказал капитан,- все мое богатство состоит из сорока одного луидора. Вот двадцать один, я даю их славному Ле-Мартруа на лечение раны.
Батальон залился слезами. Де Нентре говорил впоследствии, что у него явилась мысль сформировать нечто вроде гверильи, укрепиться в Компьенском лесу и возместить этим отсутствие решимости у маршалов, когда-то воевавших в Испании и не сумевших взять себе за образец этот героический народ. Г-жа де Нентре, услышав рассказ о такой черте характера, почти не зная храброго офицера, вышла за него замуж. На что воспоследовали великий гнев и предсказания роковой развязки. Все высшее общество провинции предназначало в мужья богатейшей наследнице, мадмуазель де Р..., молодого человека, только что примкнувшего к победителям и писавшего уже недурные статьи в газетах конгрегации. Г-ну де Нентре оказали холодный прием в провинциальных салонах; он переехал в Париж, где ни у кого нет свободного времени для того, чтобы преследовать человека. Он умер там, когда его единственной дочери исполнилось пятнадцать лет.
По мере того, как прекрасная Леонора де Нентре становится старше, она приобретает твердость характера; девушка гордится своим происхождением и богатством; она здраво судит о достоинствах молодых людей из знатных фамилий, желающих жениться, и до настоящего времени - ей исполнилось двадцать лет - не нашла еще никого, кто был бы достоин ее руки.
Утверждают, будто г-жа де Нентре сказала своей дочери: "Я, конечно, предоставляю тебе полную свободу, но, будь я на твоем месте, я бы прикинулась бесприданницей, чтобы постараться найти себе мужа, хоть немного похожего на твоего бедного отца. Какой-нибудь парижский щеголь женится на тебе из-за твоего состояния и во время брачного обряда будет смотреть по сторонам. Он промотает половину твоих средств, нелепо спекулируя на рудниках и железных дорогах, и в конце концов променяет тебя на какую-нибудь актрису из варьете, которая будет забавлять его, болтая обо всем, что ей взбредет в голову".
Очевидно, во избежание такой развязки г-жа де Нентре и проводила десять месяцев в году в своих поместьях. Прекрасную Леонору обвиняют в том, что у нее решительный характер двадцатипятилетней женщины.
Все без конца пережевывали эти подробности, изложенные мною вкратце, после того, как произошло событие, о котором я собираюсь рассказать, если сумею. Завистливые провинциалы горько упрекают г-жу де Нентре еще за одну вещь: она без всяких околичностей, прямо в лицо заявила этим скупцам, что считает мелкими душонками людей, не расходующих полностью своих доходов. Но так как у нее самые простые вкусы, то в действительности не она, а красавица Леонора тратила в Париже и в замках своей матери пятьдесят - шестьдесят тысяч франков ежегодного дохода. Мадмуазель де Нентре порицают за ее слишком решительный характер; я же думаю, что небеса наделили ее редким здравым смыслом, так как, несмотря на то, что требуется большая изобретательность, чтобы расходовать из года в год такой значительный доход, самые враждебные ей лица не в состоянии приписать ей хотя бы один ложный шаг или даже нелепый поступок. Матери, имеющие дочерей на выданье, не могли найти никакого предлога, чтобы создать прекрасной Леоноре репутацию сумасбродки, в полной мере заслуженную г-жой де Нентре из-за ее брака, наделавшего столько шума.
Не было ничего проще, чем быть принятым у г-жи де Нентре; большой полуразрушенный старинный замок, куда забросил ее в этом году каприз Леоноры, имел по соседству лишь бедную деревушку без постоялого двора, и поэтому она приспособила для приема гостей домик садовника, украшенный, как я уже говорил, портретами всех наших революционеров. Три месяца тому назад среди гостей появился некий Шарль Вильре, уже успевший промотать, несмотря на молодость, свое состояние в Париже. После этого он совершил несколько путешествий в Индию, чтобы скрыть от любопытных глаз свою бедность или чтобы попытаться от нее избавиться; об этом точно ничего не известно, так как Вильре никогда не разговаривает с мужчинами, храня в их обществе самое нелепое молчание. Оставшееся у него небольшое количество денег он тратит на содержание отличной лошади. Но он настолько беден, что не может купить лошади своему слуге; поэтому, когда он путешествует верхом, его слуга следует за ним в дилижансе. Таким-то образом, когда он приехал в замок Рабестен, он первые дни сам чистил свою лошадь, что показалось поступком весьма дурного тона местным "красавцам". Женщины же только и говорили о Шарле Вильре. Это человек живой, подвижный, приятный, во всех его движениях чувствуется непринужденность, простая и незаученная, что вначале поражает. Может показаться, что он иностранец. По моему мнению, это чувствительный человек, который, отчаявшись понравиться современному обществу, таким своеобразным и малорадостным путем добивается успеха. Должна быть, местные "красавцы" почуяли возможность у него таких намерений, ибо они засиживаются до часу ночи, злословя на его счет. Что особенно обидно для местных "красавцев", избравших себе воинственную манеру поведения,- это то, что Шарль искусно владеет оружием всех родов. Пересуды смолкают в его присутствии; впрочем, весьма трудно завязать беседу с "индийцем" - такое прозвище дали ему местные "красавцы". Он отвечает на вопросы с холодной вежливостью, но, несмотря на все их старания, никогда ни с одним мужчиной не ведет беседы и сам в обществе никогда ни о чем не заговаривает.
Шарль приходился дальним родственником покойному г-ну де Нентре, и вдова последнего, узнав, что молодой человек недавно вернулся в соседнюю провинцию, откуда он был родом, но где больше ничем не владеет, пригласила его пострелять куропаток в ее поместье, известном своей охотой. Однако политиканы не сомневаются, что у нее явилась странная мысль женить его на своей дочери. Ведь однажды в присутствии двух нотариусов у нее вырвались слова, сказанные будто про себя: "Какое преимущество для девушки, обладательницы огромного состояния, брак с богатым человеком? В лучшем случае она может надеяться, что муж не посягнет на ее имущество".
Шарль сильно задел самолюбие Леоноры. Прибыв в замок очень поздно вечером, он еще до рассвета присоединился к охоте на кабанов. Охотники вернулись лишь поздней ночью. Шарль Вильре очень устал и после ужина, за которым ел молча, как какой-нибудь дикарь, пошел взглянуть на свою лошадь в конюшню и больше не появился в гостиной.
Шарль допустил еще одну на редкость большую неучтивость,- он с первого же дня догадался, что прекрасная Леонора видит в нем как бы своего будущего мужа. "Г-жа де Нентре настолько неосторожна, что могла поведать свои планы дочери",- говорили почтенные матери семейств, пытаясь прервать нашего хозяина, который рассказывал не спеша и обстоятельно, как мог уже заметить читатель. Когда же он вновь собрался взять слово после длительного перерыва, которому я обязан большинством приведенных выше подробностей, одна дама заявила:
- Она способна была сказать своей дочери: "Я бы предпочла молодого человека, у которого когда-то стояла в конюшне шестерка лошадей и который уже однажды разорился. Такой человек знает, как неприятно самому чистить лошадь".
Что бы там ни было, но Шарль в первые дни, казалось, понял в буквальном смысле приглашение г-жи де Нентре, которая его просила считать ее замок гостиницей, расположенной по соседству с прекрасной охотой. Но вскоре поведение его совершенно изменилось; он начал целые дни проводить в замке.
Что же произошло между ним и гордой Леонорой, между ним и г-жой де Нентре?
По-видимому, Шарль с самого начала понял, что мадмуазель де Нентре смотрит на этот брак, как на дело решенное - если только она соблаговолит дать свое согласие,- ведь его, Шарля, доход не достигает и трехсот луидоров, а ее - в двадцать раз больше. Вполне достоверно лишь то, что на десятый день пребывания в замке, за завтраком, когда речь зашла о браке, он заявил, что, как человек разорившийся, он отнюдь не собирается связать себя столь опасными узами. Эти слова были встречены глубоким молчанием.
Говорят, что с того дня он страстно влюбился в г-жу де Нентре, и если ему вопреки его натуре случалось заговаривать о себе и своих планах, то только потому, что он боялся, как бы у г-жи де Нентре не возникло ужасного подозрения, что его любовь хоть отчасти объясняется желанием пользоваться вместе с нею ее богатством.
- Госпожа де Нентре - самая простодушная и бесцветная женщина, она не делает чести своему состоянию,- заявила в тот вечер высокая и худая дама.- Можно было бы добавить, что она недостаточно умна, чтобы занимать такое высокое положение, и что касается меня, то я просто считаю ее дурой, несмотря на все ее кривлянья, с какими она время от времени высказывает свои парадоксы.
При этом великолепном словечке "парадоксы" каждому захотелось вставить в разговор что-нибудь свое, и я понял, что г-жу де Нентре, быть может, прельстило величайшее счастье больше не встречаться со столь красноречивыми людьми.
- Она никогда не была влюблена "как безумная", как можно было бы ожидать от "женщины с таким характером",- заявил в тот вечер один старый горбатый философ.- Ее первый брак, столь безрассудный, был для нее, возможно, браком по расчету. Ей было восемнадцать лет, и она решила, что с ее богатством ей в конце концов придется выйти замуж.
По-видимому, некоторые важные сведения о том, как окончилась вся эта история, стали известны через горничных. Девушки утверждали, что как-то вечером г-н Вильре, прогуливаясь по саду с г-жой де Нентре перед занавешенными окнами нижнего этажа, обратился к ней с такой речью: "Я должен, сударыня, сделать вам признание, весьма для меня унизительное из-за моей всем известной бедности. Я больше не могу надеяться на счастье, если вы, хотя бы в слабой степени, не ответите на страстную привязанность, которую я к вам питаю. Но могу ли я говорить вам о любви, не говоря о браке? А между тем, сколь унизительно это слово для разорившегося человека! Я не смогу отвечать за себя, став вашим мужем; боясь презрения, я способен на безумства. Если же деньги не будут стоять препятствием в нашем союзе, я сочту, что обрел наконец блаженство, притязать на которое мне казалось невозможным".
Посредством соответствующих актов, составленных по всей форме, и дарственных записей, принятых г-ном Жюжем, г-жа де Нентре передала дочери все свои земли, за исключением двух поместий. Одно из них она продала главному сборщику налогов за триста тысяч франков, в основном наличными деньгами, а второе сдала в аренду на десять лет. Она уехала в Англию, поручив свою дочь попечениям г-на Жюжа. Нет сомнения, что сейчас она именуется г-жой Вильре. Ее характер, обычно столь ровный, совершенно изменился в последнее время, как уверяют горничные. Сегодня вечером г-н Жюж присутствовал в гостиной; он более, чем когда-либо, посмеивался над всеми. Что касается меня, то я полагаю, что у г-жи Нентре были основания думать, что ее дочь влюбилась в г-на Вильре.
У дома префектуры, построенного в 1777 году, два фасада ионического стиля, которые в здешних краях считаются красивыми. Один из них выходит на долину Эрдра и очень мне не понравился уже на следующий день после моего приезда. Колоннада биржи, построенная, как мне кажется, при министре Крете* (одном из тех крупных работников, которых умел использовать Наполеон), состоит из десяти ионических колонн, поддерживающих антаблемент, украшенный десятью дрянными статуями. Противоположный фасад является подобием дорического портика с четырьмя жалкими статуями.
* (Крете (1747-1809) - государственный деятель, министр внутренних дел при Наполеоне. При Крете широко развернулось архитектурное строительство.)
Театральное здание украшает перистиль из восьми коринфских колонн, которые, подобно колоннам биржи и префектуры, совершенно лишены стиля. На эти восемь колонн водружены восемь бездарных статуй, изображающих муз. Которую же из муз, на ее счастье, позабыли? Характерная особенность архитектуры времен Людовика XV - это возведение колонн, которые на деле ничем не отличаются от обыкновенных столбов.
Мне пришлось еще осмотреть Естественно исторический музей, Монетный двор, Рынок зерна, Рынок холста, Дом капитула. Балкон этого последнего строения, по крайней мере, украшен четырьмя кариатидами в виде барельефов, выполненными, как утверждают, по рисункам Пюже; однако нантские градоправители приказали их соскоблить и закрасить. Не всякая скульптура смогла бы противостоять такому варварскому обращению; однако в этих фигурах еще и теперь можно обнаружить некоторую силу и энергию.
Что бы ни говорили, но француз, особенно в провинции, полностью лишен художественного чувства.
Спешу добавить, что он обладает храбростью, умом и юмором. Если вы усомнитесь в неблагоприятной части моего отзыва, пойдите взглянуть на две кариатиды на Соборной площади в Нанте.
Я полагал, что избавился от дальнейшего осмотра достопримечательностей этого города, однако пришлось ознакомиться еще с особняками Розмадека, О'Дербрука и Бриора. Меня слегка утешил во время затянувшегося исполнения этой повинности прелестный фасад в стиле Ренессанса около собора. Это здание .теперь используется весьма жалким образом: там хранятся деревянные гробы.
Круглая башня на Соборной улице свидетельствует о наличии старинных городских укреплений.
Я прибежал к себе, чтобы утешиться от созерцания стольких прелестей чтением мемуаров де Реца в одном томе, которые я сегодня утром обнаружил, проходя мимо книжной лавки. Потом, слегка оправившись, я вышел один. Нант в самом деле имеет вид большого города; мне очень нравится Королевская площадь, большая и правильной формы. Ее окружают девять массивных зданий, построенных по симметричному плану. Счастье Нанта, что мода благосклонно отнеслась к постройке прекрасных каменных четырехэтажных зданий, почти что одинаковых; трудно сыскать что-либо более красивое. Дрянные кварталы с деревянными домами, вторые этажи которых нависают над нижними, как в Труа, быстро исчезают. Во многих местах имеются красивые бульвары, состоящие из четырех рядов деревьев; вокруг - прекрасные дома. По правде сказать, бульвары эти безлюдны, а у домов печальный вид. Нередко я уходил читать на бульвар, расположенный почти против театра, хотя он и не виден с площади Грален. Его населяет бесчисленное множество певчих птиц*.
* (Мне сказали, что это дорога Генриха IV. Вечно Генрих IV! Преувеличение достоинств и особенно мнимой доброты этого ловкого гасконца, весьма завистливого по натуре, запрещавшего своим придворным читать Тацита из боязни, чтобы они не позаимствовали у него идеи независимости, не благоприятствующие королевскому авторитету, приведет к тому, что компетентные люди скажут всю правду о нем как о выдающемся полководце.)
Нант, 4 июля.
Поверят ли мне? Я не мог отказаться от вторичного лицезрения Нанта! Тяготы дружбы, даже и совсем недавней, зачастую сводят на нет ее радости. Обязанность смотреть со вниманием и каким-то подчеркнутым уважением на множество заурядных, лишенных стиля колонн наскучила мне до смерти. Долго я боролся с собой. С нами были дамы, и мой любезный чичероне взял ландо у одного из своих друзей. Невозможно быть более предупредительным. Но приходилось говорить, то есть лгать; в этом отношении я человек не своего века. В конце концов мужество меня покинуло: я мог бы согласиться на неприятную работу - снять, например, план или произвести разыскания в старинных рукописях. Но чтобы из-за лжи мне опротивели архитектура и пейзажи - это единственное утешение в моем одиночестве!.. Я сослался на приступ мигрени, и мой друг был настолько добр, что подвез меня к стоянке экипажей, где я нанял прекрасную лошадь, впряженную в нелепейший кабриолет. В этом дурацком экипаже я один объехал окрестности города. Писатель XVIII века не преминул бы здесь воскликнуть: "Природа не бывает нелепой!" Вид деревьев и лугов подействовал на меня освежающе: я увидел огромные луга, окаймленные холмами с виноградниками; я еще раз проехал по этой бесконечной улице, которая тянется мимо всех мостов через Луару; возможно, что она длиною в три четверти лье. Она очень скверно вымощена.
Заметьте, что, кроме лицезрения архитектуры эпохи Людовика XV, воплощенной в небольших постройках, которые не могут даже похвалиться своей многочисленностью, мне пришлось выслушать подробности, бесспорно преувеличенные, о всех родах промышленности и морской торговли, которые обогащали Нант до "роковой" революции. Роялистские газеты заставляют в этом направлении работать воображение людей западных провинций. Идеальную страну, где все было совершенством, "погубила революция"!
В течение последних нескольких лет Гавр стал портом Парижа и захватил все торговые операции, когда-то способствовавшие великолепию Нанта и Бордо. Потомки людей, ежегодно очень крупно зарабатывавших в этих городах, имеют теперь лишь очень скромный доход и, тем не менее, стремятся к роскоши, которой никогда не знали их отцы. Эти господа все время злобствуют.
- Разве мы парии? - говорили они мне сегодня вечером.- Разве Париж должен иметь все? Почему должны мы тратить все силы, чтобы давать пять процентов шестидесяти тысячам парижских рантье?
Жители Нанта и Бордо обвиняют Палату депутатов в том, что она, по их словам, в 1837 году не согласилась на постройку железных дорог, ибо пришлось бы тогда предоставить провинции часть парижских преимуществ.
- Ну что ж,- сказал я им,- вы бы тогда приезжали играть на бирже.
Эти господа утверждают, что Палата проявила большое невежество, но это невежество в отношении железных дорог характерно для всей Франции, тогда как в Льеже или Брюсселе все разбираются в этом вопросе. Разве вина Палаты, что Франция не имеет таких людей, как г-н Мёэс? Во Франции негоцианты зарабатывают деньги, следуя рутине, и насмехаются над политической экономией. Где найти негоцианта-миллионера, читавшего Сея, Мальтуса, Рикардо, Маколея? Отсюда следует, что, как только нужно заняться чем-нибудь новым, эти люди не знают, ни что сказать, ни что сделать. Должен заметить, что в вопросах, затрагивающих коммерческие компании, превосходство одного человека дела не решает; зависть быстро бы с ним расправилась. Надо, чтобы восемьдесят или сто человек были вооружены научными знаниями, были выше рутины.
Железные дороги способствуют торговле, однако, хотя благодаря им и возрастает число путешественников (как в омнибусах), они не создают никакого потребления, никакой новой отрасли торговли.
Преисполненный истинного уважения и глубокой благодарности к людям, с которыми я сегодня объезжал Нант, я обратил их внимание на то, что до революции, во времена расцвета Нанта и Бордо, в Париже было четыреста пятьдесят тысяч жителей, а не девятьсот восемьдесят тысяч, как теперь; в нем проживали крупные землевладельцы, которые по примеру герцога де Ришелье и епископа Авраншского старались нравиться дамам. Премьеры в Опере были для них самым важным делом; думать о своих делах являлось для них тяжелой обузой; никогда в их письменных столах не лежало и тысячи экю. В наши дни в Париже нет ни одного богатого человека, хоть раз в жизни не попавшегося на удочку ловкого болтуна без гроша за душой, который толкает его на какую-нибудь чрезвычайно выгодную спекуляцию. Эти богачи не интересуются дебютами в Опере, они заняты только Палатой, биржей и спекуляциями, в большей или меньшей степени абсурдными, в которые их втягивают краснобаи, служащие для них лекарством от скуки. Поскольку они излечились от увлечения Робер-Макерами, естественно, что эти богачи доверяют свои деньги ловким дельцам всех наций, которые съезжаются в Гавр; Нант и Бордо слишком далеки.
Этот столь тягостный день был бы совершенно невыносимым и мог бы даже внушить мне отвращение к путешествиям, если бы он не закончился спектаклем с участием Буффе. Я рассчитывал провести в театре лишь полчаса, но игра этого прекрасного актера, такая живая и естественная, удержала меня до конца. К тому же я ожидал г-на С., благородного отца, с которым мне очень хотелось побеседовать. Я полагал, что его глубокий ум будет лучшим лекарством от скуки; так оно и случилось. Нам было очень неудобно в первых рядах партера; все жаловались. Во время антрактов я обзывал себя дураком, что забрался туда. Вот одна из причин упадка драматического искусства: в театре так неудобно, что он теряет свое значение.
- Предпочитаешь прочесть трагедию Шекспира,- сказал г-н С,- чем видеть ее на сцене; и для тех, кто умеет читать, театр утрачивает интерес. Посмотрите на Париж, там большой и заслуженный успех имеют Амбигю-Комик и Порт-Сен-Мартен - театры, которые полны зрителей, не умеющих читать.
Читающим людям романы и газеты наполовину заменяют театр. Без него немыслима была жизнь общества во времена Колле, Дидро и Башомона (см. их мемуары). Эти большие изменения имеют следующие причины:
1. Присущая всем нелюдимость; предпочитаешь получать удовольствия, сидя у себя дома. Как только ты вышел из дому, приходится играть утомительную комедию или же ронять себя в глазах других людей.
2. "Андромаху" мы видели с Тальма. Не хочется портить яркое воспоминание от гениального образа.
3. В парижских театрах чрезвычайно неудобно; а с тех пор как нас покинула веселость, мы очень тяготеем к комфорту. Возможно, что пройдет тридцать лет, прежде чем мода решится приказать антрепренерам театров устраивать зрительные залы, наподобие зала Итальянской оперы в Лондоне; кресла там стоят на значительном расстоянии одно от другого.
4. Театр и обед враждуют между собой. Нужно наспех пообедать и, выйдя из-за стола, поспешить запереться в зале, разогретом человеческим дыханием. Для многих одного этого достаточно, чтобы парализовать разум и сделать его неспособным воспринимать какие бы то ни было удовольствия.
5. Сколь бы мало вы ни были одарены воображением, вы предпочитаете читать "Андромаху", выбрав минуту, когда ум полновластно господствует над той трухой, которая уживается рядом с ним. Когда же имеешь несчастье знать наизусть пятнадцать или двадцать хороших трагедий, с удовольствием читаешь романы, в которых есть прелесть неожиданного.
От драматического искусства останется, как я полагаю, лишь комедия, вызывающая смех. Смех возбуждается неожиданным и внезапностью сравнения, когда я сопоставляю себя с другим.
Радость моя учетверяется радостью соседа. В переполненном и наэлектризованном зале плоские шутки любимого публикой актера неоднократно вызывают смех после подлинно комических моментов пьесы. Следовательно, нужно видеть на сцене комедии Реньяра, а не читать их; нужно видеть на сцене "Проспера и Венсена", "Отца дебютантки"* и все фарсы, а кроме того, некоторые маленькие драмы: "Мишель Перен", "Бедный малый", "Господин Бланден" и т. п.
* ("Отец дебютантки" (1837) - водевиль Теолона; "Мишель Перен" (1834) - комедия Мельвиля; кому принадлежит пьеса "Господин Бланден", установить не удалось. Все это произведения незначительные и имевшие кратковременный успех.)
За этим почти единственным исключением театр утрачивает свое влияние.
6. Можно бы еще упомянуть о слишком ясных экспозициях, а также о других пошлостях, обусловленных присутствием разбогатевших людей.
В 1850 году публика будет ходить в театр, потому что ей будут предоставлены откидные кресла шириною в два фута с настоящими подлокотниками, как в Лондонской опере, и зрителю не придется убирать ноги, когда его сосед возвращается после антракта. Счастливый зритель сможет, когда ему будет угодно, пойти освежиться в огромное фойе; он будет уверен, что, возвращаясь на свое место, не потревожит своих соседей. Половина лож превратится в маленькие салоны с занавесками, наподобие лож в Сан-Карло, Ла Скала и во всех театрах страны, где цивилизация не есть плод феодализма и не требует, чтобы все ее удовольствия подчинялись лишь одной страсти - тщеславию.
Когда, проявив столь несложную заботу о зрителе, администрация обеспечит ему хорошее физическое самочувствие, она предложит его вниманию одноактную пьесу с музыкой, продолжительностью в один час, затем пантомиму с танцами в стиле пантомимы Вигано* - тоже на час и, наконец, еще одну пьесу с музыкой на час пятнадцать минут.
* (Милан с 1810 по 1816 год: "Отелло", "Весталка", "Прометей", "Беневентский дуб" и т. п.- главные шедевры этого великого артиста, неизвестного в Париже и, следовательно, в Европе. Благодаря свободе печати и возможности неожиданного, а ничуть не благодаря талантам наших ораторов в Вене, Берлине и Мюнхене не могут напечатать ничего столь увлекательного, как наши газеты.)
В особо важных случаях спектакль будет заканчиваться комическим балетом продолжительностью не более двадцати минут, причем мелодии будут брать из знаменитых опер. Публика сможет прослушать прелестные кантилены Чимарозы, Перголезе, Паэзиэлло и других великих музыкантов, которых из-за нашей любви к шуму, производимому оркестром, мы считаем холодными. Во времена великих живописцев Койпеля и Ванлоо в холодности обвиняли Рафаэля.
Четыре или пять раз в году, по случаю каких-либо особо памятных событий, будет даваться трагедия со всей роскошью, которую теперь допускают при постановке балетов. Трагедия будет сопровождаться комическим балетом.
В этот образцовый театр будут допускаться избиратели, члены академий, офицеры национальной гвардии - словом, все люди, внушающие доверие, которым будет предоставляться недорогой годовой абонемент. Зрители смогут по самым различным делам назначать друг другу свидания в театре, как это делается в Милане. Дамы будут принимать посетителей в своих ложах. Стоимость входного билета не превысит пяти франков.
Места в ложах шестого яруса, куда вы попадете по особой лестнице, будут стоить пятьдесят сантимов (так же, как в Милане - loggione*). Все шумливые люди пойдут в loggione.
* (Галерея, "галерка" (итал.).)
У меня не было времени побывать в Клиссоне, о чем я искренне сожалею: меня уверяют, что расположен он очень живописно. Там поселился г-н Како, бывший французский посол в Риме, и по его совету город, несколько раз сгоравший во время гражданских войн, был вновь отстроен из кирпича. Он несколько напоминает итальянские города.
Г-н де Б. уверял нас сегодня вечером, что теперь не поднять и ста бретонских крестьян на гражданскую войну, тогда как в начале Вандеи именно крестьяне приходили за аристократами в их замки и заставляли их брать на себя командование над ними.
Ванн, 5 июля.
Сегодня утром, в семь часов, я уехал из Нанта дилижансом, очень довольный этим большим, благородным городом. Холм, на котором он стоит, сообщает сильную отлогость многим его улицам, что придает им красоту и благоприятствует здоровью. Есть даже живописные виды около новой церкви, возвышающейся над Эрдром. Хотя в Нанте нет прекрасных готических памятников, которых такое множество в Руане, вид его несравненно благороднее.
Выехав из Нанта по Ваннской дороге, мы скоро оставили за собой последние сельские домики и оказались как бы потерянными среди обширной, совершенно бесплодной местности, поросшей одним вереском. Так мы проехали шестнадцать лье, самых унылых в мире, до Рош-Бернара. Я уже не ждал ничего от пейзажа и не давал себе труда на него смотреть; я был мрачен, обескуражен и совершенно не подготовлен к тому, что мне предстояло увидеть, когда возница спросил меня, не хочу ли я сойти на время переправы через Вилену.
Было уже пять часов пополудни, небо было затянуто черными тучами. Выйдя из дилижанса, я не увидел ничего привлекательного. Передо мной стоял жалкий домишко; я зашел туда погреться. Мне предложили выпить стакан сидра, и я согласился, чтобы заплатить за доставленное беспокойство.
Я не сделал и двухсот шагов, как был поражен одной из самых величественных картин природы, какие мне когда-либо доводилось видеть. Дорога здесь внезапно спускается в долину, дикую и унылую; в глубине этой узкой долины, которая кажется отстоящей на сто лье от моря, Вилена стремительно отступала перед натиском прилива. Зрелище этой непреодолимой мощи - море, заливающее до самых краев узкую долину, вместе с трагическим обликом обступивших это долину голых скал и еще виднеющейся вдалеке равнины - заставило меня предаться пылким мечтаниям, совсем не похожим на то состояние вялости, в котором я находился со времени выезда из Нанта. Само собой понятно, что я испытал впечатление и насладился им гораздо раньше, чем осознал его источник. Вернее, только сейчас, когда я пишу это, я отдаю себе в нем полный отчет. Я думал о "Битве тридцати"* и о тех немногих событиях из истории Бретани, которые я еще не забыл. Вскоре мне пришли на память самые лучшие описания Вальтера Скотта, Я наслаждался ими с упоением. Самое убожество местности - скажу больше, ее безобразие - только усиливало вызванное ею чувство; если бы пейзаж был красивее, он был бы менее грозным, часть души была бы поглощена ощущением его красоты. Моря совершенно не видно; тем неожиданнее появление прилива.
* ("Битва тридцати" - один из эпизодов гражданской войны в Бретани (1351 год). В этом сражении тридцать французов, сторонников Шарля де Блуа, победили тридцать англичан, сражавшихся на стороне графини де Монфор.)
В этот час умирающего дня, мрачного и печального, грозная и уродливая опасность, казалось, была начертана на каждой из низких скал, покрытых приземистыми деревцами, по берегам этой илистой реки. Лодочникам было очень трудно водрузить наш громоздкий дилижанс на свой небольшой паром. Подъем на Ваннский берег чрезвычайно крут, и я понял, что еще довольно долго смогу наслаждаться одиночеством. Две очень хорошенькие женщины, принадлежащие к зажиточному слою рабочего класса, также решили подняться в гору пешком; но моя сигара доставляет мне гораздо большее удовольствие, и я нарочно держусь в пятидесяти шагах от них и опекающего их старого родственника. У старшей, двадцатипятилетней вдовы, очень живой взгляд и явное желание заговорить. Конечно, если бы я был на десять лет моложе, я не предпочел бы ей трагические ощущения, навеянные отрывками из пришедших мне на память романов Вальтера Скотта. Пейзаж у переправы через Вилену кажется мне необыкновенно похожим на Шотландию - унылую, печальную, пуританскую, фанатичную,- такую, какой я ее представлял себе, пока не увидел. И это прежнее представление о ней я до сих пор предпочитаю действительности. Эта пошлая действительность, с отталкивающей страстью к деньгам и преуспеянию, не могла уничтожить во мне поэтического образа.
Следует отметить, что в шестистах шагах выше парома, направо, по направлению к Нанту, у самого склона холма, покрытого темной зеленью, виднеется прокладываемая здесь дорога, грунт которой выделяется белой чертой среди кустарника. У конца этой черты будет поставлен решетчатый мост высотой в сто пятьдесят футов над уровнем Вилены. Мне много говорили в Ванне об этом мосте, но только с финансовой точки зрения.
После долгого подъема пешком, во время которого порой накрапывал дождик, мы подошли к постоялому двору, отличающемуся, подобно английским постройкам, весьма небольшими размерами. От крыши дома до уровня земли - пятнадцать футов. Столовая, помещающаяся в нижнем этаже,- восьми футов высоты и десяти длины, окна, застекленные мелкими квадратами, уставлены прелестными цветами.
Хорошенькие бретонские служанки с исключительной услужливостью подали нам сносный обед, и тут мне волей-неволей пришлось познакомиться с молодыми попутчицами. С той минуты - прощай трагические ощущения. Много говорили о хозяине постоялого двора, кавалере ордена Почетного Легиона; он уехал в Ванн для участия в суде присяжных. Это бывший солдат республики, человек шести футов ростом. Служанка с благоговением показала нам красивый орден своего дяди, висящий в бельевом шкафу. Этот солдат республики, родившийся на другом конце Франции и обосновавшийся на берегах Вилены, вероятно, оказался здесь окруженным непрекращающейся враждой. Я представляю себе, что он, выходя на прогулку в поле, всегда берет с собой ружье под предлогом охоты. Через десять лет, когда перестанут его бояться, состоится его примирение с этими славными бретонцами. Вальтер Скотт часто описывал такой образ жизни, при котором легкое ощущение опасности отвлекает от однообразия и мещанской мелочности, заполняющих жизнь трактирщика в окрестностях Буржа.
По дороге от Вилены в Ванн местность становится очень красивой; попадаются деревья с ярко-зеленой листвой, и часто на протяжении этих десяти лье пути открывается вид на великолепную Морбиганскую бухту. Все же у меня хватило духа заняться чтением.
В Нанте я велел расшить толстый том мемуаров кардинала де Реца с тем, чтобы иметь их в виде отдельных листов. Я кладу два или три таких листа в тонкую папку и прячу ее под подушками экипажа.
Страницы с 65-й до 90-й говорят о том, что в 1648 году, во время малолетства Людовика XIV, Франция была близка к порядкам, введенным нынешним правительством: налоги обсуждались собранием из четырехсот человек, достаточно образованных и в большинстве своем не принадлежавших к знати. Оно отказалось утвердить новые налоги, предложенные первым министром. Оно потребовало, чтобы никто не содержался в тюрьме больше трех дней без допроса, и двор должен был согласиться с этим требованием. Существовала некоторая свобода печати; вспомним Мариньи. Победа Фронды легко могла бы привести к установлению такого режима.
Мазарини не знал никакого другого образа правления, кроме деспотизма, который он наблюдал при дворах мелких итальянских князей. Он восторжествовал: великий Конде и кардинал де Рец были брошены в тюрьму, а несколько лет спустя Людовик XIV ввел этот итальянский образ правления. Таким образом, если даже считать началом абсолютной монархии 1653 год, она просуществовала во Франции только 140 лет, с 1653 до 1793 года, при Людовиках XIV, XV и XVI.
В 1649 году великий Конде мог стать королем, если бы установил порядок, по которому налоги ежегодно утверждались бы парламентом из четырехсот членов. Он этого желал, но у него не хватило зрелости мысли, чтобы ясно представить себе такую возможность и воспользоваться обстоятельствами. К тому же знатность его происхождения моментами сбивала его с толку.
Приехав в Ванн, я, несмотря на крайнюю усталость, сейчас же стал расспрашивать о канале, ведущем к морю. Спуск к нему живописен; дорога в городе идет вдоль старинной крепостной стены и рва, расположенного на двадцать футов ниже дороги. Достигнув канала, я упорно продолжал идти вперед: я во что бы то ни стало хотел увидеть море, хотя от усталости готов был тут же лечь на землю. "В этом маленьком морском порту,- говорил я себе,- я найму лошадь или осла, чтобы вернуться в город". Пройдя огромное расстояние, я встретил даму, прогуливавшуюся с человеком, который явно был ей очень мил. Надвигалась ночь; под деревьями вдоль канала не было ни души, и я вынужден был спросить у этого господина, как только мог деликатнее, далеко ли еще до моря. Он ответил, что еще полтора лье.
Признаюсь, я был подавлен своим невежеством; а я-то воображал, что Ванн стоит почти у самого моря. В отчаянии я уселся на большой камень. При такой неосведомленности, сказал я себе, надо, по крайней мере, иметь мужество расспрашивать прохожих. Но должен сознаться в одной слабости: у меня такое отвращение к пошлости, что нить моих впечатлений сразу обрывается, если, осматривая новые пейзажи (а я именно для этого и путешествую), мне приходится справляться о дороге. Стоит только человеку, отвечающему на мой вопрос, оказаться напыщенным или нелепым, я думаю лишь о том, как бы над ним посмеяться, и прелесть пейзажа пропадает для меня навсегда. Я лишился большого удовольствия в..... возле Сен-Флура только потому, что был вынужден терпеть общество провинциального ученого, который называл Хлодвига Хлодовегом и, основываясь на этом названии, разглагольствовал об истории древних галлов до нашествия варваров. Я забавлялся, заставляя его говорить всякий вздор, например, открывать в восьмом веке источники господствующих теперь обычаев. В сущности, глупцом был я, так как оставлял без внимания прекрасные места, куда больше не вернусь.
Я дорого бы дал, чтобы на этих пустынных берегах Ваннского канала вдруг появилась какая-нибудь тележка: я был действительно уже не в состоянии сделать и ста шагов. Не будь здесь так сыро, я лег бы вздремнуть на четверть часа. В конце концов пришлось все же повернуть обратно в город, но каждые пять минут я присаживался, чтобы отдохнуть. Я набрел на матроса, убиравшего свою лодку; он, кажется, принял меня за вора, когда я, увидев в лодке бутылку, попросил его продать мне стакан вина. Крайнее утомление лишило меня возможности проявить учтивость, и он был, по-видимому, очень удивлен, когда я ему заплатил.
Я вернулся в гостиницу к ужину. За табльдотом все мои сотрапезники были заняты вопросом о стоимости нового моста через Вилену. Издержки были исчислены в девятьсот тысяч франков, но говорят, они возрастут до полутора миллионов. Присутствующие с видом глубочайшего уважения называли такие значительные суммы. Ничто, по моему мнению, не может быть забавнее .физиономии провинциала, когда он называет крупные денежные суммы, а затем после короткого молчания, выпятив нижнюю губу, покачивает головой. Эти господа - люди, впрочем, очень неглупые - утверждают, что сюда будет вновь приглашен г-н Ленуар, главный инженер, составивший смету на девятьсот тысяч франков. Я избавляю читателя от всех этих разговоров, вероятно, клеветнических, которые поднялись, как только была названа эта внушительная цифра в полтора миллиона франков.
Затем перешли к высокой политике; неосторожно посылать в эти провинции полки, офицеры которых связаны родством с местным дворянством. Тут разговор принял характер, крайне напоминающий разговоры в "Уэверли" и очень для меня интересный.
Этот чудесный в моем путешествии день, который начиная с Вилены был так полон неожиданных впечатлений, закончился только в час ночи, после глинтвейна, которому мы оказали честь. Я разговорился с одним местным негоциантом, человеком очень осведомленным в офической религии, или религии змея. От него я получил много сведений о знаменитых камнях Карнака, которые мне предстояло осмотреть на следующее утро.
По его словам, галльский oppidum*, так долго осаждавшийся армией Цезаря, находился на месте теперешнего Локмариакера. Вместо этой бедной деревушки здесь когда-то стоял Дариорикум. Утром, до отъезда, я осматривал Ваннский собор, где находятся могилы святого Винцента Феррье и епископа Бертена**.
* (Город (лат.).)
** (Бертен (ум. в 1823 году) - французский богослов и литератор.)
Оре, 6 июля.
Сегодня, в 5 часов утра, во время моего отъезда из Ванна в Оре, была настоящая друидическая погода. К тому же и вчерашняя усталость особенно располагала меня к ощущениям печали. Резкий ветер гнал тяжелые тучи, низко бежавшие по сильно омраченному небу; холодный дождь налетал порывами, почти останавливая лошадей. Под таким впечатлением я крепко заснул. В Оре я нашел небольшой кабриолет; он ничуть не защищал меня от этого враждебного человеку климата, и возница его оказался еще более печальным, чем погода. Мы тронулись в путь. Время от времени передо мной открывался унылый берег; серое море заливало вдалеке крупные песчаные отмели - истинный образ бедствия и опасности. Следует признать, что в таком окружении коринфская колонна показалась бы нелепостью. Проезжая мимо какой-нибудь маленькой заброшенной церкви, хотелось бы услышать звуки органа, чуть внятно модулирующего одну из жалобных кантилен Моцарта.
Мой возница, молчаливый и угрюмый, направил свой дрянной кабриолет к колокольне деревни Эрдевен, лежащей к северо-западу от перешейка того рокового Киберонского полуострова*, где одни французы на законном основании истребили столько других французов, сражавшихся против родины.
* (В 1795 году на Киберонском полуострове революционная армия под командованием генерала Гоша разбила войска эмигрантов, высадившиеся в Бретани и поддержанные английской эскадрой и отрядами шуанов. Этим эпизодом закончился длинный ряд вандейских контрреволюционных восстаний на севере и западе Франции.)
Если оставить в стороне мрачную катастрофу, последовавшую за этим сражением, то, с военной точки зрения, оно является примером борьбы старых военных приемов с новыми.
Общий вид местности угрюм и печален; все бедно, все говорит о крайней нужде. На этой равнине возделаны только отдельные участки; они окружены невысокими стенами сухой каменной кладки.
В пятистах шагах от унылой деревни Эрдевен, возле фермы Керзерхо, впервые открываются вдали гранитные глыбы, возвышающиеся над изгородями и стенами сухой каменной кладки. По мере приближения к ним ум охватывает страстное любопытство. Вы стоите перед одной из самых таинственных загадок в истории Франции. Кто расставил здесь эти двадцать тысяч гранитных глыб в таком строго определенном порядке?
Я говорил себе: если бы какой-нибудь ученый открыл этот секрет, ключ к которому, по всей вероятности, навсегда потерян, передо мной предстали бы нравы варваров. Я услышал бы о кровожадном культе, о воинах, столь же храбрых, сколь и тупых, подчиняющихся лицемерным жрецам. Разве не в этом же крае в наши дни крестьянин яростно бросался в бой, когда его убедили, что декрет Конвента о разводе обязывает его расстаться с любимой женой?
Мы вскоре подъехали к нескольким параллельным рядам гранитных глыб. Стоя под холодным дождем, бившим мне в лицо и пропитывавшим мой плащ, я насчитал десять аллей, составленных из одиннадцати рядов глыб (отдельно стоящая глыба гранита называется пельвен). Самые большие глыбы достигают пятнадцати - шестнадцати футов, в середине аллей они не более пяти футов, большинство даже не выше трех. Но часто среди этих пигмеев неожиданно попадается глыба в девять - десять футов. Все они не обработаны, они просто лежат на земле. Некоторые из них уходят в землю на пять - шесть дюймов. Есть такие, до которых, по-видимому, даже не касались: они лежат, врастая в почву там, где были брошены природой.
Надо отметить, что на эти сооружения не пришлось затратить много труда. Эрдевен, как и Карнак, стоит на обширном пласте гранита, едва покрытого тонким слоем чернозема.
Аллеи имеют около пятисот туазов длины. Они, по-видимому, проведены по направлению к пригорку более или менее округлой формы, высотой в двадцать пять футов, с приплюснутой верхушкой. Аллеи подходят к его подножию и, оставляя его слева, тянутся дальше по прямой линии еще на несколько сот футов. Достигнув маленького озера, вернее, лужи, они, обойдя ее, слегка отклоняются к северо-востоку, потом, примерно на сто туазов дальше, возвращаются к первоначальному направлению. К востоку высота глыб значительно возрастает. Аллеи оканчиваются на расстоянии несколько менее девятисот туазов от Керзерхо. Здесь высится тумулус*.
* (Если читатель найдет достойными внимания кельтские или друидические памятники, советую ему запомнить следующие пять слов: менгир, пельвен, дольмен, тумулус, галгал.
Менгир - название, даваемое в Бретани крупным стоячим камням, которые гораздо больше в длину, чем в ширину.
Пельвен - обозначает стоячие камни небольшой величины.
Дольмен - буквально "каменный стол", иногда это - вертикальный камень, поддерживающий другой в горизонтальном положении, подобно заглавному Т. Часто несколько вертикальных камней служат опорой для одного горизонтального.
Всем известно, что латинским словом тумулус обозначают земляные холмы, воздвигнутые человеческими руками и прикрывающие, как полагают, места погребения.
Галгал - искусственное возвышение, состоящее в основном из нагроможденных камней или булыжника.)
Впечатление от этой вереницы древних камней еще усиливается чувством, возбуждаемым близостью мрачного моря.
Мы поехали под непрекращающимся дождем в жалкую деревушку Эрдевен, чтобы погреться у огня и дать несчастной лошади несколько пригоршней овса. Оттуда при усилившемся дожде и ветре мы добрались до Карнака. Я нашел там такие же ряды гранитных глыб, настолько похожие на глыбы Эрдевена, что, описывая их, пришлось бы употребить те же слова. Они тянутся с запада на восток.
Местность близ Карнака и Эрдевена, возможно, считалась священной землей, поскольку еще и теперь, после стольких столетий, она покрыта огромным количеством гранитных глыб. Рука человека заставила изменить их естественное положение.
Так же, как камень Куара в Отене, как римские акведуки возле Лиона, все эти ряды гранитных глыб послужили крестьянам каменоломней. Более двух тысяч камней были разрушены в окрестностях Карнака за последние годы. В земледелии, оживившемся после революции даже на этом диком берегу, они используются для постройки каменных оград. Жители Эрдевена беднее, чем жители Карнака, поэтому они разрушили меньше гранитных глыб.
Я забыл отметить, что все эти глыбы, по-видимому, не были обтесаны, хотя бы даже грубо; многие имеют двенадцать футов высоты на семь - восемь футов в диаметре. Строители тех варварских времен, исходя из своего представления о красоте или, вернее, подчиняясь требованиям религиозного ритуала, устанавливали эти камни более узким концом к земле, то есть самым неестественным образом.
Жители этого края выглядят печальными и хмурыми. Я спросил, что здесь думают об этих странных памятниках. Мне ответили,- как если бы речь шла о вчерашнем событии, - что святой Корнелий, преследуемый целой армией язычников, бежал от них к берегу моря. Не найдя там лодки и видя, что его настигает погоня, он обратил в камни преследовавших его солдат.
- По-видимому,- сказал я,- эти солдаты были очень толсты или же сильно распухли и потеряли человеческие формы перед тем, как превратиться в камни.
На это последовали косые взгляды.
Все объяснения, предложенные учеными, не менее нелепы, чем объяснения крестьян.
1. Эти аллеи - остатки лагеря Цезаря. Камни служили для того, чтобы удерживать на месте палатки во времгя яростных ветров, дующих на этом побережье.
2. Это обширные кладбища. Самые крупные глыбы стоят на могилах вождей. Для простых солдат ставили камень трех футов в высоту. По-видимому, конические тумулусы, разбросанные кое-где вокруг аллей,- надгробия царственных особ. У Оссиана сказано, что на могилах воинов всегда водружался серый камень.
Поскольку в этих правильно проведенных рядах не менее двадцати тысяч камней, здесь должны быть погребены двадцать тысяч покойников. Наши предки ставили камни для обозначения всех достопримечательных мест, а не только одних могил. Это был очень разумный обычай.
3. Мода, которая создает репутацию учености изобретателю господствующей бессмыслицы, ныне, в Англии, склоняется к тому, что такие аллеи - остатки огромного храма, памятник религии, царившей некогда повсеместно и посвященной культу "змея". К несчастью для этого предположения, никто до сих пор не слышал об этом всемирном культе.
Все религии, за исключением истинной, то есть той, которую исповедует читатель, основаны на страхе большинства и ловкости отдельных лиц. Поэтому вполне понятно, что хитрые жрецы избрали змея как эмблему ужаса. Действительно, в истории всех религий мы с первых же слов встречаем упоминание о змее.
Он имеет то преимущество, что поражает воображение больше, нежели орел Юпитера, агнец христианства или лев святого Марка. Его сила - в странности его образа, в его красоте, в яде, который он несет в себе, в его зачаровывающем взгляде, в неожиданности его появления, подчас рокового. Вот почему змей нашел себе место во всех религиях. Но ни в одной он не стал главным божеством.
Предположим на минуту, что "офическая" религия действительно существовала. Как доказать, что длинные ряды гранитных глыб Эрдевена и Карнака представляют dracontium, то есть храм этой религии? Ответ ученых торжествующе прост: волнистые линии пельвенов изображают извивы ползущего змея. Итак, храм является одновременно и изображением самого божества.
Несомненно, только религия или деспот, повелевающий тысячами подданных, могли создать такой гигантский памятник. Но первый народ на землях Бретани, который известен исторической науке,- это галлы времен Цезаря. А вы знаете, что всадники (аристократия галлов) отличались гордым и нетерпеливым нравом.
Это доказывает, по-моему, что в течение многих веков в этой стране не было никакого могущественного деспота. Иначе как могла бы не сохраниться в сердцах на долгий ряд столетий низость, порождаемая деспотизмом, теми правилами, которыми он извращает дух народа?
Если бы и не было памятников, разве низость душ сама по себе не свидетельствует о породившем ее деспотизме? Вспомните Азию. Значит, именно религиозному культу следует приписать все эти "стоячие" камни во Франции и в Англии.
Чрезвычайно странно, что Цезарь, который вел войну в окрестностях Локмариакера, ничего не говорит о гранитных рядах Карнака и Эрдевена. Только в посланиях епископов, подвергающих запрещению эти памятники религии-соперницы, история впервые встречается с упоминанием о них. Позднее был издан ордонанс Карла Великого об их уничтожении.
Может быть, эти длинные ряды гранита были сложены в промежутке в восемьсот пятьдесят лет между нашествием Цезаря в Галлию и царствованием Карла Великого?
Но, судя по многим надписям, галлы, по-видимому, довольно скоро приняли культ римских богов*. Нельзя ли из этого заключить, что религия друидов уже тогда начала терять прежнее значение?
* (Сборник панегириков, произнесенных около IV века.)
Не относятся ли памятники Эрдевена и Карнака к более ранней эпохе, чем эпоха Цезаря, а может быть, даже эпоха друидов?
Когда я рассматривал эти памятники, мне припомнились немногие страницы, посвященные Цезарем этим ловким жрецам. Я не придаю значения исследованиям новых времен: так велико мое пренебрежение к "логике" ученых, появившихся позднее семнадцатого века. Приведу несколько страниц из Цезаря. Пусть их пропустят читатели, не интересующиеся нравами наших предков. Остальные предпочтут найти здесь эти выдержки из сочинения Цезаря, чем искать их в шестой книге "Галльской войны".
"§ 13. В Галлии есть только два класса людей, пользующихся известным влиянием, тогда как основная масса населения находится на положении рабов, лишена всякой самостоятельности и не допускается ни на какое собрание. Большинство галлов низшего класса, обремененное долгами, огромными налогами, страдающее от притеснений сильных, добровольно отдается в рабство знатным, которые приобретают над ними всю власть господина над рабом. Таким образом, есть только два привилегированных класса - друиды и всадники.
"Друиды, служители богов, одни только имеют право совершать жертвоприношения, общественные и частные, они являются истолкователями религиозных догматов. Стремление к науке привлекает к ним множество молодых людей, которые относятся к ним с благоговением. Более того, им принадлежит судебная власть почти по всем делам, как публичным, так и частным.
"Совершено ли преступление, обнаружено ли убийство, возникла ли тяжба о наследстве или о рубежах,- решение выносится друидами*. Если кто-нибудь, будь то частное или должностное лицо, осмелится не подчиниться решению, они отстраняют его от жертвоприношений. Это у галлов самая страшная кара. Те, на кого она падает, считаются безбожниками и преступниками. Все избегают встреч и разговоров с ними, как с зараженными прилипчивой болезнью. Они лишены права судебной защиты и не допускаются ни к каким почетным должностям.
* (Таким образом, в руках друидов судебная власть. Они же распределяют награды. Их могущество подготовило почву для могущества епископов.)
"Друиды имеют только одного главу, и власть его безгранична.
"После его смерти ему наследует наиболее достойный из жрецов. Если же оказывается несколько лиц с одинаковыми заслугами, то происходят выборы, и спор разрешается голосованием друидов. Иногда первенство оспаривается силой оружия. В определенное время года друиды собираются в освященном месте, на границе страны "карнутов". Эта страна считается центром всей Галлии. Сюда стекаются со всех сторон тяжущиеся; решениям и постановлениям друидов они беспрекословно подчиняются.
"Полагают, что религия друидов зародилась в Британии и оттуда проникла в Галлию. И в наши дни тот, кто хочет основательнее с ней познакомиться, отправляется для этого в Британию.
"§ 14. Друиды не участвуют в войне и не платят ни одного из установленных в Галлии налогов. Они освобождены от военной службы и от всякого рода повинностей*. Соблазненные такими привилегиями, многие галлы приходят к ним по собственной воле, другие - по принуждению родственников. Новообращенных заставляют заучивать наизусть множество стихов, и для некоторых обучение продолжается двадцать лет. Записывать эти стихи запрещено. В большинстве других дел, общественных и частных, галлы пользуются греческим алфавитом. Обычай же друидов, как мне кажется, преследует две цели: первая - чтобы их учение не стало общедоступным, и вторая - чтобы их воспитанники, полагаясь на записи, не пренебрегали развитием памяти. Действительно, там, где находят опору в записях, меньше стараются запоминать наизусть. Основное, что друиды настоятельно внушают,- это верование в бессмертие души, которая, по их учению, переходит из одного тела в другое. Они считают, что это верование, устраняя страх смерти, возбуждает храбрость. Движения небесных светил, необъятность вселенной, величина земли, природа вещей, сила и могущество бессмертных богов - вот предметы их обсуждений и уроков, которые они преподают молодежи".
* (Священники десятого века и времени расцвета христианства занимали значительно худшее положение по сравнению с друидами. Эта корпорация нашла, по-видимому, наиболее полное разрешение проблемы эгоизма.)
Цезарь, признанный мастер в искусстве обмана, писал о галлах то, что ему было выгодно внушить римлянам. Но я не вижу, какой смысл ему было обманывать римскую знать в вопросе о друидах. Разве только заподозрить здесь какой-нибудь "скрытый сарказм", как в "Нравах германцев" Тацита?
Цезарь более известен французским крестьянам, чем все ничтожные властители, которые управляли страной позднее, в течение десяти или пятнадцати столетий. Горе тому, кто усомнится в подлинности какого-нибудь местного лагеря Цезаря! В настоящее время бретонские ученые одержимы яростной злобой к тому иностранцу, который имеет низость говорить о повешенных во множестве сенаторах "Дариорикума" (в Ванне или в Локмариакере).
Галлы определяли время счетом ночей. Следы этого обычая сохранились еще во многих местных наречиях Франции. И англичане до сих пор говорят "fortnight" вместо четырнадцати дней. Это остатки культа луны.
Вчера вечером, возвращаясь в Оре, я заметил множество деревенских кабриолетов, на которых были нагромождены целые семьи, иногда из шести человек. Жалкая лошаденка с длинной грязной гривой тащила этот груз. Сзади каждого кабриолета был привязан матрац, под осью качалась кастрюлька, сбоку были прикреплены по три или четыре корзины.
- Разве теперь сезон переездов? - спросил я у своего проводника.
- Вовсе нет, сударь, они едут благодарить за полученную милость.
- Что вы хотите этим сказать?
- Сударь, это паломничество к нашей заступнице, святой Анне.
Тут проводник рассказал мне историю маленькой посвященной святой Анне часовни в двух лье от Оре, к которой стекаются со всех концов Бретани.
Вечером, подавая мне ужин, хозяйка гостиницы объяснила мне, что Бретань обязана редкими урожаями, еще выпадающими на ее долю в эти несчастные и нечестивые времена, только покровительству своей доброй заступницы, святой Анны, которая охраняет ее с высоты небес.
- Только благодаря ей,- прибавила она,- русские не пришли нас грабить в 1815 году. Кто мог бы помешать им явиться?
- Да, да,- сказал мне, как только хозяйка вышла, какой-то человек, ужинавший вдвоем со мною за большим столом на двадцать пять приборов, уставленным стопками тарелок, - да, да, одного только она вам не сказала, наша милейшая госпожа Бланнек: что маленькая часовня святой Анны Орейской принесла в прошлом году епископу около тридцати тысяч франков дохода.
Одним словом, мой собеседник оказался настоящим ультралибералом, видящим в религии и в мошенничествах иезуитов источник всех наших политических бедствий. Такова Бретань, по крайней мере, та, которую я наблюдал: либо это фанатики, верящие всему, либо люди с рентой в тысячу франков, очень сердитые на виновников гражданской войны 93 года.
Та часть Бретани, где говорят по-бретонски,- от Эннебона до Жослена и морского побережья,- питается лепешками из гречневой муки, пьет сидр и строго придерживается указаний своего кюре. Мне доподлинно известно, что мать одного знакомого землевладельца, имея ренту в пятьдесят тысяч франков, питается этими гречневыми лепешками и признает за истину только то, что возвещает ей кюре.
Солдаты, вернувшись после пятилетней службы домой, тотчас же забывают все, чему научились в полку, включая те сто или двести французских слов, которые им вдолбили в голову.
Этот любопытный народ, отличающийся такой храбростью, заслуживает того, чтобы правительство поселило среди самой отсталой части населения две колонии разумных эльзасцев. Славный человек, слова которого я сейчас привел, сказал мне со вздохом, что бретонский язык постепенно исчезает.
- В скольких приходах,- спросил я его,- кюре читают проповеди на бретонском наречии?
Это был один из тех вопросов, которые доставляют удовольствие префектам. Но мой добряк, знающий только то, что он наблюдал лично, не мог на него ответить.
Я записал под его диктовку на бретонском наречии те восемь или десять вопросов, с какими мне, может быть, придется обращаться к крестьянам во время пребывания в этой стране. Бретонский относится к кимрским языкам.
У меня явный талант привлекать благосклонность и даже доверие незнакомых. Но через неделю их дружба быстро идет на убыль и сменяется холодным уважением.
Лориан, 7 июля.
Сегодня рано утром я отправился в часовню святой Анны. Дорога к ней плохая, и сама часовня ничем не замечательна. Но чего я никогда не забуду, это выражения глубокой веры на лицах всех молящихся. Я видел мать, которая, давая своему четырехлетнему малютке шлепка, сохраняла при этом благочестивое выражение лица. Правда, вы не встретите здесь фанатических, пылающих глаз, как в Неаполе перед статуей святого Януария, в тот момент, когда Везувий дышит угрозой. Тут у всех молящихся тусклый и упорный взгляд, свойственный упрямой душе. Костюм крестьян дополняет это впечатление: они носят синие необъятной ширины штаны и такие же куртки, и их бесцветные светлые волосы подстрижены в кружок на уровне мочки уха.
Сюда должны были бы приезжать за натурой молодые парижские художники, имеющие несчастье ни во что не верить и получившие от министра, такого же твердого в вере, как они сами, заказ на картины с изображением чудес - картины, которые подвергнутся затем в Салоне суду публики, верующей только из политических соображений. То выражение душевного склада, а не просто преходящей страсти, которое я заметил у молящихся в часовне святой Анны, можно сравнить только с тем, которое я видел в Тулузе на лицах, дышавших упрямым и жестоким фанатизмом.
Мне чрезвычайно понравились пейзажи по дороге от Ландевана к Эннебону и к Лориану. Порой вдалеке виднелись леса. Эти бретонские пейзажи с сырой и яркой зеленью напомнили мне Англию. Во Франции контуры лесных верхушек образуют в небе ряд мелких зубцов; в Англии эти контуры составлены из крупных округлых масс. Не потому ли, что в Англии больше старых деревьев?
Вот мысли, занимавшие меня в дилижансе от Эннебона до Лориана.
Не знаю, согласится ли со мною читатель, но я считаю, что главное зло нашего времени - это гнев и бессильная злоба. Эти недостойные чувства подавляют веселость, свойственную французскому темпераменту. Я бы хотел, чтоб от них излечились, и вовсе не из жалости к врагу, который может от нее пострадать, а из жалости к самим себе. Забота о собственном счастье кричит нам: "Гоните злобу, особенно же бессильную злобу!"*.
* (Что больше всего старит тридцатилетних женщин, это злобные страсти, написанные на их лицах. Женщины, влюбленные в любовь, стареют позднее именно потому, что это владеющее ими чувство предохраняет их от бессильной злобы.)
Я слышал от знаменитого Кювье на одном из любопытных вечеров, где собирались его французские друзья вместе с избранными иностранцами: "Хотите вы излечиться от того довольно обычного отвращения, которое внушают черви и крупные насекомые? - Изучайте их любовные нравы, научитесь понимать поступки, которые они совершают весь день на ваших глазах, чтобы найти себе пропитание".
Из этого указания человека исключительно разумного я сделал вывод, оказавшийся мне очень полезным во время моих путешествий. Хотите излечиться от отвращения к продавшемуся власти ренегату, который с подозрительным видом проверяет ваш паспорт и старается хотя бы наговорить вам обидных вещей, если уж он не может повредить вам более серьезно? Задумайтесь над жизнью этого человека. Вы увидите, быть может, что, подавленный всеобщим презрением, в постоянном страхе палки или кинжала, как тиран, но тиран, не пользующийся наслаждением власти, он забывает гнетущий его страх только в те минуты, когда может причинить кому-нибудь страдание. Тогда, на одно мгновение, он чувствует себя могущественным и перестает ощущать стальные шпоры оседлавшего его страха.
Конечно, не всем приходится выслушивать дерзости иностранных полицейских; можно отказаться от путешествий или ограничить их приятными поездками в Т... Но после битвы при Ватерлоо, направившей Францию на путь свободы, мы и в своей среде легко подвергаемся мерзкой и заразительной болезни - бессильной злобе друг против друга.
"Вместо того, чтобы ненавидеть мелкого книгопродавца из соседнего местечка, продающего "Народные альманахи",- сказал я своему другу, г-ну Ранвилю,- примените лекарство, указанное знаменитым Кювье: отнеситесь к нему как к насекомому. Осведомьтесь о его средствах к существованию; постарайтесь угадать его манеру любить. Вы поймете, что если он по всякому поводу громит знатных, то это просто способ продавать "Народные альманахи". Каждый проданный экземпляр приносит ему два су, и, чтобы заработать тридцать су на обед, ему надо продать пятнадцать альманахов в день. Вам-то, господин Ранвиль, с вашими одиннадцатью слугами и шестью лошадьми, не приходится думать о таких вещах".
Я бы сказал мелкому книгопродавцу, который багровеет от злобы и поглядывает на свое ружье национального гвардейца, когда горничная из замка передает ему, какие шутки позволил себе накануне блестящий Эрнест де Т. насчет людей, работающих ради хлеба насущного:
"Отнеситесь к блестящему Эрнесту как к насекомому; представьте себе его манеру любить. Ведь он старался блеснуть остроумием только потому, что хочет понравиться молодой баронессе де Маливер, сердце которой оспаривает у него инженер управления мостов и дорог этого округа. Молодая баронесса очень знатного рода и воспитана в семье ультрароялистов. К тому же, высмеивая людей, работающих ради хлеба насущного, Эрнест ощущает еще то удовольствие, что косвенно задевает при этом своего соперника-инженера".
Если бы мелкий книгопродавец, сбывающий "Народные альманахи" в этом местечке, где всего тысяча четыреста жителей, имел терпение проследить ход моих мыслей и убедиться в истине тех фактов, которые я последовательно изложил, он через четверть часа почувствовал бы в себе меньше бессильной злобы против блестящего Эрнеста де Т.
Ведь г-н Ранвиль так же бессилен уничтожить книгопродавца, как и книгопродавец не может уничтожить богатого дворянина. Всю жизнь они будут коситься друг на друга и устраивать друг другу каверзы. Книгопродавец убивает всех зайцев.
Мне приходят в голову все эти мысли с тех пор, как я стараюсь не унижаться до злобы к беднягам, которые всю жизнь глотают оскорбления и визируют за границей мой паспорт. Затем я попытался уничтожить в себе бессильную злобу и против тех благовоспитанных людей, встречающихся в обществе, которые зарабатывают на жизнь или создают себе успех у дам, насмехаясь над самыми священными для меня истинами, над тем, ради чего стоит жить и умереть. С год тому назад я однажды оказался в обществе человека, доказывавшего, что Наполеон был лишен личной храбрости и что притом его имя было Никола. Чтобы не выйти из терпения, я стал обдумывать, принадлежит ли этот человек к гэлам или к кимрам. Негодяй был иберийцем.
Гэл, как мы видели это в Лионе, отличается округлыми формами, имеет крупную голову, расширяющуюся к вискам. Он невысок ростом, обладает большим запасом жизнерадостности, постоянно весел.
Кимр смеется редко. У него изящная фигура, суженная к вискам голова, хорошо развитый череп, очень благородные черты лица, правильной формы нос.
Стоит только заняться изучением человеческих типов, как свет исчезает, оказываешься во мраке. На мой взгляд, нет ничего хуже, чем отсутствие ясности - свойство, столь драгоценное для тех, кому платят за проповедование абсурдов. Что же касается нас, то, пытаясь изложить данные только что возникшей науки, мы должны всем жертвовать ради ясности и смело пользоваться даже самыми грубыми сравнениями.
Все знают, что такое овчарка. Знают также датского дога, длинномордую борзую, великолепного спаньеля. Любители скажут вам, как трудно найти собаку чистой породы. Выродившиеся животные, которыми полны улицы, произошли от случайного смешения различных пород. Часто эти жалкие существа еще - больше вырождаются под влиянием недостатка в пище и других лишений.
Несмотря на это неприятное сопоставление, то, что было сказано о собачьих породах, вполне применимо и к человеческим расам. Только собака живет пятнадцать лет, а человек - шестьдесят,- потому у собак было вчетверо больше времени для изменения первоначальных пород. Человеческий род выделил только два резко разграниченных типа - негра и белого. Да и то им обоим свойствен приблизительно одинаковый рост и вес.
Собачьи породы, напротив, включают и маленькую собачку высотой в три дюйма и сенбернара в три фута.
Все эти мысли, так пространно здесь изложенные, были у меня и до приезда в Бретань; они усилили мое желание там побывать.
Я говорил себе, что в таких отдаленных местах больше шансов встретить людей чистого типа. Разве крестьянин из других частей Франции мог бы существовать и освоиться в какой-нибудь деревне Морбигана, где все говорят по-бретонски и питаются гречневыми лепешками?
Насладившись прекрасными видами Вилены, я остановился пообедать возле самой вершины подъема, у трактирщика - кавалера ордена Почетного Легиона, человека, приехавшего сюда издалека. В Лориане единственный из местных коммерсантов, с которым я имел дело, был уроженцем Бриансона в Верхних Альпах. Дети этого коммерсанта имеют шансы оказаться выдающимися людьми: скрещивание. Но, по всей вероятности, они не будут обладать ясно выраженным типом определенной расы. Они не будут ни гэлами, ни Кимрами, ни иберийцами. Иберийцы распространились по берегу моря до самого Бреста.
Когда хочешь определить, принадлежит ли человек к гэлам, кимрам или иберийцам, следует одновременно учитывать физические признаки - строение головы и тела - и его обычный образ действий в погоне за счастьем.
Что касается меня, то сегодня утром я искал счастье, стараясь определить, к какому же типу относятся многочисленные богомольцы, собравшиеся в часовне святой Анны близ Оре. Я обосновался в кухне трактира и сам готовил себе чай. Пока грелась вода, я пошел в часовню. Мне сразу бросилось в глаза, что у бретонцев - будь они в часовне или в кухне трактира - нет и следа тех черт, которые поражают в Неаполе. Я вспомнил пламенный фанатизм неаполитанца, те взгляды яростной любви и гнева, которые он бросает на икону своего божества - святого Януария. Если святой не захочет ниспослать выздоровление его корове или его дочери или же благоприятный ветер ему самому, когда он выходит в море, он обзывает святого Януария "зеленолицым" (faccia verde), что считается грубейшим ругательством в том крае.
Бретонец далек от подобных крайностей. Глаза у него, как у большинства других французов севера, невыразительны и малы. В них видно только непреодолимое упрямство и беззаветная вера в святую Анну. Чаще всего сюда приходят молиться о выздоровлении ребенка и, если возможно, приводят с собой и ребенка. Я заметил трогательное выражение во взглядах некоторых матерей.
Подхожу к самой трудной части науки о трех человеческих расах, живущих на французской земле. Повторяю, в таком изучении - единственное известное мне лекарство против того рокового недуга бессильной ненависти, который охватил французов с тех пор, как убийство маршала Брюна повергло нас вновь в эпоху кровопролитных революций.
Начиная со второй половины восемнадцатого века были предложены три метода познания человека: изучение физиономии, или метод Лафатера; изучение формы и величины мозга, которые определяют строение черепных костей, или метод Галля; и, наконец, углубленное изучение типов - гэлов, кимров и иберийцев (ведущееся во Франции).
Сохрани меня, боже, требовать, чтобы читатель верил мне на слово. Я прошу его проверить, правильны ли мои утверждения. Разумный человек верит только тому, что видит собственными глазами, да еще пристально всмотревшись.
Наполеону было бы крайне важно разгадывать людей с первого взгляда. Ему приходилось подчас давать крупные назначения людям, которых он видел только один раз, и, по его словам, он всегда впадал в ошибки, если составлял свое суждение по внешним признакам.
Лицо сэра Хедсона Лоу с первой же встречи внушило ему отвращение, но это было подсказано инстинктом. К несчастью, он был очень подвержен такого рода слабости - следствие итальянских впечатлений раннего детства. Колокола Рейля дорого обошлись Франции.
Если читатель пожелает вспомнить отличительные признаки трех человеческих типов, которые чаще всего встречаются во Франции, и посетит когда-нибудь Бретань, он, полагаю, согласится с тем, что иберийцы распространились там почти до Бреста: на этом побережье их можно встретить наряду с Кимрами и гэлами. Кимры часто походят на пуритан; они ненавидят пение, а если пляшут, то как бы нехотя и с комической серьезностью, как я наблюдал это в***. Иберийцы, напротив, помешаны на пении и особенно на пляске. Это - и прежде всего их страсть к женщине - самые характерные их черты. Если когда-нибудь женщины в Мадриде займутся политикой, они будут руководить правительством.
В Морбигане гэлы многочисленнее иберийцев и кимров. В Финистере преобладают иберийцы, а на северном побережье от Морле и Ланниона до Сен-Мало - кимры. Именно там, на северном побережье, у беспредельного океана, говорят на самом чистом бретонском языке. Там же бретонская народность встречается в своем наиболее чистом виде. Смелость, которую эти люди, почти сплошь моряки, выказывают на своих хрупких рыбацких лодках, кажется просто сверхъестественной. Они в бою летом дважды в месяц, а зимой - каждый день. В большинстве тамошних церквей есть часовня для поминовения усопших.
Возле Кемпера слышишь бретонский язык с "испанским акцентом", в стране называют эту местность Корнуай.
Есть основания предполагать, что гэльский язык был разговорным в Морбигане до прихода кимров. И сейчас еще в этом департаменте часть населения называют gallos.
Существует предположение, что гэлы занимали большую часть Франции, пока туда не явились кимры, пришедшие из Дании. Ученые решаются утверждать, что гэлы - выходцы из Азии. Эти недоказанные предположения об отдаленнейшем прошлом народов основаны на строе их языков, которые в современной науке именуются "индо-германскими".
Отличительная особенность диалекта, на котором говорят в Морбигане, и наречий, происходящих от гэльского языка, в том, что концы слов или середина их опускаются, как это делают и португальцы, язык которых происходит от латинского. Странное явление! Гэлы, перейдя на язык кимров, сохранили отчасти прежние языковые особенности.
С другой стороны, появление кимров и иберийцев в Морбигане очень сильно повлияло на характер гэла. Вы уже знаете, что люди этой народности отличаются врожденной живостью, пылкостью, безрассудством. А между тем здесь- они приобрели степенность и упорство, каких не встретишь в других частях Франции.
Бретонский язык, такой своеобразный, так резко отличающийся от латинского и производных от него языков - итальянского, португальского, испанского и французского, дает нам, как известно, доказательства переселения народов. Бретонский язык - это видоизмененный разговорный язык обитателей Валлийского княжества в Англии, который там называют кимрским.
Если читатель заинтересуется когда-нибудь трудом господина Вильгельма фон Гумбольдта о бретонских древностях, советую ему помнить, что недоказанные предположения остаются предположениями.
Примером может служить тот вздор, посредством которого господин Нибур в течение нескольких лет вносил путаницу в историю первых дней Рима. Но слава великих людей Германии длится не более десяти лет, и, как меня уверяют, теперь господин Нибур уступил место другому гению - имя его я забыл.
В Бретани много колдунов, по крайней мере, если верить почти единодушному свидетельству населения. Один богатый человек говорил мне вчера с оттенком плохо скрытой досады:
- Почему в Бретани должно быть больше кудесников, чем в других местах? Кто теперь в это верит?
Я мог бы ему ответить: "Вы первый". Есть основания предполагать, что многие бретонцы, отцы которых не имели и тысячи франков годового дохода, производя их на свет, немножечко верят в колдовство. Объясняется это тем, что эти господа, занимающиеся продажей земель в чужой стране, склонны поощрять суеверия: страх делает народы послушными.
Привожу протокол одного судебного разбирательства, имевшего место 26 января в Кемпере:
"Ив Пеннек, уроженец Арморики, вчера занял место на скамье подсудимых в суде присяжных. Ему восемнадцать лет; его неправильные черты лица и черные живые глаза выражают ум и хитрость. Кольца густых волос падают на его плечи по бретонской моде.
Председатель. Обвиняемый, где вы проживали в момент вашего ареста?
Ив Пеннек. В коммуне Эрге-Гоберик.
Вопрос. Чем вы занимались?
Ответ. Я был батраком; но я как раз оставил это занятие. Я собирался поступить на военную службу.
Вопрос. Не служили ли вы у Лебера?
Ответ. Да, служил.
Вопрос. Так вот: после того, как вы покинули его дом, у него украли крупную сумму денег. Вор, безусловно, хорошо знал привычки супругов Лебер; их подозрения падают на вас.
Ответ. Они подозревали и многих других. Я ничего у них не украл.
Вопрос. А между тем начиная с этого времени вы стали одеваться, как самые зажиточные люди в деревне; вы не работаете; вы бываете в кабаках; вы играете; вы проигрываете большие суммы, и деньги на все эти расходы, вы, конечно, не могли скопить, будучи простым батраком.
Ответ. Это верно, я люблю игру: она доставляет мне удовольствие; иногда я выигрываю, чаще проигрываю, но небольшие суммы; к тому же деньги у меня есть. Что же касается нарядного платья, о котором вы говорите, то большую часть его я приобрел раньше, чем случилась эта кража, как, например, вот этот красивый "шупен".
Вопрос. Но откуда же у вас были средства?
Пеннек (после минутного раздумья и с видом глубокой искренности). Я нашел клад, вот уже тому три года. Дело было ночью; я спал; вдруг у моего изголовья раздался голос. "Пеннек,- сказал он,- проснись". Я испугался и спрятался под одеяло; голос позвал меня снова, но я не решился ответить. В следующую ночь, когда я спал, снова послышался голос. Он сказал, чтоб я не боялся. "Кто вы,- спросил я,- дьявол, или Кердевотская богоматерь, или святая Анна, или, может быть, вы голос кого-нибудь из родственников или друзей, говорящий из обители смерти?" "Я явился сюда,- ответил мне голос очень ласково,- чтобы указать тебе клад". Но мне было страшно, я остался в постели. На третий день голос снова заговорил: "Пеннек, Пеннек, друг мой, вставай, не бойся. Пойди к амбару твоего хозяина Гурмелена; там, у стены амбара, под плоским камнем, ты найдешь свое счастье". Я встал, голос повел меня, и я нашел триста пятьдесят франков.
Напряженная тишина самого глубокого внимания парит среди публики. Совершенно очевидно, что огромное большинство верит рассказу Пеннека.
Вопрос. Говорили вы кому-нибудь, что нашли клад?
Ответ. Несколько дней спустя я сказал об этом Жану Гурмелену, моему хозяину. Это было еще до кражи у Лебера.
Вопрос. На что вы употребили эти деньги?
Ответ. Сначала я отложил их для своей женитьбы, но так как свадьба не состоялась, то я купил хорошее платье и телку, заплатил за аренду фермы моего отца, а остальное сохранил.
Заслушиваются, один за другим, несколько свидетелей.
Лебер. В вечер с 18-го на 19-е прошлого июня у меня украли двести шестьдесят франков; я заподозрил обвиняемого потому, что он знал, куда мы прячем ключ от шкафа, и потому, что он много тратил со времени этой кражи. Пеннек служил у меня полгода; он не хотел работать, вечно смотрел по сторонам. Когда он от меня ушел, я ему не заплатил, так как он еще возрастом не вышел, а когда платишь такому, кто еще не вышел возрастом, рискуешь заплатить два раза. (Смех.)
Гурмелен. Вот уже почти три года прошло с тех пор, как обвиняемый у меня служил; когда он бывал на людях, он. работал хорошо, но как только оставался один, почти ничего не делал. По части честности я не могу на него пожаловаться. Когда он у меня служил, он как-то рассказал мне, что нашел клад. Пеннек слывет в селе колдуном, но что он вор - этого про него никто не говорит.
Кигурле. Обвиняемый был у меня слугой; служил он мне честно, я не мог на него пожаловаться: он хорошо работал, по ночам он много играл, однажды на моих глазах проиграл шесть франков, я сам их у него выиграл. (Смех.) Это колдун, он знает секрет, как находить деньги. (Движение в публике.)
Рене Лоран, мэр коммуны (с решительным видом и с выражением человека, проявляющего большое мужество). Пеннек считается в моей коммуне чародеем и колдуном; но я-то этому не верю; в наш век уже нет колдунов... Однажды, во время большого праздника, надо было поднять на башне трехцветный флаг... теперь он трехцветный, а раньше - в то время я тоже был мэром - раньше это был белый флаг. У Пеннека хватило смелости взобраться без лестницы на самую верхушку колокольни, чтобы водрузить там флаг; все были поражены; думали, что его поддерживает в воздухе какая-то сила. Я приказал ему сойти, но он стал для забавы расшатывать камни, украшающие с четырех сторон часовню; я велел его арестовать. Жандармы, удивленные богатством его одежды, свели его к королевскому прокурору; его посадили в тюрьму. Позднее судебные власти явились обследовать то место, где, по его словам, он нашел свой клад; я присутствовал при обследовании. Пеннек вытащил из земли какой-то камень, потом, показывая на образовавшуюся пустоту, сказал нам с большим хладнокровием: "Вот в этой яме и был мой клад". (Смех.) Ему заметили, что эта пустота - место из-под вынутого камня, но он стоял на своем. Я совершенно уверен, что и до того, как Лебера обокрали, у обвиняемого водились деньги и что он позволял себе большие расходы. Я спросил его, правда ли, что он нашел клад, но он не хотел мне в этом признаться, наверное, боялся, чтобы власти не отобрали деньги. У нас в коммуне говорят, будто находки идут в казну; поэтому у нас не так часты находки, по крайней мере ими не хвастаются. (Взрывы смеха.) Удивленный тем, что у Пеннека так много денег, я велел прибить объявление к придорожному кресту, но никто не заявлял об утере или покраже.
Прокурор. Вы сами понимаете, Пеннек, что не могли найти денег в дыре, раз ее раньше не было.
Пеннек. Ну нет, если деньги хорошо свернуть, им много места не надо; а может быть, голос заткнул дыру... (Общий смех.)
Жан Пупон. Вот уже полгода, как Пеннек пришел ко мне сватать самую младшую и самую красивую из моих дочек. "Согласен,- говорю,- если у тебя есть деньги". "У меня есть тысяча экю",- отвечает Пеннек, "О, я столько не требую, я тебе отдам ее и за половину; если у тебя есть полторы тысячи франков, дело сделано". "По рукам!" Мы пошли выпить по стаканчику, а оттуда к кюре, который послал за мэром. Мэр и священник нашли, что надо заставить Пеннека сначала показать деньги; он не мог их показать, и тогда я ему сказал: "Ничего не выйдет". Пеннека считают колдуном, но не вором; он служил у меня, я был доволен его работой.
Мэр. Свидетель говорит правду: в нашей коммуне за девушку полагается именно такая сумма.
После обвинительной речи прокурора и выступления защитника, мэтра Кюзона, который не раз вызывал смех у членов суда, присяжных и публики, председатель подвел итоги прениям. Через несколько минут присяжные, очевидно, не желая лишать коммуну Эрге-Гоберик колдуна, объявили его невиновным.
По сделанному мэтром Кюзоном заявлению суд распорядился немедленно возвратить Пеннеку его нарядное платье.
На суде он был в простой холщовой рубашке и в панталонах из той же материи. К нему подбежали все свидетели и почтительно помогли ему забрать свою одежду. Тут же Пеннек облачился в свой красивый "шупен", в нарядный "брагон-брас" и надел большую шляпу с ярким павлиньим пером. После этого Пеннек покинул зал суда с видом победителя". ("Gazette des Tribunaux".)
Если бы читатель обладал немецким терпением, я бы представил ему по каждой провинции достоверный отчет о последнем громком процессе, который там рассматривался.
Могут ли не верить в колдунов жители грозного побережья Уэссана близ Сан-Мало? Бури и опасности там повседневны, а эти смелые моряки проводят жизнь наедине со своим воображением,
Лориан, ....
Эннебон расположен живописно и совершенно по-бретонски, то есть на берегу небольшой речки, доступной морскому приливу и отливу, а поэтому и маленьким судам, идущим из Нанта. Моря, однако, отсюда не видно, и не заметно даже признаков его близости.
У самой реки возвышается холм, покрытый прекрасными деревьями, за которыми скрывается город. Знать из соседних замков, переезжая в Эннебон на зиму, блистает там большой роскошью. Хозяин местной гостиницы не успел еще оправиться от удивления: по случаю бала, данного прошлой зимой, один из этих аристократов выписал из Парижа серебряный сервиз стоимостью в две тысячи экю, который сразу бросился в глаза танцующим, когда они перешли в столовую.
Что может быть красивее, чем рощицы, попадающиеся на протяжении трех лье пути из Эннебона в Лориан? Я видел там нескольких бретонцев в их старинных костюмах, с длинными волосами и в широких штанах*.
* (Comatum et brocatum.)
В Лориане следует останавливаться в "Отель де Франс": это, безусловно, лучшая из всех гостиниц, какие мне приходилось видеть за все время поездки. Хозяин, человек неглупый, угостил нас прекрасным обедом за табльдотом, накрытым посреди великолепной столовой (пять окон с прекрасными парижскими зеркалами в простенках. За обедом все время говорили об их стоимости).
"Отель де Франс" выходит на прямоугольную площадь, окруженную двойным рядом красивых деревьев. Между деревьями и домами проходит довольно широкая улица. Видно, что строительством в Лориане руководил разум. Улицы идут по прямой линии, что значительно уменьшает их живописность. В 1720 году Индийская компания соорудила здесь складочный пункт у устья маленькой речки под названием Скорф. Действие прилива и отлива в ней так сильно, что было легко устроить здесь большой военный порт. Тут строят много кораблей, и мне пришлось выполнить тяжелую повинность - осмотреть верфи и склады, как и в Тулоне. Сохрани, боже, путешественников от такого удовольствия!
Сегодня утром, как только я встал, я побежал посмотреть на море. Увы, моря не оказалось, так как был час отлива! Я увидел только очень широкую канаву, наполненную грязью, с жалкими судами, склонившимися на бок в ожидании прилива, который должен их выпрямить. Ничто не может быть безобразнее. Боже мой, как это непохоже на Средиземное море! Все серо на этом бретонском берегу. Стало очень свежо, дул ветер. Несмотря на эти неблагоприятные условия, я нанял лодку и попробовал плыть по узкой струе воды, еще разделявшей широкие берега - сплошь из песка и грязи.
Я ждал лодку на городском бульваре, довольно густо обсаженном маленькими деревцами, который тянется вдоль набережной. По ней степенно прогуливались два таможенных чиновника; они наблюдали за тремя или четырьмя суденышками, печально склоненными на бок. Один из них сильно распекал стайку детей за то, что они, невзирая на запрет, приблизились к одному из этих несчастных судов, давших крен в сторону моря, и пытались утопить птицу в лужице воды, сохранившейся еще возле руля.
Между морем и городом возвышается красивый холм, довольно большой и весь покрытый зеленью; солдаты занимаются там охотой за ласточками; их выстрелы несколько оживляют глубокую тишину этого странного торгового порта.
Военный порт отсюда не виден; он расположен налево от бульвара и отделен от него длинной городской улицей.
В то время как мы плыли по направлению к морю, мой матрос показывал мне все части военного порта. Каждую минуту он называл мне корабли с семьюдесятью пушками, с восемьюдесятью пушками, и его оскорбляла холодность, с которой я относился к такому большому количеству пушек. Я же, со своей стороны, находил, что он произносит эти цифры с нелепым тщеславием.
Вот он, говорил я себе, этот кастовый дух, столь полезный, столь необходимый в армии, но такой смешной в глазах стороннего наблюдателя! Горе Франции, если бы этот человек говорил мне о кораблях с философским спокойствием! Осмелюсь ли употребить тут низменное выражение? Такое бахвальство необходимо этому сословию для того, чтобы выносить скуку долгого плавания. Мое же плавание среди этих песчаных отмелей, под ледяным ветром могло мне внушить только отвращение к реке в Лориане; ничто не могло быть скучнее, поэтому я решился пойти осматривать военные учреждения.
Покончив с этой повинностью, я спросил, где здесь лучшее кафе; мне указали на театральное кафе.
Перед театром расположен небольшой красивый, спускающийся вниз бульвар; высота деревьев - сорок футов, а домов - тридцать. Все это хорошо устроено, невелико по размерам, спокойно и тихо (snug). Такое слово могли изобрести только англичане, люди, которых весьма легко шокировать и непрочное счастье которых может быть нарушено малейшим посягательством на их общественное положение. Brio* южан не знает snug, для них оно означало бы уныние.
* (Живость, пылкость (итал.).)
Когда я выходил из государственных пеньковых складов, меня совершенно покинуло brio, поэтому я был очарован расположением театрального кафе. Я встретил там славного морского офицера, безногого и безрукого. Он весело пил пиво и подозвал кого-то из вошедших в кафе, чтобы вместе с ним выпить стаканчик. Мне дали чашку кофе со сливками, такого же чудесного, как в Милане. Я заметил издали номер "Siecle", который прочел с чрезвычайным вниманием, включая объявления. Статьи этой газеты, всегда интересные, на этот раз показались мне просто великолепными.
Через час я был другим человеком; я совершенно забыл о канатном производстве и государственных складах и в веселом настроении пошел бродить по городу.
В конце хорошенького бульвара я увидел премилую небольшую статую из бронзы на гранитной колонне. Колонна прекрасно отполирована и очень изящна, но ее следовало бы использовать в другом месте, а статую поставить на базе колонны, на высоте в девять или десять футов, что сделало бы статую заметнее; теперь же ее еле видно. Как я понял, она изображала Биссона*, который взорвал свое судно, не желая сдаться врагу. Надписи нет. Эта статуя, если смотреть на нее вблизи, пожалуй, слишком сухо исполнена, что все-таки лучше, чем обычный пошлый стиль провинциальных статуй.
* (В 1827 году младший лейтенант французского флота Биссон взорвал свое судно, не желая сдавать его греческим пиратам.)
Я пошел в главную церковь; видно, что она была построена в XVIII веке. Нельзя себе представить здание более просторное и удобное, но менее проникнутое верой. К климату Лориана подошла бы копия очаровательной церкви св. Маклу в Руане или, если бы такое строение показалось слишком дорогим,- копия плоэрмельской церкви. Я старался себе представить, какое впечатление произвела бы среди этих домов, конечно, убогого вида, но все же в основном галло-греческой архитектуры, копия нимского Квадратного Дома или миланского храма Мадонны Сан-Чельзо. Здесь была бы на месте своеобразная миланская церковь св. Лаврентия. Все улицы Лориана, тщательно распланированные и прямые, застроены хорошенькими домиками, очень удобными, самое большее - трехэтажными, с чистенькой черепичной крышей. Окна - в мещанском вкусе, с небольшими стеклами величиной в квадратный фут, большей частью зеленоватого оттенка.
Я дошел до эспланады, где происходили маневры батальона пехоты; музыка мне понравилась, но единственными слушателями оказались я и два десятилетних мальчугана. Лорианские буржуа слишком благоразумны, чтобы терять время на слушание музыки.
Несмотря на мое отвращение к арсеналу, я снова прошел в железные ворота и поднялся к "круглой башне" на покрытом растительностью холме, напомнившем мне пригорок в Ботаническом саду, на котором растет ливанский кедр. Около этой башни я нашел полукруглую скамью. Там я провел несколько часов, разглядывая в бинокль море. Я видел вдалеке это неблагодарное море за рядом островов или полуостровов; некоторые из них укреплены и застроены домами. Все эти острова, изуродованные широкими серыми берегами, обнажались при отливе. Я убедился в том, что море можно видеть только с круглой башни; но, поглощенный его созерцанием, я опоздал к дилижансу. Отчасти я это предвидел; но прежде всего я точно не знал времени его отхода, а затем мне было совсем неплохо на этой скамье, где я сидел, погруженный в созерцание серых туч и в мысли о странностях человеческого сердца.
Бретань, ... июля.
В Палаццоло, расположенном в нескольких лье от Сиракуз (Версаль тиранов этого большого города), я купил за три франка у барона Джудики гипсовую голову, отлитую в античной форме. Барон открыл несколько пластов с памятниками старины и вазами, принадлежащими к различным, сменявшим друг друга цивилизациям; в римском слое он нашел лавку формовщика и формы, которые позволяют продолжать торговлю покойника.
Я преподнес этот гипс г-ну Н., одному из самых выдающихся ученых Бретани, сообщившему мне ценные сведения о человеческих расах. Он сделал мне честь пригласить меня на большой обед. Желая сыграть с ним шутку, его кухарка ушла с самого утра, а прачка, которая участвовала в этом заговоре, заявила, что у нее не было времени выстирать скатерть на двадцать персон.
- А у меня только одна такого размера,- добавил этот славный человек,- так что нам придется, господа, обедать на простынях.
Наш хозяин прекрасно вышел из положения, созданного этим женским заговором, и угостил нас великолепным обедом, который оказался в двадцать раз веселее, чем был бы без этого заговора.
Какой-нибудь академик был бы вне себя от отчаяния и предвидел бы в будущем тучу эпиграмм; славный же бретонец первый шутил над случившимся.
- Не правда ли, господа, совершенно женская выходка? - говорил он.
И мы все с самого начала обеда стали злословить о дамах.
[Пропускаю девятнадцать страниц, несколько вольных, но которые в 1737 году показались бы такими, какие они и есть в действительности, то есть прелестными.]
Разговор зашел о доходах местных кюре; назвали кюре из ***, выручающего полторы тысячи франков в год от продажи горсточек волоса, которые он получает за благословение каждого быка или лошади. Обряд не исцеляет от болезни - слишком трудно было бы это доказать,- но он от них предохраняет.
Я отплатил за этот анекдот следующим рассказом. Три года тому назад в Юзерше, одном из самых живописных и своеобразных по расположению городков Франции, я был свидетелем нового способа излечения ревматических болей. Надо бросить толстый моток шерстяной пряжи в статую святого, покровителя города. Но верующие отделены от святого решеткой, отстоящей от него на двадцать шагов, а цели можно добиться только при условии, что шерстяной моток, брошенный, например, человеком с ревматизмом в левой ноге, попадет именно в левую ногу святого. Поэтому больной бросает толстые мотки до тех пор, пока не попадет святому в ту часть тела, которая нуждается в исцелении. А еще хотят, чтобы духовенство относилось терпимо к свободе печати!
В соседнем городе есть обычай запирать сумасшедших в склеп или в подземную часть главной церкви.
- И что же,- спросил я у церковного сторожа,- они выздоравливают?
- Сударь, в мое время туда посадили троих, но ничего не вышло; они страшно кричали, а одного из них так скрючило от ревматизма, что пришлось его оттуда убрать.
Некий К.,- рассказал мне г-н Р.,- желая узнать тайны своей коммуны, вовлек г-на Ж. в карточную игру; сначала он дал ему выиграть, потом сам начал его обыгрывать, потому что,- как говорит г-н Р.,- с присущим ему акцентом, когда г-н Ж. проиграет, он становится откровеннее.
Как вы знаете, даже в изысканнейших салонах полуглупцы портят прелесть самых тонких острот, повторяя их по всякому поводу и беспрестанно на них ссылаясь. Так вот, эти нудные пустомели, от которых в Париже бегут, как от чумы, оказываются в провинции остроумнейшими людьми, во всяком случае, единственными людьми, обладающими самоуверенностью. Молодые люди, действительно наделенные остроумием, блистают им только в кафе. В салонах они оказываются застенчивыми и теряются от одного взгляда женщины, которая захочет подвергнуть их смелость испытанию, или от нахмуренных бровей господина префекта, если они решатся заговорить о политике.
Ренн. .... июля.
Сегодня утром в Лориане я хотел полюбоваться морем с набережной у бульвара, но увидел, как и вчера, только грязь, наклоненные корабли и двух прогуливающихся таможенников с бдительным оком. Итак, в этом так называемом морском порту видеть море оказалось невозможным. Я возвратился в свое приятное кафе читать газету. Там, проявив большое искусство, мне удалось выведать, что жители Лориана - самые степенные люди в мире; они всегда сидят дома; в половине десятого все в городе спит; дамы не принимают визитеров, и никто не знал бы здесь, что такое светская жизнь, если бы морской префект не давал вечеров, как говорят, очень приятных; у него красивый дом около "Круглой башни". Я забыл сказать, что строение этой башни вполне соответствует ее назначению; но, как и все в Лориане, она ничем не радует глаз и имеет уродливую форму сахарной головы. Как не похоже это на маяки и морские укрепления Италии! Но дала ли Италия в наши дни хотя бы одного Биссона?
Ренн. .... июля.
В три часа я уехал из Лориана. Вечером был прекрасный закат; солнце наконец соизволило выглянуть в первый раз за три дня. Я занимал переднюю часть дилижанса рядом с каким-то иностранцем, неглупым человеком, который обосновался в этой местности много лет тому назад и хорошо знает ее обычаи. Нет ничего живописнее, чем путь до Геннебона: леса, луга, подъемы и спуски, да и сама дорога все время великолепная. Нам встретился дольмен. По пути разбросаны маленькие трактиры, высотой в двадцать футов; из одного вышла женщина и спросила нас по-бретонски, не хотим ли мы стакан сидра. Я утвердительно кивнул головой. Возница был очень доволен, и действительно сидр был не плох на вкус. Это был восхитительный вечер.
Ночь я провел в Ванне, столице венетов, которые, видимо, дали имя Венеции. Утром, еще размышляя об этом, я поспешил отправиться в Плоэрмель, чтобы полюбоваться его очаровательной церковью. Ее очертания, хотя и готические, не носят характера кропотливости; но потребовались бы две страницы, чтобы вполне объяснить мою мысль или, вернее, ощущение, и не знаю, насколько бы мне это удалось. Не то чтобы эти мысли были очень высокого порядка; ведь речь идет не о том, чтобы объяснить, почему "Страшный суд" Микеланджело - величественное произведение. Но просто, когда говоришь о готических церквах, чувствуешь, как мало приспособлен для этого наш язык; впрочем, возможно, что мода восхищаться ими пройдет раньше, чем широкая публика удосужится узнать значение таких слов, как пламенеющий стиль или трехлопастная стрелка. В общем, готика стремится привлечь внимание к вертикалям и для того, чтобы колонны казались длиннее, избегает прерывать линии их тонких стержней какими-либо орнаментами; своими цветными окнами она создает священную полутьму в боковых нефах, отдавая весь свет легким сводам верхней части хоров.
Грубое общество, создавшее готический стиль, не удовлетворялось уже чувствами восхищения и спокойной, разумной радости, которые внушает греческая архитектура. Эти чувства казались ему недостаточно захватывающими; то же самое видим мы в наши дни, когда деревенские буржуа занимаются раскрашиванием самых совершенных гравюр.
Заметьте, что в те последние мгновения, когда народы имели еще возможность мыслить, они стали восхищаться Клавдианом вместо Вергилия и Сальвианом вместо Тита Ливия. После того как возродилась мысль, в 1200 году, готика поставила себе задачей внушать изумление, точно так же, как плохая литература, которая прибегает к напыщенности, столь привлекательной для горничных. Готике необходимо было занять воображение верующего, участвующего в длительных молебствиях римско-католической церкви; и вот, чтобы вызвать изумление - чувство, весьма близкое к ужасу,- она пожертвовала наружным видом своих зданий ради внутреннего их вида. Общий облик зданий греческой архитектуры, особенно снаружи, полон бодрости, спокойствия и величия. В греческий храм допускались только жрец, совершающий жертвоприношение, сама жертва и священнослужители; народ оставался на прилегающей площади, исполняя там священные пляски. Христианская религия вместо нескольких минут праздника стала требовать у своих последователей нескольких часов подряд. Такая затрата времени была нужна для того, чтобы оторвать их от мирских мыслей и внушить страх перед адом,- чувство, незнакомое древним (Аристотель, величайший ум античного мира, считал душу смертной); отсюда возникла для христианского священнослужителя необходимость в строениях больших размеров и стремление, чтобы это здание, воздействуя на душу, прежде всего изумляло.
Помимо этого столь полезного для церкви стремления изумлять, готическую архитектуру отличает от греческих храмов, снаружи таких прекрасных и прочных, ее жалкое и, главное, безобразное убожество. Но плоэрмельская церковь в сравнении с другими готическими зданиями не кажется нам ни жалкой, ни безобразной.
Юпитеру было свойственно выражение справедливости и покоя. Кто не знает знаменитую голову Юпитера - "Jupiter Mansuetus"*? Мадонне, наоборот, присуще выражение крайней скорби; а, как всем известно, мадонна заняла место бога-отца в большей части Европы, во всех странах, где еще знают счастье страстной веры. Какое утешение испытывают в Испании и Италии, видя, как глубоко несчастна в своей любви эта прекрасная мадонна, от которой зависит наше вечное блаженство!
* (Юпитер милостивый (лат.)**. )
** ("Юпитер милостивый" - огромная голова, которая была найдена при раскопках в Отриколи и хранится в Ватиканском музее. Известна под названием "Юпитер Олимпийский".)
Все эти мысли и многое другое, что было бы труднее уберечь от недобросовестных возражений и о чем я поэтому не пишу, я имел удовольствие высказать привлекательной женщине, с которой мы встретились в Ванне. Какое удовольствие ехать не торопясь! Эта дама, ее муж и я пили затем прекрасный кофе с молоком*.
* (Проезжая через Плоэрмель, читатель сможет расспросить о пожаре супрефектуры и о выборах 1837 года. Такого рода фактов я не хочу здесь касаться, боясь пробудить в читателе, если он либерал или легитимист, бурные чувства, которые заставили бы его презрительно отнестись к жалким и мелким впечатлениям,- столь умеренным и книжным,- которые он может найти в этих записках. См. "Journal des Debats" и "Courrier Frangais" от 10 января 1838 года.)
Тот ученый, который, будучи холостяком, притом немолодым, так хорошо справился с женским заговором, усиленно советовал мне поехать в Жослен, чтобы посмотреть на статую Венеры, прославленную по всей Бретани благодаря особому роду жертв, приносимых ей. Но я решил - сам не знаю, почему,- что эта статуя безобразна; к тому же мои дела требуют, чтобы я поскорее познакомился с письмами, которые ждут меня в Ренне на почте.
По мере приближения к столице Бретани плодородие страны возрастает. А между тем дорога часто проходит по скалам черного гранита, прикрытого землей всего лишь на какой-нибудь дюйм.
Зная, что в 1720 году Ренн был целиком уничтожен пожаром, я не надеялся найти там что-либо интересное в смысле архитектуры. Я был приятно удивлен. Жители Ренна недавно выстроили театр и, что еще удивительнее, нечто вроде крытой галереи для прогулок (вещь, совершенно необходимая для каждого города, где хоть немного ощущают потребность в беседе).
Уже много лет тому назад здесь приступили к постройке собора, в котором, мне кажется, такое же множество колонн, как в Санта-Мария Маджоре или в Сан-Паоло Фуори-ле-Мура в Риме. Но бог мой, какой контраст! Нет ничего глупее этого собрания колонн, созданного архитектурной мыслью эпохи Людовика XV.
Дворец, отличающийся своей огромной черепичной крышей, кажется унылым; он совсем не внушительный, хотя внутреннее его убранство очень богато. Эти просторные залы как бы говорят: мы принадлежим такому-то, и действительно видно, что они принадлежат к дворцу. Правда, наблюдается избыток позолоты и орнамент чересчур сложен; но все напоминает о том, что говорит г-жа де Севинье по поводу штатов Бретани.* Король обыкновенно посылал герцога де Шон председательствовать на этих штатах, так как всегда можно было опасаться какой-нибудь отчаянной выходки со стороны бретонцев. Вообще под тяжелым гнетом Людовика XIV этот край, по-видимому, лучше помнил о своих правах, чем другие провинции бедной, униженной Франции.
* (В 1675 году в связи с введением особого налога на табак и повышением гербовых сборов в Бретани вспыхнуло восстание. Маршал Шон, губернатор Бретани, ввел в столицу провинции крупный военный отряд и подавил восстание кровавыми репрессиями. Эти события получили отражение в письмах г-жи де Севинье, говорившей о казнях крестьян с полным бессердечием.)
Еще в недавнем прошлом, кажется, в 1720 году, четверо сынов Бретани, делая честь своей родине, взошли на эшафот, как мятежники, и сложили там свои головы. Я бы их осуждал, если бы Людовик XIV не нарушил договора, заключенного с бретонцами.
Главная улица перед дворцовой площадью довольно красива, но прохожие движутся по ней медленно, да и вообще прохожих на ней мало.
В старинном соборе св. Мелены есть вделанные колонны, по-видимому, XII века; их капители покрыты штукатуркой, как говорят, для того, чтобы не оскорблять скромности верующих.
Больничная церковь св. Ива конца XV века имеет снаружи несколько готических орнаментов. Среди изваянных карикатур внутри церкви привлекает внимание карапуз, обращенный спиною - чтоб не сказать больше - к главному алтарю. Как далеко с тех пор ушли вперед приличия!
Здесь имеются городские ворота со стрельчатой аркой, и на одном из камней, послуживших для их сооружения, сохранилась римская надпись.
Надо сознаться, что черновато-серый цвет квадратных кусочков гранита, из которых построены дома в Ренне, производит неприятное впечатление.
Когда-то начали строить мост через Вилену, здесь это очень маленькая речка (помнится, что мост потом провалился). Мне очень понравились бульвары Табор и Майль. Красные штаны новобранцев, которых обучали обращению с оружием, красиво выглядели в освещении заката; настоящая картина Каналетто.
Я поспешил в музей, чтобы попасть туда засветло; картины развешаны в обширном зале нижнего этажа; соседняя большая церковь совершенно закрывает от него солнце, поэтому в нем очень сыро, и живопись быстро портится. Я видел там полотно Гверчино, почти совсем покрывшееся плесенью. В соседних двух или трех маленьких залах картины и гравюры из-за недостатка места до того скучены, что идешь, как на разведку. Я нашел там прелестную коллекцию портретов любовниц Людовика XIV; у них замечательные глаза, способные внушить любовь, но вследствие сырости у г-жи де Ментенон одна щека начала отделяться от холста. Я оставался в этих залах, пока меня оттуда не выгнала темнота. Привратник, человек очень неглупый, попал в Бретань после взятия Майнца. Однажды
в Болонье, роясь в скученных, как здесь, картинах, я открыл премилый маленький портрет Дианы де Пуатье, которая, будучи, по-видимому, хорошего мнения о своих скрытых прелестях, дала себя изобразить в костюме Евы до грехопадения.
Как видно, здесь мало интересуются искусством; столь бедно содержащийся музей - позор для такого богатого города. Несколько лет тому назад один крестьянин нашел в окрестностях большое количество золотых ожерелий и браслетов галльской работы; он хотел их продать в Ренне, но не нашел любителей, которые пожелали бы купить этот клад, соблазнившись его красотой, и вынужден был снести его к ювелиру, поспешившему его расплавить. Это несколько напоминает случай в городе Боне с авиньонским префектом. Может быть, с помощью большого количества циркуляров правительству удастся хоть немного пристыдить провинциалов за их глубокое варварство.
Старый кюре из ..., что в десяти лье отсюда, как-то возвращался в глубоком раздумье с кладбища; он только что отдал последний долг одному эмигранту, человеку простых нравов, замечательному как по твердости веры, так и по неукротимой храбрости, но неспособному понять даже "Отче наш". Этот добрый человек оставил сына, который читает г-на де Местра и в случае надобности мог бы сочинить новый вариант его книги. Кюре заговорил с одним из друзей покойного о потере, которую понесло правое дело.
- Но его сын,- ответил ему тот,- искренне предан всему доброму.
- Ах, сударь, ничто не заменяет веры, даже искренняя преданность! - воскликнул кюре.
Я слушаю с уважением подобные рассказы об искренности и верности бретонцев, которые сражаются за то, что им действительно дорого. Меня умиляют воздвигнутые повсюду "calvares"*. Так называются в Бретани кресты, окруженные орудиями страстей господних. Местами стоят грубые статуи из дерева или камня, изображающие мадонну, святого Иоанна и Магдалину. Этот обычай, возможно, и породил здесь скульптуру; ведь именно так она возникла в Италии около 1231 года. Когда во Франции еще создавались такие безобразные произведения, Николо Пизано создал гробницу святого Доминика в Болонье.
* (Распятия (итал.).)
Счастье великих людей, если их память внушает страстную ненависть могущественной партии! Их слава продлится несколько лишних веков. Пример - Макьявелли; плуты, которых он разоблачил, уверяют, что он сам был чудовищем.
Я мог бы опубликовать двадцать фактов, подобных следующему. Привожу его здесь лишь потому, что он был напечатан в уважающей себя газете "Commerce" от 21 января 1838 года.
"Только что выпущена в продажу в Невере небольшая книга под названием "Annuaire de la Nievre"*. Префект департамента объявляет в заметке, им подписанной, что этот труд издается с его одобрения и что можно им пользоваться как почти официальным источником. Между тем в историческом обзоре, приложенном к этому официальному альманаху, указывается, что после Людовика XVI правил Людовик XVII, а затем Людовик XVIII. Республика и Империя в нем даже не упоминаются".
* ("Неверский ежегодник" (итал.).)
Судите же об исторических знаниях, даваемых детям! Но это странное рвение приводит к результатам, противоположным намеченной цели. Головы детей полны победами Республики и завоеваниями Наполеона, которыми они тем больше восхищаются, чем больше употребляется стараний все это развенчать в их глазах.
Сен-Мало...
Высшее искусство хозяина провинциальной гостиницы - это заставить вас опоздать к дилижансу и тем самым принудить остаться в его лачуге лишние сутки. Хотели и меня сделать жертвой этого искусства. Но я возмутился и уехал из Ренна, этого столь аристократического города, взобравшись на империал дилижанса, к крайнему удивлению плута-хозяина. Мне же было оттуда еще удобнее любоваться действительно очаровательной местностью по пути из Ренна в Доль.
Сын одного местного дворянина говорил своему отцу о негоцианте, имеющем очаровательную дочь, в которую этот молодой человек был влюблен:
- Но он человек высокой честности!
- А каким же ему быть, черт возьми? Это единственная добродетель, доступная таким людишкам.
Есть место, где дорога из Ренна в Доль поднимается на прелестный холм, одиноко стоящий посреди равнины и увенчанный великолепным Комбургским замком. Не здесь ли провел свое детство Шатобриан?
Уже много лет я знаю чудесный собор этого крохотного городка - Доля; он показался мне теперь еще прекраснее, чем в воспоминаниях детства. Это лучший образец готического стиля той поры, когда он еще не утратил простоты. По-моему, церковь в Доле чрезвычайно похожа на знаменитый собор в Сольбери.
Я бы также сравнил ее - не в отношении архитектурной формы, а по общему изяществу и по впечатлению, производимому на душу зрителя,- с тем прелестным античным храмом, который называют в Риме храмом св. Сабины. Дольская церковь расположена на некотором расстоянии от города, на холме, возвышающемся над плодородной равниной и морем. План ее, необычайно правильный, представлял бы латинский крест, если бы его перекладина не разделяла церковь на две равные части, В нефе своды поддерживаются двумя рядами столбов, причем каждый столб состоит из четырех попарно соединенных колонн.
Но в главном нефе в центре каждого столба стоит небольшая колонна диаметром, вероятно, не более шести дюймов, которая поднимается от базы столба совершенно изолированно до пяты свода; эти хрупкие колонны сделаны из гранита.
Стрелка свода в нефе резко обрисована широкой полосой лепки, попеременно выпуклой и углубленной. Своды из белого песчаника; они очень тонки и укреплены закругленными нервюрами, пересекающимися по диагонали.
Хоры украшены гораздо богаче, чем неф, архитектор проделал в них множество окон; он хотел придать этим хорам вид исключительной легкости и в особенности привлечь к ним внимание верующих ярким освещением. Чем больше вглядываешься в их отдельные части, тем сильнее ощущаешь очарование редкого изящества. В этой церкви от любования вскоре переходишь к восторгу. За исключением фасада Дольский собор кажется мне одной из совершеннейших построек, какими может похвалиться готическая архитектура.
Я склонен предположить, что один и тот же архитектор примерно в середине XIII века руководил строительством всего здания. И мой патриотизм не заходит так далеко, чтобы скрывать распространенное в Бретани предание, которое приписывает английским архитекторам постройку наиболее известных церквей этой провинции.
Фасад этой церкви очень плох: только одна из двух ее башен достаточной высоты, именно южная; и закончена она была только в XVI веке фонарем в стиле Ренессанса. В точке пересечения перекладин креста, или в боковом приделе, находится третья башня, квадратная и незначительной высоты.
В церкви имеется великолепная гробница какого-то каноника, который, по-видимому, отличался только богатством; я назвал бы ее очаровательной, но можно ли применить такое слово к гробнице? Она относится к эпохе Ренессанса. К несчастью, она сильно разрушена. Все же два круглых барельефа не пострадали от беспощадного времени; они изображают самого каноника и его брата. Не следует слишком удивляться восхитительному изяществу этой гробницы, совершенно свободной от пережитков готики. Крайне неразборчивая надпись говорит нам о том, что гробница была сооружена в 1507 году и что архитектор был родом из Флоренции.
Эта церковь возбуждает во мне мысль, к которой я слишком часто возвращаюсь. Безверие XVIII века привело к тому, что мы разучились строить церкви. Так вот, когда провинциальный город, располагающий средствами, нуждается в церкви, пусть он копирует Дольскую церковь, только портал должен быть другим. Нет ничего нелепее греческих колонн церкви св. Магдалины в применении к католическому храму; церкви Палладио больше подходили бы этой грозной религии. Поэтому, если вам непременно требуются колонны,- хотя они и являются бессмыслицей при наших северных дождях и особенно не вяжутся с понятием о вечном, беспощадном аде, - возьмите по крайней мере за образец храмы Ломбардии или Венеции.
Где вы найдете боковую внешнюю степу церкви, такую трудную часть для строителя, которая могла бы сравниться со стеной Сан-Феделе в Милане, со стороны Ла-Скала?
За обедом ученый, пострадавший от женского коварства, сказал мне, что в Доле надо осмотреть еще одну церковь - церковь Кармелитов, которая теперь занята под хлебный рынок. Я зашел в нее по дороге к менгиру и не обнаружил в ней ничего любопытного, кроме нескольких колонн, капители которых, украшенные скульптурой, возможно, относятся к двенадцатому веку*.
* (Мериме. Путешествие по Западу.)
Сооружением действительно полезным для общества и достойным повсеместного подражания в такой дождливой стране, как Франция, являются аркады вдоль главной торговой улицы Доля, образующие крытую галерею для гулянья.
Эти аркады, местами стрельчатые, местами полукруглые, поддерживаются колоннами или столбами самой разнообразной формы. Капители в стиле барокко достаточно хороши, если учесть, что они сделаны из гранита - камня, представляющего самый непокорный материал. Такая скульптура, перегруженная мелкими деталями,- предмет восхищения в эпоху варварства - напоминает мне гравюры Гогарта. Замысел их прекрасен, но выполнение самое жалкое: на форму привыкли не обращать внимания. Вы найдете под этими аркадами в Доле капители всех эпох, начиная от цветущего романского стиля до последних капризов готики. Так как дома, поддерживаемые этими колоннами, имеют достаточно современный вид, я полагаю, что колонны были взяты где попало, из старых сносимых зданий.
Один только дом с лепными украшениями на карнизах в виде шахматной доски и звезд относится к эпохе, предшествующей XIII веку.
В четверти лье от города находится знаменитый шандоланский камень*. Не говорит ли это название о человеческих жертвоприношениях? Мой проводник серьезно уверяет меня, что камень поставлен здесь Цезарем. Быть может, когда-то кругом были непроходимые леса. Теперь же камень стоит посреди возделанного поля. Этот менгир двадцати восьми фугов высоты и заострен кверху. В своем основании он - я измерил его - имеет восемь футов в диаметре. В целом это глыба сероватого гранита; по форме это слегка сплющенный конус.
* (Champ dolent - поле скорби (франц.).)
Следует отметить, что такой гранит встречается только в трех четвертях лье от города, на Мон-Доле - холме, окруженном болотами, который, вероятно, был когда-то островом. Шандоланский камень стоит на скале из кварца и углубляется в нее на несколько футов. При помощи какого механизма галлы, такие, по нашему представлению, не сведущие в технике, могли произвести перевозку гранитной глыбы длиной в сорок футов и толщиной в восемь? Каким способом они ее установили?
Цезарь рассказал нам, как велика была власть друидов. Эти ловкие жрецы безраздельно господствовали над галлами. Постоянно направляя внимание своего народа на один и тот же предмет, они побудили его выйти из состояния дикости.
Эти памятники галлов указывали места встреч среди бесконечных лесов. В Дании, Швеции, Норвегии, Ирландии, даже в Гренландии имеются такие же памятники. Значит ли это, что друиды господствовали и там? Или эти гранитные глыбы были воздвигнуты другою властью, а не властью друидов? Сьоборг указывает, что в Скандинавии, согласно преданиям, с каждым из этих памятников был связан свой особый обычай.
Однако все они были порождением религиозного культа, иначе вселенские соборы христиан не относились бы к ним с такой нетерпимостью, запрещая им поклоняться и возжигать факелы "перед камнями" (ad lapides).
Власть друидов была частично основана на вере в переселение душ.
Аристотель, напротив, считал душу смертной. Кельты и германцы были, следовательно, лучше подготовлены к католической религии, чем греки и римляне. Привычка с трепетом повиноваться друидам подготовила наших предков к покорности епископам. Кара и у тех и у других священнослужителей была одна: отлучение.
Предаваясь этим и многим другим размышлениям, я сел в двуколку, чтобы проехать пять лье, отделяющие Доль от Сен-Мало. Моими попутчиками были богатые, вернее сказать, недавно разбогатевшие буржуа. Никогда мне не случалось быть в таком скверном обществе; мое воображение было так счастливо настроено - они вываляли его в грязи. Не один раз пожалел я о своей коляске! Эти люди все время говорили о себе и о том, что им принадлежит: о своих женах, детях, о носовых платках, которые они купили, обманув торговца и выгадав один франк на дюжине. Вот характерный признак провинциала - все, имеющее честь ему принадлежать, носит печать превосходства: его жена лучше всех остальных женщин; та дюжина носовых платков, которую он только что купил, лучше всех остальных дюжин. Никогда человеческий род не представлялся мне в таком мерзком виде: эти люди упивались своими низостями, напоминая свиней, валяющихся в грязи. Неужели, чтобы стать депутатом, надо ухаживать за подобными существами? Не таковы ли те, кто властвует в Америке?
Чтобы вытянуть из них некоторые сведения и ослабить в себе брезгливое чувство, я попробовал заговорить о политике; они начали так глупо расхваливать свободу, что внушали к ней отвращение; они видят в ней прежде всего средство помешать соседу делать то, что им не нравится. По этому поводу между ними завязались споры, полные невыразимой пошлости; меня снова начнет тошнить, если я приведу их подробно. Они довели меня до того, что я уподобился им: я согласился бы отсидеть две недели в тюрьме за то, чтобы каждого из них хорошенько отколотить палкой. Они заявили мне, что, когда будут выборы, они уж, конечно, не пошлют в Париж гордеца. Я понял, что так они называют депутатов, которые не соглашаются услужливо высылать им сапоги и платье, заказанные у парижских мастеров.
Не забавно ли: чтобы быть призванными к обсуждению серьезнейших вопросов торговли и таможенных пошлин, которые определят будущее Европы на сто лет вперед, надо прежде всего уметь угодить таким скотам!
Насколько моя поездка была бы приятнее, если бы я имел дело с пятью легитимистами. Их убеждения не могли бы оказаться нелепее и более враждебными "общему благу". Но меня не коробило бы ежеминутно, как теперь. Напротив, я наслаждался бы всей прелестью учтивой беседы. Так вот он, тот народ, благо которого, по моему же убеждению, должно быть превыше всего.
Чтобы отвлечься от разговора с этими разбогатевшими мужланами, каждое слово которых было для меня, как нож острый, я стал смотреть по сторонам дороги. После первого лье, которое ведет от Доля к побережью посреди великолепно возделанной равнины, засеянной преимущественно рапсом, дорога тянется вдоль моря, местами в десяти шагах от него. Как только мы миновали большую скалу, должно быть, Мон Доль (я не хотел спрашивать об этом у моих мерзких попутчиков), которая защищает эту равнину от прилива, перед нами открылась на огромном расстоянии справа, над слегка волнующимся морем, гора Сен-Мишель. Она была освещена заходящим солнцем и казалась ярко-красной, тогда как здесь уже надвигались сумерки.
Гора Сен-Мишель подымалась из моря подобно острову; она имеет форму пирамиды; это был выделяющийся на сером фоне равносторонний треугольник красного цвета, все более и более сверкающего и переходящего в розовый.
Мы отъехали от моря, потом оно опять показалось перед нами; так как это был час отлива, со всех сторон виднелись выступающие из воды изрезанные островки черноватого гранита.
На самом большом из этих гранитных островков построен Сен-Мало, который, как известно, во время прилива соединен с землей только проезжей дорогой, которая и привела меня сюда.
На этой дороге, начиная с того места, где она подходит к морю в одном лье от Доля, часто попадаются с левой стороны прехорошенькие домики, очень напоминающие коттеджи противоположного английского берега. В то время как наш экипаж проезжал мимо этих жилищ, из них вышло несколько таможенников и необычайное количество очень веселых ребятишек.
Когда мы подъезжали к Сен-Мало и приближались к его крепостным воротам, по правую сторону от нас лежало открытое море, а слева от дороги - огромный бассейн мокрой грязи, где через каждые сто шагов стояли несчастные, склонившиеся набок корабли. Они ждут прилива, чтобы подняться, и это движение изнашивает их остов.
За этой равниной из грязи и песка, с перерезывающими ее лужами воды стоит Сен-Серван, производящий впечатление довольно хорошенького городка. Во всяком случае он окружен деревьями с яркой зеленью, в то время как в Сен-Мало вы видите только черноватый гранит и несколько фиговых деревьев высотой от пятнадцати до двадцати футов, примерно таких же, как в Неаполе по дороге в Портичи; но в Сен-Мало фиги не созревают. При виде этих южных деревьев, правда, защищенных здесь стенами, я заключаю, что в Сен-Мало не бывает очень жестоких холодов. Это уже большое преимущество, которым город обязан соседству с морем. Он обязан Людовику XIV и тем уважением, которое внушила морским министрам замечательная отвага его жителей, и опоясывающими город крепостными стенами, настолько толстыми, что они служат местом гулянья. Как со стороны города, так и со стороны моря тянется парапет, и гуляющие находятся примерно на высоте третьего этажа домов. Думаю, что во время отлива высота парапета над водой иногда достигает шестидесяти футов. Это своеобразное место гулянья меня очень заинтересовало, и я потратил полтора часа, чтобы обойти буквально кругом весь город, после чего оказался у той самой лестницы рядом с воротами, по которой поднялся на стену. Правда, я часто останавливался в пути, разглядывая то черные, изъеденные волнами островки, которые защищают Сен-Мало от валов открытого моря, то, с правой стороны, за Сен-Серванским заливом, поросший деревьями холм, далеко выдвинувшийся в море. Большие фиговые деревья, о которых я уже говорил, растут в очень маленьких садах, разбитых кое-где между городской стеной и домами, на стороне, противоположной единственным городским воротам Сен-Мало, то есть на западе.
Те представители общества, с которыми мне суждено было сегодня познакомиться, внушили мне такое глубокое отвращение к человеческому роду, что я глупейшим образом отказался поехать на спектакль в Сен-Серван. Хозяйка гостиницы мне это предложила, но я, не подумав, отказался исключительно потому, что меня раздражало всякое обращенное ко мне слово.
Только потом, угрюмо посмотрев на нее, я заметил, что хозяйка - довольно хорошенькая женщина, притом вежливая, в английском стиле; она сказала мне с достоинством, что здесь имеется омнибус, который доставит меня в Сен-Серван за четверть часа.
Я стал бродить по городу. Все здесь черновато-серого цвета; это оттенок местного гранита. Я хотел бы посмотреть улицу, где родились господа де Шатобриан и де Ламенне; но мне было противно с кем-нибудь заговорить. Напротив здания суда, которое строится с греческими колоннами, я увидел нелепую статую Дюге-Труэна*. Обряженный в широкие штаны, этот бесстрашный моряк порядком напоминает свинцовые статуи пастухов, которыми деревенские кюре украшают свои сады. Я нашел возле статуи недурное кафе; но я был еще отравлен пошлостью своих попутчиков: меня раздражало все, что говорили рядом со мной бедные офицеры из трех рот ежемесячно меняющегося гарнизона этого острова. Эти господа, казалось, были очень обижены отсутствием другого места для гулянья, кроме городских стен, а также чрезмерной добродетельностью дам в Сен-Мало. Один из них сказал:
* (Дюге-Труэн (1673-1736) - французский морской капитан, прославившийся во многих сражениях и экспедициях; в 1829 году на его родине в Сен-Мало ему был воздвигнут памятник.)
- Нет сомнения, что было бы вполне безопасно оставлять здешних девиц из общества наедине с самыми любезными молодыми людьми; можно с уверенностью сказать, что их занимает в молодых людях только их большее или меньшее состояние. Самый красивый кавалер, если он недостаточно богат, чтобы устроиться своим домком, не представляет никакой опасности для их расчетливой добродетели.
У меня оставался один выход - потребовать шампанского. Хозяйка гостиницы меня уверила, что ее шампанское превосходно. Но что может быть печальнее, чем пить в одиночестве, чтобы забыть нелепое огорчение?
Я пошел в книжный магазин и нашел там "Принцессу Клевскую", маленькую книжечку в очень красивом переплете. Чтобы не раздражаться из-за употребляемых в провинции коптящих сальных свечей, я сам пошел купить восковые свечи. Мой номер выходил на отвратительную улицу шириной в десять футов: другого в гостинице не оказалось. Но когда я потребовал бутылку шампанского, тотчас же, словно чудом, вспомнили, что один постоялец только что уехал динанским пароходом. Меня провели по деревянной винтовой лестнице в большую комнату в четвертом этаже, откуда хорошо видно море за крепостной стеной. Я восхищался этим видом, потом прочел половину только что купленной восхитительной книжки. Успокоив наконец душу таким приятным времяпрепровождением, я начал писать этот протокол - быть может, слишком точный - моих духовных невзгод. Скучные люди отравляют мне душу: вот то, что помешало бы мне добиться успеха во всякой другой области, кроме коммерции; и мой отец был совершенно прав, толкнув меня силой на эту дорогу. Когда я служил в таможне, мои друзья, конечно, уважали меня, но большинство из них пришло бы в восторг, если бы какой-нибудь ребенок облил меня стаканом грязной воды в то время, когда я в первый раз вышел бы в новом мундире.
Одна истина постоянно меня преследует с тех пор, как я в Бретани. Мелкий буржуа из Отена, Невера, Буржа, Тура - человек в сто раз более отсталый, более тупой, хуже того - завистливый, чем буржуа, который живет в четырех лье от побережья и у которого время от времени кто-нибудь из родственников тонет во время бури. Мне рассказывали о храбрости бретонских подростков с побережья Морле, которые прячутся на борту кораблей, отправляющихся ловить треску к отмелям Новой Земли; их называют "найденышами" (найденными на борту корабля, когда он отошел уже далеко от берега). Здесь можно было бы набрать императорскую гвардию из моряков.
Во времена Империи бретонские корсары, чтобы выйти в море, дожидались бури, которая не позволила бы кораблям английской блокады держаться вблизи их черных гранитных скал. Как много бы выиграл Наполеон, если бы вместо создания нового флота он экипировал тысячу корсаров! Чего бы он не сделал с помощью бретонцев!
Сен-Мало...
Не знаю, как случилось, что я решился потерять два дня в этом своеобразном, но малопривлекательном городе: в сущности, это тюрьма.
Вчера я взял лодку, чтобы объехать черные островки, которые, по моему мнению, очень портят вид Сен-Мало со стороны моря; потом я поплыл вдоль красивого, поросшего деревьями берега, замыкающего горизонт с западной стороны. Так как ветер был легкий и море спокойное, я велел поднять парус и направился на запад, все время читая свой роман. Я забыл все на свете. Если бы меня спросили, где я, я бы ответил: на Мартинике.
Так я пропустил, к своему большому сожалению, час отплытия парохода, идущего в Динан. Говорят, что берега реки прелестны и усеяны причудливыми скалами; к тому же возле этого подлинно средневекового города находится менгир двадцати пяти футов высоты; эти бесформенные памятники будят мысль, и я начинаю чувствовать к ним все большую приязнь, по мере того как растет мое уважение к бретонцам. Мне очень расхваливали четырех евангелистов, а также крылатых льва и быка - атрибуты святого Марка и святого Луки, которые украшают фасад старинного динанского собора. Неподалеку когда-то находилось аббатство, развалины которого пользуются большой известностью; правда, я, возможно, не сумел бы их достаточно оценить. Моя затянувшаяся прогулка по морю лишила меня всего этого; но, быть может, никогда я не был так чувствителен к этому великолепному, самому старинному из всех высказанных на нашем языке изображению страсти, все реже встречающейся в хорошем обществе. Во многих частях это изображение осталось непревзойденным; я сравниваю его с небесами и ангелами на некоторых картинах Перуджино; Римская и Болонская школы при всем своем искусстве и превосходстве в остальных отношениях не заставили их забыть.
Сегодня я провел весь день на крепостной стене Сен-Мало, наблюдая прилив, иногда достигающий здесь, говорят, сорока футов. Я должен был уехать в полдень в Доль и Авранш; но, прежде чем сесть в дилижанс, я посмотрел на лица своих попутчиков - они отпугнули меня. Я возвратился на стену, потеряв стоимость своего места.
Закат солнца вознаградил меня за задержку, он был великолепен; небо было все в огне, и это еще более подчеркивало черноту островков Сен-Мало. Я провел все время на западном пляже среди кучи детей, которые, сняв башмаки, играли с мощной волной прилива: они убегали по мере того, как поднимающийся вал приближался, обдавая их брызгами.
Какое возвышенное и преувеличенное представление я составил себе о Сен-Мало по его смелым корсарам! Неужели я всегда буду так ошибаться? Сколько еще во мне ребяческого! Я не видел на лицах ничего, кроме мысли о деньгах. Есть ли во всех произведениях живописи что-нибудь безобразнее, чем линия губ банкира, который опасается денежной потери?
Среди всей этой душевной черствости меня поразила только одна трогательная интонация; какой-то возница сказал мне: "Ах, сударь, всякий раз, как доберешься сюда, опять приходится возвращаться той же дорогой; ведь дальше некуда ехать". В этих последних словах, таких обыденных, неожиданно прозвучала вся глубоко прочувствованная печаль островитянина или узника. Я подумал о бедном Пеллико. Кое-кто найдет, что я преувеличиваю; но что делать, я верен своей причуде говорить правду (исключая, конечно, опасные истины). Вот что я нахожу в своем дневнике под датой пребывания в Сен-Мало:
"В провинции ничего не умеют делать хорошо, даже умирать. За неделю до смерти несчастного провинциала предупреждают об опасности слезы его жены и детей, неловкие речи друзей и, наконец, страшный приход священника. При виде служителя алтаря больной уже считает себя мертвым; все для него кончено. С этого момента начинаются душераздирающие сцены, повторяющиеся по десять раз в день. Бедняга испускает наконец дух среди криков и рыданий своей семьи и прислуги. Его жена бросается на бездыханный труп; на улице слышны ее потрясающие вопли, которые ставятся ей в заслугу; она дарит своим детям вечное воспоминание ужаса и скорби. Это отвратительная сцена".
Человек серьезно заболевает в Париже; он для всех закрывает дверь; лишь небольшое число друзей допускается к нему. Все избегают грустных разговоров о болезни: после первых вопросов о его здоровье ему начинают рассказывать, что делается в свете. В последнюю минуту больной просит сиделку оставить его ненадолго одного: ему надо отдохнуть. Все печальное происходит - как оно бы и всегда происходило, не будь наших глупых обычаев,- в молчании и одиночестве.
Посмотрите на больное животное: оно прячется и отыскивает в лесу самую глухую чащу, чтобы там умереть. Фурье умер, прячась от своей привратницы.
С тех пор, как исчезает идея вечного ада, смерть снова превращается в нечто простое, как это было до царствования Константина. Эта идея стоила миллиарды верующим, лишила искусство ряда шедевров и человеческую мысль - глубины.
Гранвиль...
Нет на свете людей услужливее жителей Гранвиля. В тех краях, где имеется клуб коммерсантов, кафе не выписывают парижских газет; это было бы слишком большим расходом, если учесть их скромные прибыли. Сегодня вечером в Гранвиле я был очень этим раздосадован. Так как, приехав из Сен-Мало сюда, я приближался к Парижу, меня стало мучить довольно нелепое любопытство; я готов был останавливать прохожих, чтобы спросить: "Что слышно нового?" В кафе я нашел только местную департаментскую газету; но содержавшиеся в ней новости я прочел уже в Сен-Мало. Пришлось печально вернуться домой. Попробовал заняться чтением, однако читать насильно мне никогда не удавалось. Я решил побродить по улицам и, выходя из гостиницы, имел мужество заговорить о своем затруднении. Слуга тотчас же проводил меня в недавно открытый клуб в самом конце нового бульвара, обсаженного довольно красивыми деревьями с густой листвой. Три года тому назад здесь был плоский, унылый берег, усыпанный галькой. Да здравствуют страны в состоянии прогресса; люди там счастливы, а потому и добры! Как только я зашел в клубный зал, какой-то очень любезный господин без лишних слов предоставил в мое распоряжение три или четыре газеты, полученные из Парижа час тому назад. Когда я, проглотив их, выходил из клуба, швейцар передал мне от имени господ членов, что клуб открывается ежедневно в семь часов утра; мне кажется, что в Париже не могли бы вести себя учтивее.
Гранвиль вырос вдвое за последние десять лет; а ведь счастье не в том, чтобы обладать каким-нибудь благом, а в том, чтобы его добиваться, как говорит Фигаро. Коммерсанты Гранвиля преуспевают; из этого следует, что они счастливы и любезны и во всяком случае менее сварливы и злы, чем буржуа стольких маленьких городков Франции, не знающие, куда девать время, и вечно жалующиеся на недостаточность своего годового дохода в тысячу восемьсот франков.
Сегодня утром, проезжая через Доль, я урвал время от обеда, чтобы еще раз осмотреть внутреннюю часть очаровательного собора. Обед был вкусный и очень веселый; его подали в столовой, отличающейся более чем английской теснотой; в ней, должно быть, футов семь с половиной высоты; стол очень узок, а наши стулья упирались спинками в стену. Две молодые девушки, довольно хорошенькие, но с огромной шевелюрой странного цвета - цвета почти белой пакли - подавали в этой маленькой столовой превосходную камбалу и другую морскую живность.
По дороге из Доля в Понторсон я видел замечательно плодородную местность. Внезапно оказываешься на краю огромной долины, в глубине которой находится городок и речка Понторсон. Вид открывается великолепный и очень широкий, доставляющий особенное удовольствие своей полной неожиданностью. Рекою в Понторсоне заканчивается Бретань.
Ряд прелестных холмов, которыми начинается Нормандия, с их стройными деревьями, покрытыми яркой зеленью, выше всех похвал. Дорога вьется между этими холмами. Местами виднеется море и гора Сен-Мишель. Я не знаю ничего подобного во всей Франции. Сорокалетним людям, утомленным слишком сильными переживаниями, эта местность должна казаться прекраснее Италии и Швейцарии. Это то же, что пейзажи Альбано в сравнении с пейзажами Гуаспра. С ними можно сравнить только холмы в окрестностях Дезенцано по дороге из Брешии в Верону. Но те более грандиозны и не столь живописны.
Пока я шел пешком по длинному подъему, доходящему до первых домов Авранша, я имел возможность полностью рассмотреть гору Сен-Мишель, которая виднелась слева посреди моря, много ниже того места, где я находился. Она мне показалась такой маленькой, такой жалкой, что я отказался от мысли подняться к ней. Нормандцам, никогда не видавшим ни Альп, ни Гаварнийских скал, этот одинокий утес, по всей вероятности, представляется грандиозной вершиной. Но я этих людей не жалею; большое несчастье - познать слишком рано величественную красоту. Один из моих попутчиков сказал мне вчера, что самая хорошенькая женщина Нормандии живет в гостинице на горе Сен-Мишель. От самого Доля я ехал один в передней части дилижанса с сорокалетней крестьянкой замечательной красоты. У этой женщины черты римлянки, прекрасные манеры и, что меня крайне поразило, непринужденность и естественность, которым могли бы позавидовать многие из наших знатных дам. Она совсем не похожа на актрису, хорошо подражающую мадмуазель Марс. Время от времени эта благородная крестьянка вынимала из своей маленькой корзинки "Подражание Христу" в отличном черном переплете и читала его по нескольку минут.
Я позволил себе сделать смелое предположение, что благодаря своей исключительной красоте она имела случай в молодости познакомиться с людьми высшего общества в Англии (ее манеры несколько строги, она напоминает героиню аббата Прево); достигнув же известного возраста, она была выдана замуж и вернулась к положению богатой крестьянки. Несмотря на то, что я не люблю вступать в разговоры, между нами завязалась очень приятная беседа. Я выказал своей собеседнице столько уважения, что даже решился намекнуть ей на только что выдуманный мною роман. Она смеялась над ним от всего сердца и рассказала мне с большой простотой, что она жена рыбака из Джерси и что в то время, как ее муж в море, она торгует в своей лавочке скобяным товаром и другими вещами, в которых нуждаются бедные матросы. Она сообщила мне все это так, как могла бы это сделать мадам де Севинье.
- Ваш рассказ очарователен,- заметил я.- Позвольте, однако, сказать вам, что он меня восхищает, но не убеждает.
Эта сорокалетняя крестьянка, бесспорно, самая изысканная женщина из всех, встреченных за время моего путешествия; а в отношении красоты она уступает только очаровательной карлистке в зеленой шляпе, которая села на луарский пароход.
Моя попутчица с невыразимой мягкостью рассказала мне о той дерзости, которую позволила себе по отношению к ней некая женщина в черной одежде. Накануне, во время поездки в Ренн тем же дилижансом, одна монахиня хотела насильно занять ее место: "Встань-ка, голубушка, я хочу здесь сесть", и т. д. Нет ничего милее и забавнее происшедшего диалога: глупая prepotenza*, с одной стороны, а с другой - живое, хотя и очень сдержанное остроумие женщины хорошего общества, которая боится сказать лишнее и прекрасно понимает, что нанесенной ей обидой она обязана своему крестьянскому платью.
* (Наглость (итал.).)
Я пользовался обществом этой приятной попутчицы до Гранвиля. Так как дилижанс останавливался на час в Авранше, я пригласил ее подняться со мной на небольшой мыс, где стоял когда-то собор ученого Юэ, епископа и умного человека, писавшего о романах. Оттуда открывается великолепный вид на все окрестности. Без всякой задней мысли я предложил ей опереться на мою руку.
- Что вы, сударь! Мне... крестьянке?
Эти слова были сказаны с такой искренней интонацией, столь естественно и так меня тронули, что я сумел ответить должным образом. Вместе с этой благородной крестьянкой я наслаждался одним из лучших видов Франции. Она нашла, что он очень похож на тот, которым мы любовались до въезда в Понторсон. Здесь вы тоже находитесь на краю широкой и очень глубокой долины, засаженной великолепными деревьями с яркой зеленью, и перед вами даль, сливающаяся справа с лесной чащей и слева с морем.
Во время завтрака в гостинице я узнал, что в окрестности наехало множество англичан; но они собираются уезжать - к несчастью для себя, они слишком хорошо удят рыбу. Они пользуются искусственными мухами, которыми чрезвычайно успешно обманывают глупых рыб, не знаю только, лососей или форелей. Удача англичан породила величайшую зависть в нормандцах. Они прекратили всякие сношения с этими хитрыми рыболовами и даже подумывают, насколько я мог понять, возбудить против них процесс.
Будь я господином своего времени, я бы остался здесь, чтобы позабавиться этим процессом, и сам бы кого-нибудь привлек к суду.
Несмотря на такую "нормандскую любезность", я, не будучи рыболовом, избрал бы местожительством Авранш или Гранвиль, если бы когда-нибудь оказался вынужденным жить в провинции неподалеку от Парижа. На первый взгляд кажется соблазнительным поселиться на юге, где-нибудь возле Тура или Анжера, чтобы избавиться от зимних холодов, но разница в степени цивилизации имеет большее значение, чем разница в два градуса широты. В Туре или Анжере в сто раз больше провинциальной мелочности и назойливого любопытства к делам соседа, чем в Гранвиле или Авранше. Все время приходится возвращаться к этой аксиоме: близость моря убивает низменные чувства. Каждый, кому случалось бывать в плавании, от них более или менее избавлен; только если он глуп, он рассказывает об испытанных бурях; если же это умный, несколько жеманный парижанин, он отрицает самое их существование.
Я вспоминаю, как в Анжере буржуа, живущие по одной стороне прекрасной новой улицы, утверждали, что дома их соседей по другой стороне должны в ближайшем будущем осесть на восемь или десять футов. Я никогда не видел ничего более низменного, чем злорадство, смешанное с притворным сочувствием, которое сверкало в их глазах, когда они два часа подряд говорили об этой будущей осадке. Если бы пришлось обязательно поселиться в одном из маленьких городков Франции, я выбрал бы Грасс или Сиоту.
По дороге из Авранша в Граивиль мы видали множество очаровательных крестьянских домов, стоящих особняком посреди фруктового сада, усаженного прекрасными яблонями и несколькими высокими тенистыми вязами. Трава под ними отличается свежестью, и ее зеленый цвет достоин Тициана.
- Вы видите эти красивые цветы малинового цвета в виде колокольчиков? - спросила меня моя спутница.- Это наперстянка, растение, которое прописывают, чтобы помешать сердцу слишком сильно биться.
Эти фруктовые сады отделены от соседних полей земляным валом в четыре фута высоты и в шесть ширины; он весь покрыт молодыми вязами высотой в двадцать пять футов, отстоящими друг от друга не более, чем на три фута. Таким поросшим вязами насыпям, которые встречаются здесь начиная от Ренна на каждом шагу, край обязан своей красотой. Путешественнику не оставалось бы ничего больше и желать, если бы его взгляд встречал среди них несколько старых деревьев футов в шестьдесят высотой; но нормандская алчность не дает им дожить до такого возраста. Какая выгода смотреть на прекрасное дерево?
На полдороге между Авраншем и Гранвилем толстый молодой крестьянин из богатых, типичный представитель той лукавой жадности, которая цивилизовала Нормандию, занял третье место в дилижансе.
Он рассказал мне - очень толково - о крайне сложном деле разведения быков; речь идет о тех быках, которых мы встречаем в Париже в виде ростбифа. Эти быки каждый год переходят из рук в руки; разделение труда очень сложное, сообщать здесь о нем было бы слишком длинно. Наш попутчик проводит всю свою жизнь на дороге, ведущей от Пуасси к окрестностям Кана. Торговля эта очень рискованная; он сам три года тому назад потерял на ней тридцать тысяч франков: быки не хотели жиреть. Он сообщил нам много любопытного об инстинкте этих животных.
Моя благородная крестьянка, видя, с каким интересом я слушаю подробности, сообщаемые скотоводом, в свою очередь, подробно рассказала мне о башмачниках, изготовляющих сабо. Эти люди проводят жизнь в лесу; то, что я о них узнал, заставило меня предпринять поездку, о которой я скажу позднее.
Когда мы въезжали в длинное предместье Гранвиля, бочонок с пивом, стоявший на передке дилижанса, свалился, а моя попутчица незаметно скрылась. Я отнесся с уважением к ее инкогнито, если это действительно было инкогнито. Я увидел перед собой, позади глубокой долины, мыс высотой в двести или триста футов, оканчивающийся со стороны моря пропастью, на этом утесе примостилась Гранвильская крепость. Лишь очень немногие соглашаются жить на этой горе или внизу, во втором предместье, о котором я уже упоминал. Я поднимаюсь в город. Дома - черные, унылые, очень однообразные - имеют самое большее три низких этажа и очень напоминают дома английских городков. Хотя они и стоят на возвышенности, а те из них, которые находятся на правой стороне улицы, если идти по направлению к церкви, имеют вид на море,- уныние является отличительной чертой этого древнего городка. Я иду к самому краю мыса, который заканчивается большим лугом, окруженным морем с трех сторон. Один здешний мальчуган сказал мне:
- Вот говорят о конце света, так он здесь у нас.
Это замечание не лишено меткости.
В этот вечер море показалось мне хмурым и печальным; оно бьется об утес со всех сторон в двухстах футах ниже дороги. Луг отделен от города огромной казармой; ее следовало бы окружить зубчатой стеной в готическом стиле, высотой в десять футов над уровнем крыши. Произведя такой весьма незначительный расход, можно было бы придать этому крупному зданию некоторую характерность.
По лугу бродили, борясь с ветром, несколько жалких баранов. Я увидел здесь двенадцатифунтовое железное орудие, валявшееся в траве, и следы какой-то батареи. Вернувшись в город, я зашел в церковь, унылую до крайности. Двадцать девушек внесли в нее бренные останки одной из своих подруг. Из мужчин там были только древний церковный сторож с видом пьяницы, зябнущий старик-священник, торопливо делавший свое дело, и я в качестве зрителя.
В то время как пели какой-то псалом, я с грустью читал в боковых приделах церкви множество эпитафий, пестревших орфографическими ошибками. Буквы их высечены рельефом в черноватом граните. Трудно представить себе что-нибудь более жалкое и унылое. Эти эпитафии относятся примерно к 1620 и к ближайшим к нему годам. Хоры церкви расположены не на оси нефа.
Не знаю, почему, но я был подавлен печалью, если бы я верил предчувствиям, то подумал бы, что на меня надвигается какое-то большое несчастье. Перед моими глазами все стоял этот гроб с дешевым белым покровом, поддерживаемый четырьмя безобразными девушками на высоте одного фута от земли пр.и помощи продетых снизу полотенец. Насколько во Флоренции поступают мудрее! Там все это происходит ночью.
Так как не было ни одной живой души, с кем можно было бы поговорить, я стал бороться со своим подавленным состоянием физическими средствами. Мне удалось против ожидания получить чашку довольно хорошего кофе в кафе, помещающемся возле крепостных ворот города. Спуск к уютному предместью приятен и живописен; военно-инженерное ведомство потребовало, чтобы дома на наиболее высоко расположенной и самой торговой улице предместья - той, которая подходит к крепостным воротам города,- были не выше пятнадцати футов; это требовалось, чтобы не помешать действию пушек с крепостной стены.
Здесь все еще говорят о знаменитой осаде 1794 года*, которую вандейцы вынуждены были снять после того, как они долго, упорно и с большой отвагой ее вели. С этого времени начались их несчастья. Если бы им удалось овладеть городом и портом, который сильно мелеет при каждом отливе, но все же удобен, они имели бы верный способ сообщений с англичанами. Есть основания предполагать, что мужество - скорее гражданское, чем военное,- тех разумных людей, которые решились защищать это жалкое укрепление, возможно, спасло республику и помешало Бурбонам вернуться еще в 1794 году. Подумайте только, что бы с нами сделала тогда Европа! Ведь в то время за нас еще не говорила слава Империи. Вена, Берлин, Москва, Мадрид еще не видели в то время французских гренадеров. Судите по 1815 году, что сделала бы партия эмигрантов, бывшая на двадцать лет моложе в 1795 году!
* (...говорят о знаменитой осаде 1794 года.- В 1794 году вандейцы пытались взять Гранвиль, но потерпели неудачу и с большими потерями отступили.)
Я очень сожалел, что у меня не было с собой книги Бошана об истории Вандеи, в которой он рассказывает о снятии осады с Гранвиля и о пожаре предместья. Напрасно я пытался посмотреть картину, изображающую этот пожар и находящуюся, как говорят, в ратуше; человек, которому поручено ее хранить, отсутствовал. Это обычная вещь в провинции: если памятник не стоит на проезжей дороге, он недоступен путешественнику; и будь я героем, я хотел бы, чтобы моя статуя была воздвигнута на перекрестке, если бы не страх, что дети будут швырять в нее камнями.
Со времени революции 1830 года у подножия Гранвильского утеса вырос хорошенький городок, непосредственно примыкающий к порту. Я насчитал не помню уж сколько строящихся больших домов. Здесь подражают парижской архитектуре; из всех домов открывается прекрасный вид на море; старый город защищает их от северного ветра. Несколько старинных и очень живописных домов стоят там, где мол, образующий порт, подходит к утесу с тем лугом на вершине, о котором я уже писал и который некоторым представляется концом света. Я увидел здесь множество детей, которые играли в воде отступающего моря. Как им не быть хорошими моряками? Вскоре все корабли печально склонились набок и завязли в иле. Плотники, занятые в глубине порта постройкой двух или трех судов, сообщили мне, что Гранвиль отправляет свои суда в Америку и на край света; и так как, по-видимому, у меня против воли был несколько недоверчивый вид, мне назвали все фирмы, составившие состояние за последние десять лет. Я никого не знаю в этом месте и не мог допытаться, каков в действительности тот промысел, который дает жителям Гранвиля возможность строить столько больших и красивых зданий; по-видимому, рыбная ловля.
Здесь встречаются принадлежащие частным лицам прелестные сады и чудесные мостики через ручей, который десять лет тому назад бежал среди валунов, а теперь скоро окажется в центре нового города. На его берегах разбили городской бульвар, который благодаря умелому подбору деревьев уже сейчас покрыт густой тенью; в конце этого бульвара находится клуб коммерсантов, так обязательно предоставивший мне для чтения свои газеты. Когда лошади приходят пить и купаться в этом потоке десяти футов ширины, который отделяет бульвар от частных садов, вода поднимается и заливает прачек, занимающихся стиркой на его берегах. Тогда слышатся взрывы хохота и состязание в острословии между стирающими служанками и грумами в сабо.
Напротив той гостиницы в предместье Гранвиля, в которой я занял хороший номер, в скале прорублен ход, по-видимому, в целях безопасности города. Этим путем я и ходил смотреть на северное море, такое хмурое в здешних местах. Новая дорога, также частью прорубленная в скале, ведет к холму, на вершине которого стоит старый город. Жители хотели бы, чтобы военно-инженерное ведомство признало Гранвиль не имеющим как крепость никакого значения. Но Гранвиль в таком же положении, как Гавр; я всецело на стороне военно-инженерного ведомства; если оно потеряет свои права, алчность нагромоздит здесь безобразные, неопрятные дома. С вершины утеса перед путешественником открывается океан, беспредельно распростершийся к северу. Эта местность, доступная бушующим ветрам, кажется сначала малоплодородной. Но уже в четверти лье от дороги, с правой стороны, противоположной морю, равнина несколько защищена утесом, по которому проходит дорога, и путешественник снова видит здесь поля, окруженные земляным валом с покрывающими его молодыми вязами тридцати футов высоты.
Мало-помалу местность начинает поражать своим плодородием и обилием зелени; так доезжаешь до подножия холма, на вершине которого стоит Кутанс. Я рассчитывал потратить вечер на то, чтобы не спеша осмотреть собор, предмет стольких споров; еще издали я заметил его обе остроконечные колокольни. Злой гений направил меня на почту, и я нашел там письмо, ожидавшее меня уже три дня. Оно написано нетерпеливым человеком, обладающим миллионами и вложившим некоторую сумму в дела нашей фирмы, что оказалось полезным и ему и нам. Но этот человек, богатый и боязливый, не имеет никакого делового опыта и вечно делает из мухи слона. Он честен и обладает миллионами, а потому и считает себя коммерсантом. Сейчас он в своем великолепном поместье в Б. и желает меня видеть по делу, о сущности которого он осторожно умалчивает и которое, по его словам, имеет исключительное значение. Готов побиться об заклад, что это какой-нибудь пустяк; впрочем, это дело может оказаться и действительно важным.
Как сообщает мне г-н Р., он послал мне точно такие же письма до востребования во все города Бретани, зная, что я путешествую по этой провинции ради собственного удовольствия. Я легко мог бы сказать, что хотя письмо и получил, но был задержан делом в окрестностях Кутанса; я мог бы прибегнуть к еще большей лжи, заявив потом, что получил на два дня позже это проклятое письмо, которым меня вызывают, по всей вероятности, из-за какого-нибудь вздора, например, чьего-нибудь банкротства на десять тысяч франков.
Но это дело, скрытое завесой, уже овладело моим воображением. Вместо того, чтобы наслаждаться красотой знаменитого Кутаисского собора, предаваясь навеянным им впечатлениям, я против воли возвращаюсь к низменным мыслям о разных возможностях в области банкротства и денежных неудач. Как это верно, что если хочешь быть совершенно свободным от таких забот, надо решительно удалиться от деловой жизни.
Я потрачу три часа на осмотр города; потом сяду в почтовую карету и на следующий день к завтраку буду в Б.
Рассказ о моем пребывании в Б. представлял бы мало интереса для читателя. Из этого поместья я выехал по направлению к Гавру.
Дилижанс с превосходными лошадьми быстро доставил меня в Гонфлер. Но по дороге не было уже пленительной зеленеющей Нормандии Авранша; тут просто возделанная равнина, похожая на окрестности Парижа. В Пон-Левеке была ярмарка; стоило посмотреть на физиономии всех этих нормандцев при заключении сделок. Это было действительно забавно. Вот где нужен был бы новый Теньер; его рисунки рвали бы из рук в сотнях изящных замков, которых так много в Нормандии.
Приехав в Гонфлер, я узнал, что пароход на Гавр ушел два часа тому назад; хозяйка гостиницы сообщила мне с сочувствующим видом, что он, быть может, еще вернется в течение вечера. Подлинно нормандская хитрость, которую я тут же разгадал. Хозяйка внушала мне эту безрассудную надежду, чтобы я не нанял лодку, которая за два часа легко могла бы доставить меня в Гарфлер; я вижу отсюда дым его фабрик. А там я нашел бы двадцать экипажей для поездки в Гавр. Но мне нравятся прелестные, поросшие деревьями холмы, окаймляющие океан к западу от Гонфлера; я проведу тут день.
Именно в этом месте или в лесу, который тянется вдоль южного берега Сены по направлению к Руану, через десять лет, когда построят железную дорогу, будут расположены виллы парижских богачей. Рано или поздно эти господа узнают, что левый, берег Сены окаймлен обширными, величественными лесами. Что может быть проще, чем купить два арпана, или двадцать арпанов, или двести арпанов леса на холмах, подступающих к Сене с юга, и построить там сельский домик или замок? Вы наслаждаетесь лесом, окружающим вас со всех сторон на шесть лье, а также морским воздухом. Занятые люди найдут там настоящее уединение к природу в десяти часах езды от Парижа; ведь путь из Руана в Гавр пароход проделывает за пять с половиной часов.
Вернувшись вечером в Гонфлер, я застал там большую иллюминацию: праздновали ассигнование сумм, необходимых для расширения порта. Он так нуждается в этом, бедняга; но, несмотря ни на что, он останется безобразным. Я не могу привыкнуть к этому илистому берегу шириной в пол-лье и к морю за ним, имеющему вид каймы высотой в шесть дюймов. Однако этим именно пейзажем я наслаждался сегодня из своего окна, лучшего по расположению во всем Гонфлере. Я невольно вспоминал о Сестри-ди-Леванте и о Позилиппо, а это большой грех, когда путешествуешь по Франции. Я выбрал в гостинице единственный номер, выходящий прямо на море; опершись на подоконник, я мог хотя бы думать о море, вместо того, чтобы осквернять свой ум нормандскими разговорами, которые громко раздаются на набережной и оглушают в остальных комнатах, расположенных во втором этаже.
Носильщики, матросы, нормандские трактирщики вечно жалуются на некоего путешественника, имевшего низость заплатить только три франка за переноску вещей, что местному жителю обошлось бы в пятнадцать су. Их сетования, поддержанные всеми присутствующими, на минуту кажутся забавными: видно, что эти люди смотрят на плутовство по отношению к приезжему, как на свое законное право. Такая наивность в плутовстве встречалась мне только в Швейцарии; я был молод в то время и помню, как подобные разговоры портили мне лучшие пейзажи.
Когда в эту прекрасную страну, по которой я путешествую, пришли норманны, она была населена гэлами и Кимрами. К тому же - и это весьма усложняет вопрос - и сами отважные завоеватели не представляли чистой расы. Они явились из страны, где в свое время произошло смешение пришельцев-германцев с коренным финским населением.
Финский тип характеризуется круглой головой, довольно широким и приплюснутым носом, отступающим подбородком, выдающимися скулами, "льняными" волосами. У германцев же квадратная голова. В местном населении типические черты германцев, выраженные значительно слабее, близки к исчезновению.
Два наиболее выраженных типа - кимрский и финский,- смешавшись, создали в Нормандии народность с преобладанием кимрских черт; кимрский нос, крючковатый книзу, но более толстый, чем у чистокровного кимра; выдающиеся скулы - черта, не свойственная кимрам, и отступающий подбородок - еще менее им свойственная. Лицо, которое я описал, самое характерное для теперешних жителей Нормандии. Я встречал такие лица в Кане, в Байе, в Изиньи и чаще всего в Фалезе.
Гавр...
Сегодня в одиннадцать часов утра я сел на великолепный пароход, который через час с четвертью доставил нас в Гавр. Я бы хотел, чтобы эта приятная поездка продолжалась весь день.
Нелегкая задача - найти помещение в Гавре. Здесь есть очень хорошие гостиницы, но всюду требуют, чтобы вы пользовались табльдотом или чтобы вам подавали обед в комнату. Последнее кажется мне очень скучным; что же касается обеда за табльдотом, то мало того, что он тянется полтора часа, вы еще видите перед собой тридцать или сорок американских или английских лиц, тусклые глаза и тонкие губы которых приводят меня в уныние. Один час вынужденного созерцания скучного человека отравляет мне целый вечер.
Я снял в гостинице Адмиралтейства прекрасный номер, который, на мое счастье, оказался свободным. Он в третьем этаже, с видом на порт. Меня отделяет от моря или, вернее, от порта только небольшая, очень узкая набережная, и я вижу все уходящие и прибывающие пароходы. Только что я наблюдал, как прибыл "Роттердам" и ушел "Лондон": огромное судно под названием "Курьер" все время приходит и уходит в те немногие часы, когда в порту достаточно воды; оно берет на буксир многочисленные как прибывающие, так и уходящие парусные суда. Как вы знаете, вход в Гавр довольно труден, надо проходить вплотную возле Круглой башни, построенной Франциском I. Когда я вступил во владение своей комнатой, порт под моим окном и весь воздух выше уровня крыш были целиком заполнены темно-бурым дымом пароходов. Большие клубы этого дыма смешиваются со струями белого пара, вылетающими со свистом из клапанов машин. Глубокая темнота, создаваемая угольным дымом, напомнила мне Лондон, что было мне, по правде сказать, приятно в данную минуту, когда я сыт по горло буржуазной мелочностью и убожеством французской провинции. Все, что активно, мне нравится, а в этом смысле Гавр - наиболее точная копия Англии, какая только имеется во Франции. И все же, если ливерпульская таможня пропускает за день сто пятьдесят судов, то в гаврской не знают, как выйти из положения, если в течение одного дня приходится иметь дело с двенадцатью или пятнадцатью кораблями; это - следствие французской учтивости. В Англии - ни одного лишнего слова. Там чиновники гнездятся в клетушках, выходящих в большой зал; публика переходит от одной клетки к другой, не снимая шляп и даже не разговаривая. Кабинет директора находится во втором этаже, но только в особо важных случаях какой-нибудь чиновник вам скажет: "Up stairs, sir!" ("Подымитесь наверх, сударь!").
Мой первый выход был на площадку башни Франциска I. Доступ для посетителей здесь свободный, нет необходимости входить в переговоры с каким-нибудь сторожем; это вызывает во мне чувство живейшей благодарности к администрации.
Обводя биноклем горизонт, я заметил прелестный Ингувильский холм, о котором совершенно позабыл: уже больше семи лет я не бывал в этих местах.
Я спустился по лестнице башни, перепрыгивая через две ступеньки, и с детской радостью прошелся по чудесной Парижской улице, ведущей прямо в Ингувиль. Все на этой прекрасной улице дышит деловитостью и исключительной любовью к деньгам; здесь встречаются лица, подобные женевским; улица эта выходит на площадь, по моему мнению, одну из самых красивых во Франции. Прежде всего, ее контуры с трех сторон обрисованы прекрасными домами из каменных плит, совершенно такими же, как те, которые обычно строят теперь в Париже. Четвертая сторона справа состоит из мачт и кораблей. Здесь находится огромный док с множеством так тесно стоящих судов, что в случае надобности можно было бы пройти через него, прыгая с одного судна на другое.
Напротив, слева от меня, виднеются две прелестные купы молодых деревьев, а за ними прекрасный театр в стиле Ренессанса и по обе стороны от него крытая галерея для прогулок, к сожалению, недостаточно длинная. К северу - ибо Парижская улица тянется по направлению от севера к югу и по ширине, по крайней мере, равна улице Мира в Париже - очень ясно виден прелестный Ингувильский холм, покрытый высокими деревьями и красивыми виллами. Архитектура их английская.
Все улицы этого нового квартала отличаются шириной, в них много воздуха. За театром сейчас заканчивают устройство большой площади, обсаженной деревьями; но кому-то пришла странная мысль поместить посредине ее обелиск, сложенный из множества отдельных камней и напоминающий, но в еще более уродливом виде, трубу паровой машины. Это удачно придумано, особенно для города, где воздух со всех сторон затемнен такими трубами. Но не следует требовать большего от негоциантов, наехавших в Гавр со всех концов света, чтобы как можно скорее нажить состояние. Достаточно и того, что они отказались от мысли продать земельный участок, на котором разбита площадь. Рано или поздно эта "труба" будет продана и на ее место поставят статую герцогу Вильгельму Нормандскому.
Очень красива дорога, идущая по гребню Ингувильского холма. Слева перед вами расстилается океан во всем своем необъятном просторе; справа - хорошенькие дома, отличающиеся английской опрятностью, с несколькими довольно старыми деревьями пятидесяти футов высоты. Я любовался нормандским фруктовым садом, расположенным на самой вершине холма со стороны, обращенной к маяку; боюсь, что и он скоро будет захвачен под постройки; уже и сейчас большая вывеска объявляет о продаже его отдельными участками. Значит, я, по всей вероятности, вхожу в него последний раз; он засажен старыми яблонями и окружен земляным валом, покрытым молодыми вязами; их листва замыкает его со всех сторон, закрывая от него очаровательный вид. Человек со вкусом, купив этот сад, ничего бы в нем не изменил и поставил бы посередине красивый дом наподобие домов Бренты.
Итак, слева - море, сзади - устье Сены шириной в четыре лье, а за ним - нормандский берег, к западу от Гонфлера, где я вчера гулял; это побережье, все покрытое зеленью, занимает приблизительно треть горизонта. Остальная часть его - это грозный океан с множеством судов, прибывших из Америки и ожидающих прилива, чтобы войти в гавань.
Наименее красивая, по-моему, часть этого вида - хотя именно она больше всего нравится глупцам - сам Гавр, лежащий перед вами со своими доступными взгляду улицами. Он расположен на пятьдесят туазов ниже. Кажется, что брошенный камень долетел бы до этих улиц, отделенных от вас только прекрасным поясом укреплений системы Вобана. То, что он случайно превращен в крепость, сделает этот торговый город одним из самых красивых во Франции. Он растет с необыкновенной быстротой; но военно-инженерное ведомство разрешает строить только по ту сторону укреплений, так что через двадцать лет Гавр будет разделен надвое великолепным лугом в сто пятьдесят туазов ширины. И при этом та часть Гавра, которая теперь застраивается, к счастью, пересекается большой проезжей дорогой, что не позволило алчным людям проводить улицы, подобные улице Годо-де-Моруа в Париже. Эта вторая половина Гавра называется Гравиль и имеет то преимущество, что она представляет самостоятельную коммуну. Поэтому, когда плохое настроение мэра города Гавра или интриги какой-нибудь влиятельной группировки изгоняют оттуда полезное изобретение, оно находит приют в Гравиле. Подобное явление обычно и для Лондона, который, к своему счастью, также состоит из двух или трех самостоятельных коммун.
Красивый луг, который в будущем разделит Гавр на две части, в настоящее время пересечен канавой с крайне зловонной водой, но это не мешает зарабатывать деньги и потому не имеет никакого значения для городских негоциантов. Однако скверный запах так силен, что, надо надеяться, скоро он вызовет хорошенькую эпидемию, которая заставит удвоить поденную плату портовым рабочим. Только тогда сообразят, что с помощью ветряной мельницы, вращающей колесо, или небольшой паровой машины эту отвратительную канаву можно сделать проточной даже во время отлива.
Моя прогулка была прервана роковой необходимостью явиться в пять часов к обеду за табльдотом. Я сел за стол, имеющий форму подковы, выбрав место поближе к двери, где можно было рассчитывать хоть на небольшой приток воздуха. За столом были тридцать два американца, жевавших с необычайной быстротой, и три французских фата с безукоризненными проборами. Против меня сидели три молодые женщины, довольно хорошенькие, но державшие себя неестественно; они только вчера прибыли из-за моря и застенчиво разговаривали о дорожных происшествиях. Их мужья, сидевшие рядом с ними, упорно молчали; волосы их были слишком длинны. Время от времени жены бросали на своих супругов робкие взгляды.
Чтобы вызвать к себе уважение общества, я потребовал бутылку замороженного шампанского и в раздраженном тоне сделал выговор слуге за то, что лед недостаточно мелко расколот. Все взгляды тотчас же обратились на меня, и после минуты восхищенного созерцания богачи в этой компании - я легко различил их по важному виду - тоже заказали французские вина.
У меня хватило терпения высидеть час с четвертью, после чего я покинул этот скучный обед; до десерта еще не дошли. Столовая была очень низкая, и я задыхался.
Чтобы закончить как-то вечер, я зашел в театр. Судьба поместила меня рядом с двумя испанками, бледными и довольно красивыми, тоже приехавшими вчерашним пакетботом; с ними были их отец и, по-видимому, их женихи. В них не было величия римлянок; они отличались той резвостью и, если осмелюсь сказать, тем бросающимся в глаза кокетством, которые свойственны иберийцам. Вскоре отец стал сердиться: ставили "Антони"*; он захотел во что бы то ни стало увести дочерей. Молодые испанки, глаза которых сияли от приятного сознания, что они во французском театре, делали знаки молодым людям, чтобы те добились разрешения остаться. Но вот в третьем или четвертом акте происходит нечто слишком вольное. Отец резким движением надел шляпу и встал, воскликнув: "Какая безнравственность! Это просто позор!" - и бедные девушки были вынуждены последовать за ним.
* ("Антони" (1831) - драма Александра Дюма, имевшая шумный успех.)
Я увидел их снова пять минут спустя в кафе, помещающемся в крытой галерее; они ели мороженое; больше там никого не было, кроме нескольких молодых немцев; это были приказчики гаврских фирм, среди которых немало иностранных. Я издали заметил знакомых негоциантов и, так как все еще путешествую инкогнито, обратился в бегство.
Второй пьесой шел "Теофиль, или Мое призвание"* с участием Арналя**. Молодые испанки, еще более оживленные, чем раньше, вернулись на свои места. Мне кажется, они не понимали того, что говорил Арналь; никогда я так не смеялся. Не представляю себе, как мог этот водевиль не встретить резкого осуждения в Париже со стороны общественной морали; это жестокая насмешка - тем более жестокая, что она блещет правдивостью,- над возвратом к ханжеству, так решительно предписываемому модой. Герой, которого Арналь изображает с исключительным остроумием, - молодой ученик семинарии, все время говорящий языком Тартюфа; его добродетель в конце концов постыдно уступает искушению. Я смотрел на молодых испанок; отец их спал, поклонники не обращали на них внимания, а они сами поглядывали на своих соседей-французов, которые все буквально плакали от смеха.
* ("Теофиль или Мое призвание" (1834) - водевиль Варена.)
** (Арналь (1794-1872) - популярный в свое время актер на характерные и комические роли.)
Если старый испанец-путешественник с философским умом, наподобие Бабука*, и умеет делать выводы из встречающихся ему явлений, он примет нас за народ с крайне развращенными нравами и еще более безбожный, чем во времена Вольтера.
* (Бабук - мудрый скиф из повести Вольтера "Видение Бабука" (1746), избранный грозным духом Итуриелем судьей порочного города Персеполиса (Парижа). Ознакомившись с жизнью Персеполиса, Бабук убеждает Итуриеля не разрушать город, так как в нем "если и не все хорошо, то все терпимо".)
Гаврские дамы редко выезжают, для этого они слишком горды: они считают мещанством бывать в театре. Они смотрят на Гавр, как на колонию, как на место ссылки, где наживают состояние и откуда возвращаются как можно скорее, чтобы нанять квартиру на какой-нибудь улице в Пуассоньерском предместье.
Вот все, что я мог извлечь из разговора с приятелем-негоциантом, с которым столкнулся лицом к лицу при выходе из театра. Я просил его никому не говорить о том, что он встретил меня, и отказался пойти с ним в клуб, поэтому должен довольствоваться чтением тех двух газет, которые выписывает кафе. В то время как какой-то немецкий приказчик зубрит наизусть "Les De-bats", я беру "Le journal du Havre" и нахожу, что он прекрасно составлен: видно, что толковый человек просматривает даже мелкие заметки, так нелепо подаваемые в парижских газетах.
Прошу разрешения представить как образец тех печальных явлений, о которых я здесь умалчиваю, следующий горестный факт: я видел знаменитую богадельню, где призревают стариков и больных до конца их дней. Прежде всего их лишают фланелевых фуфаек, к которым они издавна привыкли, так как, по словам эконома, "фланель приходится слишком долго стирать и сушить". В 1837 году на девятнадцать легочных заболеваний эта больница имела девятнадцать смертных случаев. Вот факты, которые невозможны в Германии.
Говорят, что в Гавре вся власть находится в руках всемогущей и тесно сплоченной кучки людей.
В Гавре мне пришлось быть свидетелем мошеннической проделки, о которой я расскажу позднее. Дело идет о тысяче пятистах франках.
Вот какая нелепость - к счастью, очень явная - содержится в нашем таможенном законодательстве. Компания лондонских капиталистов, желающая заняться перевозками из Англии во Францию пароходом в сто пятьдесят лошадиных сил, несет только следующие организационные расходы: за самое судно - сто пятьдесят тысяч франков; за машину - сто восемьдесят тысяч франков, из расчета тысячи двухсот франков с лошадиной силы, всего триста тридцать тысяч франков. Французское же предприятие, решающееся вступить в конкуренцию на той же линии и с такими же транспортными средствами, должно прибавить к этим необходимым и для него издержкам еще шестьдесят тысяч франков ввозной пошлины за машину, которую оно вынуждено приобрести на английских заводах, и пятнадцать тысяч франков фрахта, страхования и дополнительных расходов, неизбежных при доставке этой машины в один из наших портов. Но английское судно заходит туда, оснащенное также английской машиной, а французская таможня и не думает требовать за нее ввозных пошлин: все эти строгости направлены только против французских судов, с таким же оснащением. Вот почему за последние двадцать лет почти все пароходное сообщение между Францией и заграницей находится в руках англичан. Они пользуются самыми льготными условиями, когда пристают к нашим берегам, для доставки и вывоза товаров и пассажиров, нуждающихся в перевозке; даже часть этого непрерывного оборота не может оспариваться у них нашими судами вследствие странной пристрастности нашей таможни.
Если читатель хочет составить себе некоторое представление о приступе нелепого гнева, в который поверг английскую нацию г-н Питт, когда Франция пыталась завоевать свободу, пусть он бросит взгляд на следующие цифры.
Подробные данные о том, во что обошлись Англии людьми и деньгами войны, веденные ею против Франции с 1697 по 1815 год:
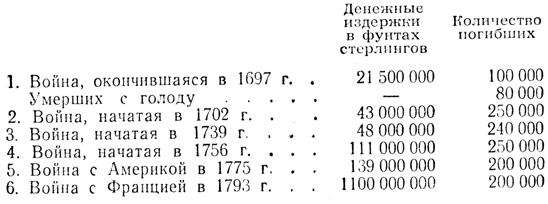
Государственный долг Англии к концу этой последней войны достиг 1 миллиарда 50 миллионов фунтов стерлингов (более 25 миллиардов франков).
Так как банкротства, могущего изгладить последствия того вопиющего обмана, в который г-н Питт вовлек англичан, не произошло, в Англии на наших глазах начинается период упадка. Она бессильна против России, которая открыто угрожает ее господству в Индии. Это господство приносит мало выгоды английскому правительству, но имеет для него жизненно важное значение.
Потеря в людях может быть возмещена в двадцать лет, но денежный долг убивает множество английских детей, а тех, кто выживает, заставляет работать по пятнадцати часов в день; и все это только потому, что тридцать лет назад была битва при Аустерлице! Финансовый талант г-на Питта обратился против его нации.
Pуан...
Бессмысленно было бы говорить о прелестных холмах Вилькье или о высоких, подстриженных шпалерами деревьях великолепного парка Мельере, расположенного почти напротив. Кому не знакомы развалины Жюмьежа и в одном лье за ними чудесные извилины Сены, благодаря которым в течение одной минуты вы видите один и тот же холм с разных сторон? Все это замечательно красиво, но где найти человека, который этого не знает?
Я приехал в Руан в девять часов вечера большим пароходом "Нормандия", Капитан его отлично справляется со своими обязанностями, притом - что представляет редкость в сорока лье от Парижа - без старания выставить себя с выгодной стороны и без всякого комедиантства. Несмотря на преследовавший нас северо-восточный ветер, капитан Бамбин все время расхаживал по доске, переброшенной поперек парохода на высоте примерно двенадцати футов и опиравшейся обоими концами на барабаны колес. Невозможно быть рассудительнее, проще, усерднее этого капитана, имеющего орден за спасение жизни утопающих пассажиров.
Когда я подъехал к Руану, какой-то человек маленького роста, подвижный и простой, завладел моими сундуками. Разговаривая с ним, я обнаружил, что имею дело со знаменитым Луи Брюном, получившим орден и множество медалей от всех монархов за спасение жизни тридцати пяти утопающих. Что очень странно для француза, Луи Брюн ничуть не возомнил о себе; это самый обыкновенный носильщик, за исключением того, что все его слова полны здравого смысла. Так как все гостиницы были переполнены, он помог мне найти комнату, и мы имели с ним длинный разговор.
- Как только я вижу,- сказал он мне,- что какой-нибудь несчастный дуралей падает в воду, я не могу удержаться, чтобы не броситься вслед за ним. Сколько моя мать ни повторяет, что в один прекрасный день я там и останусь, это сильнее меня. "Как,- говорю я себе,- вот живой человек, который через десять минут превратится в труп, и от тебя зависит этому помешать!" Предпоследний, что тонул три месяца тому назад, вцепился мне в ноги и три раза утаскивал меня на дно, так что я и шевельнуться не мог.
Замечательно красиво в Руане то, что стены всех домов состоят из больших деревянных бревен, поставленных вертикально на расстоянии одного фута один от другого, а промежуток заполнен каменной кладкой. Но деревянные бревна не покрыты штукатуркой, так что перед глазами повсюду острые углы и вертикальные линии. Эти острые углы образованы особыми поперечинами, которые скрепляют вертикальные столбы и соединяют их, повторяя повсюду линию средней черты во французском заглавном N.
Вот, по-моему, причина чудесного впечатления, которое производят готические постройки Руана; они - капитаны окружающих их солдат.
Во времена господства готики Руан был столицей очень богатых монархов, людей просвещенных и еще полных радости от выпавшей им великой удачи-завоевания Англии, только что совершенного ими словно чудом. Руан - это Афины готики; я составил его описание на сорока страницах, но не решаюсь его здесь поместить.
Кто не знает:
1) церкви св. Уэна.
2) собора,
3) очаровательной маленькой церкви Сен-Маклу,
4) большого готического дома на площади против собора,
5) особняка Бургдерульда и его великолепных барельефов?
Только там получаешь ясное представление о состоянии общества в конце средних веков.
Кто не знает невообразимой глупости - построить купол из железа, не умея сделать его из камня? Это напоминает женщину, которая рядится в шелковые кружева.
Кто не знает бездарной статуи Жанны д'Арк, воздвигнутой на том самом месте, где она была сожжена жестокими англичанами? Кому не понятна нелепость греческого стиля, примененного здесь для изображения характера всецело христианского? Самые умные греки напрасно старались бы постигнуть этот характер, своеобразный продукт средневековья, воплощение как его безумств, так и его самых героических страстей. Только Шиллер* и одна молодая скульпторша могли понять это почти сверхъестественное существо.
* (Только Шиллер...- Стендаль намекает на драму Шиллера "Орлеанская дева". ...Гнусная статуя XVIII века - работы Слодцта (1755). Шедевр принцессы Марии...- статуя, выполненная принцессой Марией Вюртембергской.)
Отчего бы не заменить гнусную статую XVIII века, которая портит воспоминание о Жанне д'Арк, шедевром принцессы Марии?
Сразу по приезде я пошел один на улицу Сороки, чтобы посмотреть на дом, где в 1606 году родился Пьер Корнель; дом этот деревянный, и его второй этаж выступает на два фута над нижним: таково строение всех средневековых домов в Руане, - а домов, которые видели сожжение Жанны д'Арк, там и теперь еще больше половины. В доме Корнеля имеется маленький третий этаж, еще меньший четвертый и пятый уже совсем ничтожного размера.
Я хотел взглянуть на его почерк. Меня направили в городскую библиотеку; там, в шкатулке со стеклянной крышкой, на обороте "Подражания Христу", переведенного французскими стихами, я увидел три или четыре строчки, которыми этот великий человек, старый, бедный, не признанный современниками, дарит этот экземпляр какому-то картезианцу, своему "старинному другу". Ученый библиотекарь поместил рядом с книгой объяснение в такой форме: "Надпись, сделанная собственной рукой Пьером Корнелем". Я насчитал в этой библиотеке девять читателей; зато я услышал там диалог, одновременно очень забавный и очень невежливый, между двумя мнимыми учеными в области готической археологии. Эти господа были до крайности грубы друг с другом и к тому же на каждое утверждение отвечали только противоположными утверждениями; они не подкрепляли своего мнения никакими доводами. Не является ли их жалкая ученость ученостью одной только памяти?
Я полюбовался великолепной залой ожидания в суде, которую можно было бы реставрировать за тысячу франков; здесь беснуется разъяренная статуя Пьера Корнеля; он изображен в виде воина-забияки из театра Амбигю-Комик.
Правительству следовало бы заказать точную копию этой воистину французской статуи и поставить ее у входа в музей. Этот совет мог бы оказаться полезным, но кто осмелится его дать? Я сделал бы то же самое и со статуей Жанны д'Арк, которая украшает площадь, носящую ее имя.
Из огромной темной залы, где беснуется статуя Пьера Корнеля, меня ввели в соседний зал с великолепными панелями, в котором происходили заседания руанского парламента. Это великолепие напомнило мне знаменитую тяжбу*, для ведения которой герцог де Сен-Симон сам приехал в Руан. Рассказ о ней очень забавен, хотя мемуарист и не подозревает об этом. Герцог, в сущности, человек честный и весьма гордый своею честностью, имевший возможность получить двадцать миллионов от регента и не попросивший его даже об ордене святого Духа, повествует с важностью, как он выиграл процесс в Руане, усердно приглашая судей на свои ужины. Он насмехается над другим герцогом, своим противником, у которого не хватило ума завести в Руане открытый стол. Что же касается его самого, то, выиграв процесс, он взял под свое покровительство брата одного из своих судей, сделав его полковником, генерал-майором, генерал-аншефом. Человек этот был впоследствии убит, когда командовал войсками в одну из последних кампаний Людовика XIV в Италии.
* (...Знаменитая тяжба - процесс по делу о наследстве г-жи Кетепфао, который Сен-Симон вел в Руанском суде.)
Забавнее всего то, что герцог де Сен-Симон и его судьи считали себя вполне честными людьми. Француз в своих суждениях неспособен отойти от моды. Свобода печати ведет борьбу с этим недостатком, и она переделает национальный характер, если только удержится.
Париж, 18 июля 1837 г.
Самое приятное для меня в путешествии - это то, что все мне кажется изумительным по возвращении. С восторгом, с сердцем, трепещущим от радости, я прохожу по улице Мира и по бульвару, хотя в день моего отъезда они казались мне только удобно расположенными.
Я расплачиваюсь теперь за дни увлечения, которые провел в Оре, изучая бретонские нравы, и в Сен-Мало, шатаясь по морю в лодке, как в радостные праздные дни своей молодости. В Париже я не сплю и двух часов за ночь.
Я думал закончить свое путешествие возвращением в этот город, но случай решил иное. Один приятнейший и очень ловкий молодой человек, который должен был поехать по нашим делам на Бокерскую ярмарку, заболел, и я вновь отправляюсь сегодня вечером к берегам Роны, где рассчитываю быть через пятьдесят часов.
Тараскон, 27 июля.
В Бокере писать оказалось невозможным, для этого у меня не было там места. Однажды вечером, когда я твердо решил выспаться, невзирая на блох и комаров, я ушел за целое лье от города. В день моего приезда на ярмарку я был так ошеломлен невероятным шумом, что, кажется, в течение нескольких часов не мог дать себе отчета в своих ощущениях; каждую минуту какой-нибудь приятель пожимал мне руку и давал свой адрес.
На всех улицах, на лугу, на берегу Роны - всегда толпа; каждую минуту кто-нибудь толкает вас локтем, пытаясь проскользнуть вперед; все спешат, все куда-то несутся, каждый бежит по своим делам. Такая активность тягостна и особенно оскорбительна в первую минуту, но вместе с тем она и забавна. Какие-то музыканты жестикулируют и горланят, аккомпанируя себе на контрабасе и валторне; торговцы парфюмерией преследуют вас предложением духов высшего качества, привезенных ими из Грасса; носильщики, шатаясь под тяжестью огромных грузов, которые они носят на голове, кричат вам "берегись", когда они уже с вами столкнулись; разносчики газет дерут глотку, выкрикивая содержание телеграфных известий из Испании; толчея и давка такие, о каких в Париже не имеют понятия. После нескольких часов бесцельного шатания я оправился от своей растерянности; я хотел взять свой платок, но он исчез, как и все, что было в моих карманах. В Бокере слух поражают всевозможные языки и наречия, и я, по-видимому, был обворован в тот момент, когда из тщеславия старался понять, что говорит красавец-каталонец, приглашавший меня на бал сегодня вечером. Впрочем, нельзя быть обворованным с меньшими неудобствами: я купил носовой платок в лавке, не пройдя и трех шагов.
Богатый торговец, с которым я веду дела, рассказывает мне, что еще задолго до ярмарки самые крупные негоцианты заботятся о найме дома, квартиры или комнаты. Теперь здесь в каждой комнате четыре или пять кроватей; сам хозяин перебирается на чердак; зато ярмарка не только дает ему средства для оплаты квартиры, но и избавляет его от необходимости работать в течение всего года.
Здесь есть обычаи, имеющие силу закона. Торговцы шерстью и суконщики должны жить либо на Большой, либо на Верхней улице. Суконщики платят за квартиру гораздо дороже, потому что они продают "богатый товар".
Торговцы бельем устраиваются поблизости от Ронского шлюза; евреи занимают среднюю часть одной определенной улицы, по обоим концам которой располагаются торговцы кожей.
Снимают не только лавки в домах; перед наружной стеной, от одной лавки к другой, тянутся ларьки, крытые холстом. Используются даже каменные скамьи, кое-где поставленные вдоль домов: на них продают мелкую галантерею.
Особенность этой ярмарки в том, что толпа здесь повсюду и костюмы так же разнообразны, как и наречия. Но что прежде всего поражает и придает исключительное своеобразие лабиринту, в котором толпа суетится и кружится, как в водовороте,- это обилие полотнищ бумажной ткани всевозможных цветов и форм - квадратных, треугольных, круглых, колышущихся поперек улицы в пятнадцати футах над головами, наподобие картин. Торговцы подвешивают их на веревках, протянутых через улицу, от одного дома к другому. На этих кусках ткани обозначены их имена, постоянное жительство и адрес в Бокере. Таким способом каталонский коммерсант может узнать, что его приятель, греческий коммерсант, участвует в ярмарке; было бы бесполезно спрашивать адрес среди этой толпы людей, посторонних друг другу и не знающих своих соседей.
Эти вывески радуют глаз; в день моего приезда их, к несчастью, колыхал сильный мистраль, убивающий беспечную радость. Одни из них были из хлопчатобумажной ткани ярко-красного цвета с большими белыми буквами; другие - из ткани желтого цвета, испещренной готическими буквами; третьи - из зеленой с красными буквами; на последние было больно смотреть.
Общий вид всех этих флагов имеет в себе что-то восточное и напоминает корабль, который украсили к праздничному дню.
Что же касается поведения людей, вот первая характерная черта: обычаи, требующие много времени, исчезают - все здесь делается быстро. Такой городок, как Бокер, не мог бы вместить толпы торговцев, прибывающих из Неаполя, Генуи, Греции, из всех южных стран; к счастью, на берегу реки есть обширный луг, окаймленный высокими деревьями,- это луг святой Магдалины, который нравится мне гораздо больше, чем город. Там наскоро ставят множество дощатых бараков. Вследствие сильной жары многие торговцы даже предпочитают им палатки; так образуются улицы, площади, узкие проходы. Каждый изображает на вывеске образцы своих товаров, и обычно торговцы из той же местности группируются на одной улице.
Прогуливаясь из любопытства после заключения первых сделок, я прежде всего увидел лавки марсельских торговцев мылом, бакалеей и аптекарскими товарами; дальше парфюмеры из Грасса выставили свои помады и душистое мыло, парфюмеры из Монпелье - свои духи и бальзамы. Я купил превосходную португальскую воду г-на Дюрана. Продвигаясь вперед, я увидел множество бараков, которые были полны винных ягод, слив, изюма и миндаля. Затем нас поразил запах более сильный, чем приятный; мы приближались к улице, стены которой, очень толстые и довольно высокие, были составлены исключительно из луковиц и из головок чеснока; мы обратились в бегство.
В конце луга, куда мы направились, чтобы глотнуть хоть немного свежего воздуха и тщетно надеясь освободиться от толпы и от пыли, мы увидели маленькую часовню, где служат мессы.
- Вот наконец дом, где ничего не продают,- сказал г-н Бижильон.
Мы ошиблись: там сбывали приезжим испанцам четки в огромном количестве.
Нами завладел торговец лимонадом, уверявший, что у него превосходный газированный лимонад, который уже два часа стоит на льду; мы последовали за ним, стараясь пробраться сквозь толпу. Надо было выйти на Главную улицу. Кафе, бильярдные, места, где танцуют, находятся на Главной улице, а сзади нее тянутся длинным рядом балаганы фигляров, фокусников, а также палатки, где показывают живых зверей или восковые фигуры знаменитостей. Тишина стояла только в том углу, где находилась фигура Наполеона, покоящегося на своем смертном ложе на острове Святой Елены. Он был в полной форме капитана инженерных войск. Когда прошла минута молчаливого созерцания, раздался голос служителя балагана, заявившего, что он является обладателем платка, которым император повязывал себе голову. Каждый захотел дотронуться до этого платка; малому давали по два су, а тот был так уверен в своей публике, что кричал во все горло:
- Господа, это моя личная собственность, но не давайте ничего, если не хотите; никто вас не заставляет.
- Вы видите,- сказал я г-ну де Шарену,- насколько Наполеон пользовался любовью народов. При нем свобода была бы невозможна. Да здравствует битва при Ватерлоо!
Не только дома в городе, бараки и палатки на лугу святой Магдалины переполнены народом, но даже и река, как ни быстро ее течение, покрыта барками, в которых спят по восемь - десять человек; каждая из них имеет свое место, определяемое, по-видимому, ее формой и страной, откуда она прибыла. До смерти Фердинанда VII испанцы приезжали толпами и накупали во Франции товаров на сто восемьдесят миллионов; теперь их всем снабжают англичане, и они покупают во Франции всего на пятнадцать миллионов франков.
Я различил каталонские парусные суда, генуэзские фелюги, марсельские шлюпки. Из Тулузы, Бордо, Бретани и некоторых других океанских портов суда приходят по Лангедокскому каналу. Барки из Лиона, Гренобля и Баланса следуют по Роне. Сейчас только и разговоров, что об одной из этих барок, которая наткнулась на бык моста Сент-Эспри, причем утонуло двадцать человек - то есть, надо полагать, двое.
Баржи, спускающиеся по Роне, сделаны из легких досок; как только товар распродали, судно разбирают и доски тут же продают. Вместо вывесок на них соломенные манекены женщин, деревянная решетка, огромный полишинель шести футов высоты и т. п. Если во время ярмарки в Бокере у купца нет вывески, заметной еще издали и отличающейся от других, его невозможно разыскать.
Официально ярмарка длится только неделю - с 22 по 28 июля включительно; но этот срок удлиняют. Ее таможенные льготы, бывшие очень значительными до революции и заставлявшие стонать бедных откупщиков, были установлены Людовиком XI в 1463 году.
Путешествие в Бокер - праздник для всех. Приказчики торговых домов приезжают обычно за две недели до открытия; они принимают поступающий товар, записывают его, раскладывают надлежащим образом; очень веселое время для этих бедных молодых людей, которые ведут здесь крайне деятельную жизнь и находятся вдалеке от хозяйского глаза. Я вижу здесь очень мало лиц с выражением желчности, уныния и подозрительности, которые так часто встречаются на улицах Лиона или Женевы. Это отсутствие унылой желчности объясняется отчасти тем, что огромная толпа Бокера состоит главным образом из южан.
Для южан самое веселое время наступает, когда раздается "Ave, Maria" (то есть с наступлением сумерек). Тогда спешат кое-как закрыть дома, бараки, палатки. Мелкие торговцы обычно устраивают себе постель на прилавке и привязывают рядом своих собак.
На следующий день мистраль прекратился. Из-за пыли и удушливой жары я принял предложение одного приятеля из Берри, и мне устроили постель на железных брусьях в одном из бараков на лугу святой Магдалины.
Приготовив постели и оставив их под охраной "дежурного приказчика", мы перестали думать о делах. Все расходятся в разные стороны, помышляя только о развлечениях: каждый стремится найти первую красавицу - "львицу", как говорят англичане. С этой целью бегут в балаганы, зверинцы, на скачки, к канатным плясунам или в театр, который действительно неплох. Здесь выступал один лангедокский актер, который очень хорошо играл в комедии "Глухой, или Переполненная гостиница", восхищавшей когда-то нас в дни ранней юности. Его жена божественно исполняла роль Петронильи. Каламбуры и весь искусственный ход действия в этом водевиле как будто нарочно созданы для ума коммивояжера. Он находит в пьесах г-на Скриба слишком неприкрашенную правду и слишком большое сходство с "Мизантропом". По его словам, гений прежде всего скучен.
К половине десятого хорошее общество отправляется на луг, едят мороженое. В это время со всех сторон раздаются звуки инструментов: здесь бал жителей Нима, там - Экса, дальше - авиньонцев; каждый разыскивает бал своих земляков. Звуки провансальской дудки все время сливаются со скрипками и контрабасами, временами заглушая их. Эта дудка не стоит валторны цыганских музыкантов, которая оживляет сады Лейпцигской ярмарки, зато она веселее: меньше думаешь о музыке и больше о пляске, о том, чтобы, не откладывая, пользоваться быстротечной жизнью.
Я каждый вечер ходил на бал каталонцев, которые пляшут под треск кастаньет, распевая песни своей родины. Я люблю испанцев до страсти; это сейчас единственный народ, который осмеливается делать то, что хочет, не думая о зрителях. В некоторые вечера этот бал был очарователен. Но что больше всего придает веселья ярмарке,- это множество молодых женщин из Сент-Этьена, Гренобля, Макона, Монпелье, Безье, Экса, и т. д., и т. д., которые добились от мужей согласия хоть раз в жизни побывать на Бокерской ярмарке; обычно это происходит в год, следующий за рождением первого ребенка. Можно себе представить, какие причуды, по выражению испанцев, порождает любовь или то, что больше всего на нее походит, среди такого скопления людей, из которых богачи всецело поглощены крупными коммерческими операциями, в то время как для молодежи ежедневные обязанности сводятся к чисто физической работе. Молодая женщина, приезжая в Бокер, прежде всего ищет необычных удовольствий. Осмелюсь ли заметить, что к великому ущербу для нравственности в Бокере ничего не принимают всерьез, кроме неуплаты по векселю. Позвольте повторить то, что сказала мне хорошенькая двадцатипятилетняя женщина, которая, право, более рассудительна, чем другие:
"Тут женщина уверена, что никогда больше не встретит человека, с которым позволила себе минутную слабость, между тем как в маленьком городе она должна помнить, что вечно будет иметь его перед глазами, и он может стать ее врагом!"
Нимский префект получает шесть тысяч франков за управление ярмаркой.
Вполне понятно, что такое большое стечение незнакомых друг другу людей и на таком тесном пространстве должно привлекать массу мошенников и девиц легкого поведения. Мошенников тем труднее уличить, что каждый из них выдает себя за торговца каким-нибудь товаром. Мне нигде не встречались такие превосходные, терпеливые и беспристрастные жандармы, как на Бокерской ярмарке. Бокерским ворам несвойственны продуманность и разнообразие комбинаций, отличающие воров Гибрейской ярмарки, но в них много забавной подвижности и наглости. Что труднее всего найти в Бокере, среди стольких товаров всех сортов,- это сдержанный тон, который безусловно обязателен в Париже. Признаюсь в этом, краснея: все здесь балагурят и проказничают.
Бокер - маленький и очень безобразный городок; говорят, что, за исключением времени ярмарки, нет более скучного места в мире. Здесь нанимают дома, дворы, бараки на год вперед, и плата за них так высока, что "букерцы" (как их называют в Провансе) живут на нее целый год. Поэтому они очень не любят заниматься каким-нибудь ремеслом и питают отвращение ко всякому труду, вследствие чего постоянно зевают. Чтобы одеться и обуться, они ждут ярмарки. Рассказывают, что ученый Милен, говоря о Бокере, описал со всеми подробностями церковь, разрушенную за десять лет до его приезда.
Тараскон, 28 июля.
Наконец-то мистраль, мучивший нас в продолжение почти всей ярмарки, дал нам небольшую передышку.
Рассудительный Адам Смит утверждает, что наличие ярмарок свидетельствует о младенческом состоянии торговли; не знаю, как согласовать это утверждение с огромным успехом современных ярмарок в Лейпциге, Бокере и Синигалье. По-моему, смысл есть только в ярмарках для сбыта предметов роскоши; человек поддается соблазну и покупает подарки для интересующей его женщины. Я поднимаюсь на площадку прелестного тарасконского замка; его изящные очертания, которые видны из Бокера, больше выделяют красоту Роны.
Бокер прославлен творениями трубадуров. Там разыгрался очаровательный роман Окассена и Николетты - приемной дочери виконта де Бокера. Именно в этом городе следовало бы изучать историю рыцарства. Мужчины внезапно решили забыть о реальной "пользе" и избрать женщин судьями своих достоинств. Мы больше чем надо излечились от этого приятного заблуждения. Последние ее формы - это fashion и Бремель. Теперь быть знатным недостаточно, надо быть fashionable.
Цивилизация, распространившаяся на далекое расстояние из марсельской республики, подготовила почву для правления утонченных и рыцарственных властителей, которые придают столько обаяния истории Прованса. Раймонд V созвал в 1172 году в Бокере торжественное собрание вельмож, и каждый прибывший сюда рыцарь старался блеснуть роскошью. Рембо велел провести при помощи двенадцати пар быков длинные борозды во дворах и в окрестностях замка и в этих бороздах посеял тридцать тысяч су (тогда су был равноценен теперешнему франку).
Вильгельм Громартель приказал приготовить на огне восковых факелов все блюда для своего личного стола и для угощения трехсот рыцарей. Такое безумие очень удивило бы грека - современника Аспазии. Аспазия была очаровательна, но она не была судьей мужских достоинств. Сейчас мы возвращаемся к временам Аспазии.
Раймонд де Во приказал сжечь перед собравшимися рыцарями тридцать самых красивых из числа привезенных им лошадей.
Однажды во время пребывания в Бокере мы поднялись к старинному замку, столь прославленному историками рыцарства; от него остались только развалины; в 1632 году Людовик XIII велел его разрушить. Вид с вершины этого холма довольно красив; великолепная Рона и своеобразный Тарасконский замок скрашивают то, что могло бы показаться обыденным. Жители Лангедока называют его Bel-caire, это означает: Beau quartier*.
* (Прекрасный квартал (франц.).)
Две вещи мешали мне полностью наслаждаться удовольствиями Бокера. Осмелюсь ли назвать их? Прежде всего - мистраль, а затем блохи - враг, которого я больше всего боюсь - для меня в сто раз лучше встретиться с разбойниками на большой дороге. Когда мистраль стихал, я ходил гулять по великолепному решетчатому мосту, ведущему в Тараскон. Этот мост имеет четыреста сорок метров в длину, обошелся в 800 тысяч франков и приносит своим владельцам 100 тысяч франков годового дохода. Я прихожу в восторг, когда вижу успех прекрасного, смелого предприятия.
Мы встречались в Бокере с одним ученым. Это человек с большими знаниями, но невыносимый педант. Он сообщил нам, что насчитал в провансальском наречии три тысячи слов нелатинского происхождения.
Dun по-кельтски означает возвышенность. Мы сохранили слово dunes*. Отсюда названия городов: Верден, Иесуден, Шатоден. Van означает гору, dor - ручей: Дюранс, Дордонь, Дуара. Вот самые простые фразы, в которых все подчеркнутые слова - вэльские и сохранились во французском языке: Се quai conduit au pare. Sur се banc je vols un tas de brocs, cette corde fine est de la drogue. Fi, de cette cotte blanche**.
* (Дюны (франц.).)
** (Эта набережная ведет в парк, на этой скамье я вижу кучу кувшинов. Эта тонкая веревка - дрянь. Тьфу на эту белую юбку (франц.).)
Но самым большим очарованием Бокера было для меня общество и, смею сказать, дружба г-на и г-жи Шарен. Должен сознаться, я колеблюсь, рассказать ли связанную с ними историю. Помимо того, что она несколько неприлична, это приключение - самое интересное из всего встреченного мною во время поездки - в письменном изложении слишком длинно; да, в сущности, и приключения-то не было, и в конце рассказа не хватает острого словца. То, что прочтет здесь снисходительный читатель, надо поэтому рассматривать только как беглое наблюдение над причудами человеческого сердца. Если же ваша добродетель возмутится, я скажу, что вся эта история - вымысел.
Мы с Тибервалем провели в Бокере несколько приятных дней в обществе г-на и г-жи Шарен. Господин Шарен - высокий, красивый немец, с орлиным носом и прекрасными светлыми, тщательно причесанными волосами. Хотя он и негоциант, но, как мне кажется, путешествует не столько ради дел, сколько ради собственного удовольствия. Для нас же главным делом было добиться хоть некоторого расположения г-жи Шарен, очарование которой не только в ее совершенной красоте. В выражении ее лица столько наивности и вместе с тем одухотворенности, что о красоте ее как-то забываешь. Осторожный человек при встрече с г-жой Шарен только тем и озабочен, как бы в нее не влюбиться. Правда, ему помогает в этом мудром намерении исключительное достоинство ее манер. Один из умных людей Бокера сказал, что ее жесты - словно отзвук великой души. В числе других ее очарований - самая добродушная детская улыбка, какую мне только приходилось видеть. В этой прелестной улыбке много остроумия, но совершенно беззлобного. Отсутствие душевной черствости и есть, на мой взгляд, то, что составляет чарующую привлекательность стран, лежащих за Рейном. Это качество тем более поражает в г-же Шарен, что она принесла не то 800 тысяч, не то миллион франков в приданое.
Вот что, однако, несколько усложняет нашу историю: у г-на Шарена есть близкий друг, г-н Мюнх, человек маленького роста, мускулистый, изящно сложенный, элегантно одетый и, как ни чужд он нашим обычаям, блещущий остроумием, весьма редко встречающимся у немцев. У него тоже очень хорошенькая жена - пикантная брюнетка, чрезвычайно гордая и, как мне кажется, несколько сумасбродная. Господин Мюнх - негоциант, как и его друг, видимо, очень богатый, путешествует вместе с г-ном и г-жой Шарен. Год назад они уехали из своего города,- вероятно, это какой-то большой саксонский город, если судить по их великолепному немецкому выговору. Но откуда они, никто из них не говорит. На второй же день после того, как я был введен в это любезное немецкое общество, в нем произошел "семейный разлад". Может быть, Шарен приревновал к моему другу Тибервалю, молодому французу с довольно изысканными манерами и очень привлекательному во всех отношениях. Но вот что странно: Шарен приревновал к нему не свою жену. Тиберваль явно ухаживал за высокоблагородной г-жой Мюнх, этой горделивой принцессой с прекрасными черными волосами. Ревность славного немца была слишком очевидна. Мы с Тибервалем были в полном недоумении и после нескольких военных советов решили, что необходимо удвоить внешнюю веселость, правда, не мне (мне с моим ломаным немецким языком была поручена роль простака). Я стал редко смеяться, чтобы не быть заподозренным в иронии.
Немцы выходят из себя, сталкиваясь с тем, что они называют французской иронией. И вот, претендуя на полное ее отсутствие, я дохожу до сентиментальности, изрекаю прописные истины, и все это только для того, чтобы войти к ним в доверие. Тщетные усилия! Мюнх с женой на третий день отбывают в Сетт под предлогом увеселительной поездки, хотя для этих благодушных, спокойных немцев ничто не может сравниться с бокерским шумом, который они принимают за самую восхитительную веселость.
Мюнх с восторгом скупает все книги на провансальском наречии, какие только может достать, и способен ночи напролет говорить с нами о судах любви. Чувствовалась какая-то тайна, которую мы бессильны разгадать. Будь я хозяином своего времени, я посвятил бы этому две недели, настолько я до глубины души влюблен даже в видимость доброты и простоты сердечной. Но сказать "видимость" здесь несправедливо. Никто не бывает так искренне добр, как немец (если он не дипломат по профессии).
Немец прыгает в окно. "Что вы делаете?" - спрашивают его. "Я хочу быть бойким". Это словцо характерно для политического деятеля Германии. Он считает нужным вечно хитрить и стремиться во всех отношениях подражать де Талейрану. Представьте себе сами впечатление от этой странной выходки.
Я уехал, так и не разгадав секрета двух прекрасных немок и их мужей, но взял с Тиберваля клятву, что он мне напишет, если после моего отъезда тайна раскроется. Почему Шарен ревнует г-жу Мюнх, если он любит свою жену, к тому же столь очаровательную?
Не знаю, до какой степени дошло увлечение Тиберваля. Когда его сердце затронуто, он становится непроницаемым. Но, как видно, его задело за живое. Вот что я узнал косвенным путем. Тиберваль обратился к советам врача, не выходил в Бокере из комнаты и таким способом смог, не вызывая толков, отправиться на воды в Баньер через несколько дней после того, как туда прибыли наши прекрасные немки, - кстати, они задушевные подруги.
Спустя четыре месяца Тиберваль присылает мне из Дрездена крошечное письмо из шести строк. Странная краткость! Автор письма поражен в самое сердце.
Чтобы сдержать данное слово, он сообщает мне разгадку; я же, в свою очередь, хочу поделиться ею с читателем, по возможности не оскорбляя его высокую добродетель.
Я не стал бы, конечно, рассказывать о подобном случае, если бы действующие лица были французами. Но господа Мюнх и Шарен живут за несколько сот лье от нашей границы. И хотя судьба щедро наделила их всевозможными преимуществами, они в глубине души побаиваются, что их сочтут тяжеловесными и грубыми. Они находятся в цвете лет, со вкусом наслаждаются своим большим состоянием, одарены прямой и возвышенной душой. В Бокер они приехали из Неаполя, откуда их прогнал страх холеры. Обо всем этом писать легко, гораздо труднее рассказать об остальном. Покинув все вместе родной город, они ехали в двух экипажах. Как только они доехали до Бриксена, на границе Италии, в ста лье от дома, Мюнх, обладающий весьма своеобразным умом, сказал своему другу:
- Ты ухаживаешь за моей женой. Нет, не отрицай этого. Ты, дорогой друг, сделаешь все возможное, чтобы обмануть меня. А достойно ли друзей детства обманывать друг друга? Но, с другой стороны, неужели же нам отказаться от интересного полуторагодичного путешествия, которое мы задумали вместе совершить? Что касается меня, то я не выдержу одиноких вечеров и один не поеду. Но если ты собираешься отбить у меня жену, которая очень хороша, то ведь и твоя прелестна, и я, может случиться, буду изо всех сил стараться отплатить тебе тем же. Какие бы клятвы мы друг другу ни давали, это ничего не изменит. Силой вещей каждый из нас оказывается вынужденным ухаживать за женой другого, и мы, несомненно, вернемся домой смертельными врагами. Хорош будет результат совместной поездки двух старых друзей, друзей со школьной скамьи - ведь мы с тобой вместе учили азбуку! Мы в тридцати лье от Вероны, куда приедем завтра вечером. Там мы проведем сутки, чтобы осмотреть картинные галереи и древности, а на следующий день уедем из этого прекрасного города. Так вот! Давай с этого же дня поменяемся женами. Госпожа Шарен всюду будет называться госпожой Мюнх, а госпожа Мюнх - госпожой Шарен. На обратном пути в той же Вероне, через которую мы будем возвращаться, каждая из дам вернется к своему законному повелителю. И мы никогда никому ни слова не скажем о том, что было.
Это предложение было сделано с полным добродушием, в присутствии обеих дам. Ответом было молчание, которое тянулось целые сутки. Один только Мюнх осмеливался прерывать его. Он говорил своему другу:
- Если твои мещанские предрассудки не мирятся с этим проектом, простимся немедленно. Но если, как истые, благородные сыны Германии, презирая всякую ложь, которая охладила бы нашу дружбу, мы решимся быть искренними, продолжим наше прекрасное путешествие по Италии.
На этом в конце концов и порешили. И я, хотя и недостаточно зная, но искренне любя этих прелестных немок, готов побиться об заклад, что они будут примерно вести себя всю остальную жизнь. Что же касается Тиберваля, то он ничего не добился, хотя и был страстно влюблен и весьма искусен в любовных делах.
Ним, 1 августа 1837 г.
Совершив поездку в Бокер, что в глазах моего тестя является проявлением необыкновенной преданности интересам нашей фирмы, я даю себе на несколько дней отпуск, чтобы осмотреть Ним, Пон-дю-Гар и Оранж,
Приехав в Ним в пять часов утра - путешествовать теперь из-за чрезвычайной жары можно только ночью,- я бегу к Квадратному дому. Какое мещанское название для этого прелестного маленького храма! Прежде всего он вовсе не квадратный, а имеет форму игральной карты, как и всякий порядочный античный храм. Его небольшой открытый портик, поддерживаемый очаровательными коринфскими колоннами, вырисовывается на голубом южном небе. Другие колонны, расположенные вокруг портика, наполовину вделаны в стену, что теперь не модно. Общее впечатление великолепно; я видел более величественные здания в Италии, но ни в одном из них не было той античной прелести, в которой перегрузка орнаментами не исключает истинной красоты. Это словно улыбка человека, который обычно серьезен. Душа испытывает сладостное волнение при виде этого храма, а между тем в нем не более семидесяти двух футов длины и тридцати шести ширины; он меньше, как видите, чем большинство готических церквей в наших деревнях; а насколько больше он говорит душе! Впрочем, они совсем по-разному воздействуют на нее. Квадратный дом весьма далек от того, чтобы внушать ужас или даже печаль.
Храмы античных народов были малы, а цирки очень велики; у нас - наоборот: наша религия запрещает зрелища и предписывает умерщвление плоти. А римская религия была праздником: она не требовала, чтобы верующие жертвовали своими страстями, а лишь направляла их на пользу родины, и потому ей не нужно было собирать верующих на долгие часы с целью запечатлеть в их душах боязнь адских мучений.
Есть пять достопримечательностей, которые надо осмотреть в Ниме: 1) храм, 2) арены, 3) античные бани, или "Нимфей", 4) башня Мань и 5) ворота Августа.
Читателю следовало бы разыскать какое-нибудь изображение Квадратного дома. Уже пятый или шестой раз я вижу этот прелестный храм, и с каждым приездом сюда он доставляет мне все большее наслаждение. Кольбер имел намерение перенумеровать его камни и перевезти их в Париж. В основе этого лежала неплохая мысль,- Вольтер не стал бы выбиваться всю жизнь из сил, чтобы прославить до небес величавый Гренельский фонтан. Но все же хорошо, что этот план не был осуществлен: бездарный архитектор по имени Мансар, который в своем искусстве был чем-то вроде фаворита Людовика XIV, при сборке этого античного здания, несомненно, добавил бы к нему какой-нибудь нарядный орнамент.
Теперь было бы очень просто соорудить в Париже его точную копию, но ученые-академики никогда бы на это не согласились. В нем есть вделанные колонны, пропорции капителей слишком коротки, число модильонов нечетное, и т. д., и т. д. Действительно, архитекторы времен Антонина, жившие в Риме, мыслили иначе, чем те ученые, которые живут в Париже среди самых нелепых зданий, способных в конце концов испортить вкус. Вся эта глупая ученость, если изложить ее вульгарным языком, сводится к следующему: нужно наложить запрет на Монтескье, ибо, говоря о некоторых душевных переживаниях, он не пользуется оборотами речи Боссюэ. Нужна ли в Париже биржа - строят античный храм; нужна ли церковь - снова античный храм. Если уж наша жалкая архитектура бессильна создавать здания, которых требуют наш климат и нравы, ей следовало бы лучше копировать готические строения. Что может быть безобразнее домов, в которые она вводит греческие колонны?
Иметь в Париже римский Пантеон, несколько греческих храмов или даже Квадратный дом - что было бы очень нетрудно благодаря великолепному описанию его, сделанному Клериссо (1778 год),- такая мысль покажется совсем простой в 1880 году, когда дети, находящиеся теперь в коллеже, станут министрами. Против возведения античных храмов будет говорить только их недостаточная высота.
Вот несколько слов об этом прелестном Квадратном доме. (Я умоляю читать эти строки, имея перед глазами хотя бы самую плохую гравюру.) Квадратный дом походит,- но в уменьшенном, очень уменьшенном виде - на церковь святой Магдалины, с той разницей, что его боковые колонны вделаны в стену.
У него шесть колонн по фасаду и одиннадцать по бокам, считая дважды угловые колонны. Восемь из этих колонн наполовину вделаны в стену; три остальные, совершенно изолированные, образуют впереди храма открытый портик, который производит восхитительное впечатление.
Эти тридцать колонн, из которых десять изолированы и двадцать вделаны, коринфского стиля. Их высота - двадцать семь футов, три дюйма, три линии, и их диаметр - два фута, девять дюймов. Они отдалены друг от друга меньше, чем на длину двух диаметров, а междустолбие в центре несколько шире. Капители, украшенные оливковыми листами, очень изящны, так же как и орнаменты антаблемента; модильоны считаются неудачными.
Длина здания - семьдесят два фута; его высота и ширина- по тридцать шесть футов; стена храма, в которую наполовину вделаны колонны, имеет два фута толщины и построена из прекрасного белого камня.
Она украшена легкими рустами, что создает спокойный фон, на котором выделяются каннелюры тонкой работы. Колонны фронтона в числе десяти образуют pronaos, или портик, к которому поднимаешься по лестнице из пятнадцати ступеней. Противоположная сторона украшена так же, как и боковые.
По-видимому, северный портик, великолепный по богатству отделки, был единственным источником света. Крыша портика является современной реставрацией, и кессоны потолка сделаны из папье-маше. Г-н Сегье, умерший в 1784-м, догадался разобрать надпись на фронтоне по отверстиям для гвоздей, которыми были прикреплены бронзовые буквы. Если читать надпись, руководясь его методом, то убеждаешься, что Квадратный дом был посвящен Марку Аврелию и Луцию Веру, приемному сыну Антонина, родившемуся в Ниме. Ведь вам известно, что при Антонине величавую простоту первого века заменили роскошь и многочисленность деталей.
В 1823 году возымели пагубную мысль устроить в Квадратном доме музей. Я заметил там скульптурный обломок орла, несущего гирлянду.
В дни моей ранней юности я видел, как Квадратный дом подвергался самым позорным оскорблениям: сотни детей швыряли камнями в птиц, гнездившихся в скульптуре капителей, мальчишки лазали по колоннам и т. д. Один префект, человек просвещенный, г-н Дютерраж, окружил храм железной балюстрадой и реставрировал Арены. К несчастью, в отношении Арен у него оказались плохие помощники: вместо того, чтобы предохранить античные постройки от разрушения, их восстановили; ничто так не возмущает воображение, унесшееся в древние времена.
Так как я уже видел перед тем римский Колизей, Веронский цирк и т. п., Арены Нима доставили мне гораздо меньше удовольствия, чем Квадратный дом. Этот амфитеатр представляет гармоничный овал, в большем диаметре, с востока на запад, имеющий сто тридцать один метр, включая толщину стен, а в меньшем - сто три метра. Он состоит из нижнего этажа, прорезанного шестьюдесятью портиками, из второго этажа, имеющего шестьдесят аркад, и из аттика, который заканчивается на высоте двадцати одного с половиной метра над землей. Было четыре главных входа; над северным - рельеф двух бычьих голов. Все здание в невыдержанном тосканском стиле, приближающемся к дорическому. Внутри имелось тридцать четыре ряда расположенных уступами скамей; семнадцать из них еще сохранились в более или менее поврежденном виде. Этот амфитеатр вмещал двадцать две тысячи зрителей. Впрочем, все эти точные цифры только расхолаживают воображение. Найдите эстамп; нет ничего более достойного любознательности путешественника, чем великолепные листы г-на Клериссо.
Освобожденные г-ном Дютерражем от всех загромождавших их лачуг, Арены теперь занимают центр обширной площади, и можно одним взглядом охватить их в целом. Это сооружение кажется мне низким по сравнению с римским Колизеем. Наружная стена нимских Арен почти полностью сохранилась, верхушка их также мало пострадала. Уцелела и большая часть просверленных камней, в которых укреплялись шесты с холстами, предназначавшимися для защиты зрителей от солнца. Когда доходишь до архитектурных деталей, то в нимском амфитеатре оказывается много недостатков, которых нет в амфитеатре Арля.
Лепные украшения Арен закончены только в части, обращенной к западу. Встречается довольно много фаллусов, изваянных на замочных камнях сводов. Над одним из входов - изображение передней части двух быков очень выпуклой лепки; есть основания предполагать, что все входы были украшены таким же образом. Возможно, что это лесть императору Августу: Светоний рассказывает, что этот государь родился в доме, фасад которого был украшен бычьими головами. Многие из больших камней, служивших скамьями, разделены чертами, которые разграничивают места, предназначенные каждому зрителю. Все эти детали, когда видишь их на месте, дают ощущение близкой реальности, что совершенно пропадает при рассказе.
Именно Арены больше всего пострадали от невежества нимских архитекторов. Вместо того, чтобы только укрепить части, которым грозило разрушение, их совершенно переделали; это перестройка, а не реставрация. Такое же варварство допустили в Риме по отношению к очаровательной арке Тита.
Арены сложены из нецементированных камней, скрепленных бронзовыми скобами. Король Теодорих издал приказ, запрещавший вырывать эти скобы. Попадаются камни длиной в восемнадцать футов. Как все большие римские строения, Арены в средние века служили крепостью.
Нимекий водоем представлял бы теперь чудесные античные руины, быть может, прекраснейшие из всех существующих во Франции, если бы не было затрачено два миллиона на его реставрацию. В настоящее время этот водоем представляет собой просто канал, выложенный каменными плитами, окаймленный балюстрадой и скорее напоминающий крепостной ров, чем богатый источник струящейся воды. Следствием произведенного ремонта явилась лихорадка, которою этот водоем награждает жителей соседних домов.
Ближайшие к нему развалины, которые решено было сохранить,- это Нимфей. Мы видим здесь аркады, заделанные каменной кладкой в более поздние времена; одна, оставшаяся открытой, служит входом. Внутри это большой сводчатый зал с шестнадцатью колоннами, поддерживающими зубчатый карниз, на котором покоится свод. Стены сложены из огромных нецементированных камней, соединенных скобами. Счастье их, что они отличались такой прочностью! В 991 году это здание было передано монахиням бенедиктинского ордена, которые его хорошо сохранили; оно было почти нетронуто, когда они оставили его в 1552 году. В 1576 году оно служило одному фермеру дровяным складом; завистливый сосед поджег находившиеся в нем дрова, и от сильного пожара большинство камней растрескалось. В следующем, 1577 году, когда маршал де Бельгард осадил Ним, жители, чтобы помешать ему укрепиться в этом здании, разрушили всю его переднюю часть.
Что может быть приятнее и живописнее, чем внутренняя часть этих терм в настоящее время? Я с удовольствием провел там сегодня, 1 августа, целый час. Несмотря на чрезвычайную жару, в тени этих высоких римских стен царила чудесная прохлада. Земля покрыта всякого рода прекрасными обломками. Можно подумать, что вы в Риме.
Поблизости от этих римских бань имеется возвышенность, на которой находятся довольно бесформенные развалины, называемые башней Мань. Ее использовали, устроив в ней телеграф. Это печальные остатки разрушенной могилы, каких очень много в окрестностях Рима, например, не доходя ста шагов до ворот Альбано. Какой только чепухи не говорили, чтобы объяснить, чем являлось это здание! Дейрон утверждал, будто это был маяк, Астрюк полагает, что это галльский храм; по утверждению других, здесь помещалось государственное казначейство. Можно сказать только одно: высота этого здания примерно равняется тридцати девяти метрам.
При срытии укреплений, сооруженных в 1194 году, при Раймунде V, графе Тулузском, были найдены старинные ворота, состоявшие из четырех пролетов. На этих воротах можно разобрать надпись; она до сих пор ясно видна по выемкам, предназначенным для бронзовых букв, которые впоследствии были сняты: "Цезарь Август, избранный консулом в одиннадцатый раз на восьмом году своего пребывания трибуном, приносит в дар Нимской колонии эти двери и стены". Август был в восьмой раз облечен властью трибуна во второй половине 738 года по римскому летосчислению и в первой половине следующего года, что дает возможность определить вероятную дату постройки Арен (за 15 лет до христианской эры).
Эти ворота Августа, расположенные напротив Римских ворот на Домициановской дороге, служили при римлянах главным входом в город. Ним, который начиная с 1814 года слишком много заставил о себе говорить, насчитывает сорок две тысячи жителей; он расположен посреди плодородной равнины, которая окружена холмами, поросшими фруктовыми и оливковыми деревьями и виноградниками.
Нимский собор был в значительной части перестроен в XVII веке. Некоторые части цоколя фасада и примыкающей к нему башни, по-видимому, принадлежали какому-то античному строению; говорят, что это был храм, воздвигнутый в честь Августа; достоверно лишь то, что часть фронтона относится к XI веку. В соборе похоронены двое ловких и посредственных людей - Флешье и кардинал де Берни.
Выйдя из собора, я пошел взглянуть на здание суда, сооруженное в современном греческом стиле, и на дом г-на Бонно, торговца аптекарскими товарами-, расположенный на улице Фруктовщиков; он украшен фрагментами фризов, модильонами и т. д., вероятно, принадлежавшими собору и подобранными в те времена, когда протестанты пытались его разрушить.
Мы были крайне утомлены. Наступило время обеда, затем послеобеденного сна, и уже почти смерклось, когда мы пошли осмотреть коллекции г-на Пеле. Они необыкновенно интересны. Господин Пеле, неутомимый ученый, сделал из пробки модели римских зданий Южной Франции. Трудно представить себе более искусное и вместе с тем более точное воспроизведение. Так как эти модели все изготовлены по одной шкале, я впервые получил представление о сравнительной величине этих зданий; масштаб изящных строений г-на Пеле - сантиметр на метр. Я с удивлением обнаружил, что Триумфальная арка Оранжа, это гигантское сооружение, легко прошла бы под одной из нижних арок Пон-дю-Гара.
Ним, 2 августа.
Один толковый человек, который изложил мне подлинную историю убийств, совершенных в этом крае, и с которым мы, чтобы отвлечься от этих мрачных мыслей, пошли к г-ну Пеле, сказал мне:
- Когда-то этот Юг, где ныне происходит падение цивилизации по вине бездарного правительства, которое не карает смертной казнью за убийства, видел лучшее, что создало рыцарство среди людей.
Экзальтация любви, чувство, кажущееся теперь таким смешным, и которое полновластно царит в стихах Петрарки и Данте, было основой всего рыцарства, провансальская поэзия называла его joy.
В испанском кодексе joy вменяется в обязанность рыцарям. Так, например, меч Карла Великого называется "Joyeuse", то есть "воодушевленный любовью". Еще и теперь по-итальянски эпитет tristo характеризует существо пошлое, прозаическое, враждебное всякому великодушию, человека, которого надо избегать, который только что не достоин виселицы.
Провансальская наука любви установила совершенно обособленные ступени, через которые надо было последовательно пройти.
Сперва человек становился feignaire - не решающимся, затем pregaire- просящим, затем entendaire - разумеющим и наконец druz - другом.
По-итальянски drudo называют любовника замужней женщины.
Господин Форьель*, подлинный ученый, прекрасно описал эту цивилизацию средних веков в Провансе. Стоила ли эта жизнь, по вашему мнению, зависти и лицемерия девятнадцатого века?
* (Форьель (1772-1844) - французский филолог и историк, автор многих трудов по истории и литературе Прованса. Стендаль был лично знаком с ним.)
3 августа.
(Записано в тени под одной из арок Пон-дю-Гара).
Я воспользовался ночью и чудесным лунным светом, чтобы проехать пять лье, которые отделяют Ним от моста. Доехал я туда часам к пяти утра, погруженный в глубокий сон. Верный Жозеф отправил лошадей на почтовую станцию Ла-Фу, находящуюся в четверти лье, и не мешал мне спать. Он разложил костер и сварил прекрасный кофе. Нашедшаяся по соседству коза снабдила нас молоком.
ПОН-ДЮ-ГАР
Вы знаете, что это сооружение, которое было когда-то простым акведуком, величественно возвышается в полнейшем уединении.
Душа повержена в долгое и глубокое изумление. Едва ли даже Колизей в Риме погружал меня в столь глубокое раздумье.
Эти восхищающие нас аркады составляли часть акведука, длиною в семь лье, который подводил воду в Ним из источника Эры; ее надо было вести через узкую и глубокую долину; отсюда это сооружение.
Мы не находим в нем никакого признака роскоши и украшений Римляне созидали подобные изумительные вещи не для того, чтобы вызывать восхищение, но просто и лишь тогда, когда они были полезны. Этот в высшей степени современный принцип - стремиться произвести впечатление - здесь очень далек душе зрителя, и если вспоминаешь об этой мании, то лишь для того, чтобы отнестись к ней с презрением. Душа полна чувств, которые она не решается высказать, а тем более - преувеличивать. Подлинные страсти стыдливы.
Три ряда аркад с полуциркульными сводами тосканского ордена, воздвигнутые одни над другими, составляют этот большой массив, который имеет шестьсот футов протяжения на сто шестьдесят футов высоты.
Первый ряд, который занимает всю глубину узкой долины, состоит всего из шести аркад. Второй, вышестоящий ряд находится в более широком месте долины, и в нем одиннадцать аркад. Третий ряд состоит из тридцати пяти маленьких и очень низких арок; он был предназначен для того, чтобы точно доходить до уровня воды. Он той же длины, что и второй, и непосредственно поддерживает водоем, в котором шесть футов ширины и шесть футов глубины. Я не буду пытаться говорить громкие фразы о величественном памятнике; его надо посмотреть на гравюре, не для того, чтобы почувствовать его красоту, но чтобы понять его форму, к тому же очень простую и строго рассчитанную на то, чтобы приносить пользу.
По счастью, к радости путешественника, рожденного для наслаждения искусствами, куда бы он ни направил свой взор, он не встретит никаких следов жилья, никакой видимости обработки земли: тимьян, дикая лаванда, можжевельник - единственная растительность этой пустыни - изливают свое уединенное благоухание под ослепительно ясным небом. Душа предоставлена самой себе, и все внимание неизбежно устремлено на это создание народа-властелина, находящееся перед глазами. Мне кажется, что этот памятник должен воздействовать, как прекраснейшая музыка; для немногих избранных сердец это - событие; другие же думают с восхищением о том, сколько на него затрачено денег.
Как большинство крупных римских памятников, Пон-дю-Гар построен из тесаного камня, сложенного всухую, без извести и цемента. Края акведука покрыты цементом, который сохранился и посейчас.
Однажды у меня нашлось время пройти вдоль акведука в горы; он разделялся на три разветвления, и проводник провел меня по его следам на протяжении почти трех лье; под землей водопровод лучше сохранился.
Под Пон-дю-Гар течет Гардон; и так как эту речку не всегда можно перейти вброд, штаты Лангедока построили в 1747 году мост, прислоненный к акведуку. В XVII веке пытались сделать проезжим для повозок верх второго ряда аркад.
До самого акведука, лежащего на грех аркадах, можно добраться, поднявшись по крутому откосу, который идет вдоль правого берега Гардона.
Оранж, 4 августа.
Я остановился здесь лишь на полдня, чтобы осмотреть город, и нашел все улицы затянутыми холстом ввиду чрезмерной жары. Этот климат приводит меня в восхищение, его одного хватило бы для моего счастья, быть может, недели на две. Я сказал бы почти как Араминта: он погружает в сладостную истому.
Мне хотелось увидеть театр и Триумфальную арку. Стена театра видна издалека; она господствует над городом. Триумфальная арка, построенная, вероятно, во времена Марка Аврелия, великолепно расположена; она поднимается на пыльной равнине в пятистах шагах от последних домов со стороны Лиона; ее желто-оранжевый облик выделяется самым гармоничным образом на темной лазури неба Прованса. Эта внушительная арка имеет шестьдесят шесть футов ширины и шестьдесят высоты; в ней три аркады: средняя, как полагается, выше и шире боковых. Северный фасад (со стороны Лиона) был, быть может, главным, потому что он служил въездом в город; в нем сохранились лишь три коринфские колонны и основание четвертой. Барельеф аттика изображает оживленную схватку пехотинцев со всадниками, но я не мог различить, к каким национальностям принадлежат сражающиеся. С левой стороны от этого барельефа видны орудия для жертвоприношений. Трофеи, находящиеся ниже, с обеих сторон фронтона, состоят почти исключительно из носовых частей корабля, якорей, весел и других очень хорошо сгруппированных морских атрибутов. Трофеи, которые видны над малыми аркадами, представляют собой оборонительные и наступательные орудия, но не имеют никакого отношения к морскому делу; в различных частях этих трофеев можно прочесть несколько слов или обрывки их.
Южный фасад этой Триумфальной арки очень пострадал; морской ветер источил камень, и барельефы гораздо более повреждены, чем на северной стороне. Темой большого рельефа аттика является точно так же бой пехотинцев и всадников. С этой стороны остались лишь две колонны, но на щитах можно явственно прочесть следующие слова: Sacrovir, Mario, Dacuno Udilles. На этом фасаде, справа от большого барельефа, виден бюст женщины, которая держит палец в ухе. Ее называют в этих краях Сивиллой Мария.
Обе малые стороны Триумфальной арки богато отделаны или, вернее, были отделаны. Фасад с восточной стороны до сих пор еще украшен четырьмя коринфскими колоннами с каннелюрами. Фриз изображает бой гладиаторов; над ним возвышается фронтон, по обеим сторонам которого изваяны нереиды. Между четырьмя колоннами мы замечаем три трофея, составленных из оружия; видны значки с изображением кабана. Над каждым из этих трофеев находятся две фигуры пленников; руки у них связаны за спиной. В середине фронтона восточного фасада находится лучезарное изображение солнца.
Западный фасад совершенно выветрился.
Внутренняя сторона сводов покрыта украшениями, в общем очень изящными, но не все они сделаны одним мастером; некоторые из них выполнены более слабо.
Этот великолепный памятник служил в средние века крепостью; он был тогда увенчан высокой башней и замкнут в строение. Покончили со всем этим лишь в 1721 году. Один каменщик по имени Жофруа несколько лет тому назад восстановил одну из колонн, поддерживающих фронтон с южной стороны.
Лерберт, аббат из Сен-Рюфа, живший в XI веке, говорит, что эта Триумфальная арка была воздвигнута в честь Цезаря, победителя марсельцев. Ее называют теперь аркой Мария, но никто не может определить ни эпоху, ни название этого памятника.
Кто мог предположить, когда воздвигалось это величественное здание, чтобы увековечить славу великого народа и его полководцев, что настанет время - и оно будет еще стоять, но никто уже не будет знать о его назначении?
Мой чичероне провел меня к тому, что он назвал мне "Большим цирком". Здание это расположено на склоне горы; но это был театр, а не цирк. Круглая часть, в которой находились сиденья для зрителей, высечена в скале. Еще видны обломки огромных колонн; было три ряда колонн один над другим. Стена, которая разрезала полукруг, образуя в глубине сцену, сохранилась полностью и производит чудесное впечатление; сразу же узнается архитектурный стиль римлян. В ней сто восемь футов высоты и триста ширины. Нельзя насмотреться на эту стену, такую большую, такую простую, так хорошо построенную, так хорошо сохранившуюся. Она украшена двумя рядами аркад и аттиком. Посередине - большая дверь, которая служила, по всей вероятности, входом на сцену для актеров.
Так же как у Пон-дю-Гара, римляне всюду вызывают в нас чувство глубочайшего уважения и живейшего восторга своими постройками, предназначенными для самого простого применения. В этом сущность характера великого народа.
Стена имеет двенадцать футов толщины; она ело-, жена из огромных нецементированных камней, причем некоторые из них имеют пятнадцать футов длины. Еще сохранились залы, и видны лестницы, две ступени которых вырублены в одной глыбе. Заметны следы пожара.
На вершине горы, к которой прислонен театр, видны развалины замка, выстроенного из камней театра; оттуда открывается довольно обширный вид: с одной стороны - долина Роны и красивый мост Святого Духа, с другой - гора Ванту, вершина которой девять месяцев в году покрыта снегом; говорят, что это одна из первых гор, которую замечают, подъезжая морем к Марселю.
Лапиз, "История Оранжа", стр. 29, сообщает, что в этом городе были еще другие здания: амфитеатр, термы, акведук, от которого сохранилось лишь несколько аркад, вклинившихся в стены домов. Эти аркады сложены из мелких квадратных камней. Почва в городе Оранже повысилась на два или три фута. Окрестности усеяны чудовищным количеством камней.
Если читатель не видел Триумфальной арки Оранжа или по крайней мере приличной гравюры с нее, он найдет все эти технические подробности крайне скучными. Но как не рассказать подробно о таком прекрасном памятнике, который доставил мне счастье на целый день?
Тюллен, 6 августа 1837 г.
Вчера в Балансе шел дождь. Я курил сигару на пороге гостиницы, как должен делать всякий истый путешественник, желающий видеть и осведомляться. Подошел хозяин, который рассказал мне историю хороших вин здешнего края.
Собственником виноградника, которому мы обязаны превосходным вином Эрмитажа, является епископ Баланса. Он сдал его в аренду компании, которая, кроме арендной платы, отдает хозяину четыреста бутылок вина лучшего качества, но с условием, чтобы их не раздавали в подарок. Опасаются, вероятно, сравнения с тем вином, которое компания пускает в продажу.
Я рассуждал о винах, когда увидал выходящего из марсельского дилижанса г-на Бюиссона, алжирского негоцианта, который любезно берет на себя устройство наших делишек в этих краях. Господин Бюиссон направляется в Понт-ан-Руайан, где владеет суконной фабрикой. Он искал экипаж; я предложил ему свой, чтобы отвезти его в края, живописность которых мне очень расхваливал г-н Бижильон; и сегодня утром в пять часов мы покинули Баланс.
По дороге он рассказал мне забавные вещи об Алжире, откуда выехал неделю тому назад. Пока не приехал туда благоразумный маршал Вале, мы показали себя легкомысленными хвастунами, и арабы теперь твердо уверены в том, что французы - жалкий народ, умирающий с голоду на берегу Средиземного моря вокруг города, который не составляет и четверти Алжира и называется Марсель. Эти французы, не зная, как выйти из положения, приезжают в Алжир воровать быков; вообще же они самые безрассудные люди на свете. Иной раз они расстреливают своих пленных, а на следующий день к ним возвращается их природный страх перед арабами, и они осыпают пленников подарками.
- Право же,- сказал мне г-н Бюиссон,- самым мудрым было бы похитить пятьдесят сорокалетних арабов, отвезти их в Париж, где их поселили бы в Доме инвалидов и давали бы по десять франков в сутки. По возвращении в горы Атласа они рассказали бы о том, что видели. А до тех пор, при таком умном ведении дел, нашему беспокойному тщеславию удается лишь добиться полного презрения со стороны почтенных арабов.
Император Марокко, сказал мне г-н Биюссон,- пятидесятилетний янсенист, повелевающий сборищем хмурых янсенистов. Из мусульманского смирения он носит такую же простую одежду, как и его подданные. Что их больше всего возмущает во французах, это их ужасная привычка останавливаться у стены, чтобы удовлетворить малую нужду.
- Ну, это уж чисто английская черта,- заметил я.
- В отношении степенности и театральной благопристойности,- продолжал г-н Бюиссон,- жители Марокко дадут несколько очков вперед английским диссидентам.
Хотя император, царствующий в Марокко в 1837 году, имеет толстые губы и цветом лица похож на мулата, он, тем не менее, происходит от Магомета и, следовательно, питает беспредельное презрение к турецкому султану, который в его глазах - представитель вырождающейся породы и почти неверный.
Несмотря на необычайное благочестие, царящее в Марокко, там очень легко найти наемного убийцу за двадцать два су (то есть за песету). Религия Магомета, по существу, достаточно мудрая, выродилась в обрядность, так же как и у калабрийцев. У горцев Марокко до сих пор в точности сохранились нравы, описанные в библии и служащие нам образцом морали. К ним проник лишь один новый обычай: у них есть ружья, которые они сами изготовляют. Для жителя Марокко верх доступного человеку блаженства - это иметь лошадей, ружья и порох; много пороху. Чтобы почтить иностранца, они мчатся к нему во весь опор и стреляют из заряженных ружей в двух футах над его головой. Это невинная забава без всякого злого умысла. Их ружья всегда заряжены пулями из предосторожности, и они незнакомы с употреблением пыжовника.
Когда девушка выходит замуж, ее сажают в корзину, навьюченную на спину мула, выводят мула на середину поля, и все наездники племени несутся вскачь, стреляя под ноги мулу.
Господин Бюиссон очень восхищается Абдель-Кадером. Этот молодой двадцатидевятилетний военачальник искуснее наших пятидесятилетних генералов и может стать великим человеком. Г-н Бюиссон делает большое различие между арабом, которому можно разъяснить его действительную пользу, и турком вроде Ахмета из Константины, у которого невозможно вышибить из головы засевшую там мысль.
Турок, быть может, самое добродетельное существо, какое можно встретить в XIX веке, и вся эта добродетель является лишь послушанием корану, во многом превосходящему все другие книги. Вообще говоря, война в Африке сможет подсказать несколько новых мыслей французскому тщеславию, воображающему, что все на свете ему уже известно.
Я уже читал у Вольнея*, что французы не обладают талантом колонизации. Г-н Бюиссон не сказал ни одного слова, которое не подтверждало бы эту грустную истину; он очень хвалит четырех или пятерых офицеров, служащих в Африке, которые, если бы их повысили в чине, могли бы стать генералами, подобными героям 1793 года. Они дали себе труд изучить арабский язык. Часто случаются самоубийства; в большинстве случаев пулю в лоб пускают себе унтер-офицеры. Жизнь расценивается повсюду не выше своей цепы, то есть очень дешево.
* (Вольней (1757-1820) - французский ученый, географ и историк.)
Негоцианты, обосновавшиеся в Алжире, предлагают французскому правительству семьсот тысяч франков в год за соляные копи в Арсеве. На перевоз этой соли морем в Алжир понадобилось бы всего десять часов. Но прежде всего этому краю необходим правитель с железной волей. Арабы - люди, умеющие желать, и они смеются над нами, обладающими лишь преимуществами старой цивилизации.
Беседуя так до бесконечности и без определенной цели или "миссии", как говорят продажные газеты, мы проехали Роман, хорошенький городок на Изере, где нам попалась прекрасная дыня и очень хорошая водка. Жара была подавляющая. Около одиннадцати часов за одно лье от Сен-Марселлена мы свернули с большой дороги направо, по направлению к очень любопытному Сонскому замку, где жила когда-то прекрасная г-жа Жюбье. В этом феодальном месте, предмостном укреплении на Изере, предки этой милой женщины основали прядильный завод для шелка и органсена (скрученных вместе нескольких шелковых нитей). Машины были изготовлены в 1771 году самим Вокансоном; они еще не устарели. Нам показали машину, на которой он выделывал "свои цепи".
Здесь переехали через Изеру по недавно построенному висячему мосту; паром давал сто луидоров дохода, мост приносит семь тысяч франков. Проехав через красивый лес Кле, мы добрались до крутого спуска и у подошвы холма увидали Понт-ан-Руайан. Эта деревня расположена на краю света, у самого подножия отвесной скалы. Дома белые, очень маленькие, с крышами из белого камня. Все это выделяется на фоне темно-серой скалы с красноватым оттенком. Зрелище чрезвычайно своеобразное.
Бурна - река, знаменитая в этой местности прозрачностью и красотой своих вод, протекает, бурля, по деревне, образует несколько водопадов и затем соединяется с Изерой. В ней ловят прекрасных форелей; лучшие из них с красными пятнышками и весят менее фунта. Бурна имеет метров тридцать пять в ширину. Надо подняться на высокий, с полуциркульными сводами мост, чтобы насладиться общим видом.
Около каждого дома можно заметить какие-то маленькие трубы, которые спускаются прямо в реку, и, что еще более странно, совсем рядом с ними, на окнах, видны многочисленные деревянные ведерца, висящие на железной цепочке, перекинутой через блок. Жители, ничтоже сумняшеся, постоянно черпают этими ведерцами нужную им воду. Г-н Бюиссон угостил меня превосходными форелями, но за столом я пил только вино.
У г-на Бюиссона есть труд Никола Барно, родившегося в Кре (Дром) в XVI веке; он не смог найти книгу в тот вечер, а я торопился. Барно, который много путешествовал, утверждает, что французское государство может быть спасено лишь путем создания милиции из горожан и продажи церковных земель. Священники, которые откажутся от брака, должны быть изгнаны, а колокола переплавлены. Барно издавал свои произведения под именем Фруманто. Из этого можно заключить, что через два столетия после присоединения к Франции жители Дофине были еще довольно своеобразными людьми.
Когда дерзкий принцип, направлявший все усилия на повышение всеобщего благосостояния, перестал мало-помалу воодушевлять жителей городков, разбросанных по горам и часто разобщенных месяца на четыре снегами и опасностями пути, явился Лесдигьер* ** и научил их не обращать никакого внимания на преемника их дофинов, который жил со своим двором в ста лье от границы и не защищал их от Савойца.
* (Лесдигьер (1543-1627) - маршал и коннетабль Франции, протестант, сторонник Генриха IV; с 1591 по 1621 год был генерал-губернатором Дофине и на этом посту сделал немало для расширения и украшения Гренобля.)
** (Лесдигьер (1543 -1626) - маршал Франции и коннетабль при Генрихе IV и Людовике XIII.)
В прежние времена в полулье выше Понт-ан-Руайана, по дороге в Ранкюрель, существовал довольно оригинальный паром. На высоте ста футов над Бурной с одного берега на другой был натянут толстый канат, и путешественники переправлялись через реку в круглом деревянном ящике, в котором были проделаны две дыры; через эти дыры был продернут канат, а другой, более тонкой веревкой перетягивали этот ящик с одного берега на другой. На обратном пути из Понт-ан-Руайана мы быстро проехали через лес Кле и затем через Сен-Марселлен, где красивый бульвар. В провинции вид деревьев освежает душу, так же, как вид римских руин; это нечто такое, в чем нет аффектации. Но это только в том случае, если деревья не были искалечены и подстрижены по приказанию г-на мэра. Боже мой, как это непохоже на очаровательные сады Лейпцига, Нюренберга и т. п.! А мы еще называем себя "прекрасной Францией"! Это под стать "merry England" - "веселой Англии",- тогда как единственной заботой всей жизни англичанина является старание взобраться на высшую ступень и не дать захватить свою собственную! Когда я менял лошадей в Сен-Марселлене, пробило шесть часов. Я еще успел добраться до Тюллена, чтобы там заночевать у почтмейстера, г-на Гизара, которому меня отрекомендовал г-н Бюиссон.
Но прежде чем попасть в Тюллен, меня обрадовала чудесная неожиданность; к счастью, меня никто не предупредил о ней; я внезапно оказался перед одним из прекраснейших видов в мире. Это было после деревушки Кра, при начале спуска к Тюллену. Внезапно открывается перед глазами огромный вид, подобный самым роскошным пейзажам Тициана. На первом плане - замок Вуре. Справа Изера извивается до горизонта, до самого Гренобля. Эта река, очень широкая, орошает самую плодородную равнину, лучше всех возделанную, лучше всех засаженную и с самой роскошной зеленью. Над равниной, прекраснейшей, быть может, из всех, какими Франция может гордиться, видна цепь Альп. Их остроконечные исчерна-красные гранитные вершины выделяются на фоне вечных снегов, которые не могли удержаться на их слишком отвесной поверхности. Перед нами "Большой Сом" и красивые горы Шартрезы; налево - лесистые холмы со смелыми очертаниями. Скучный жанр, по-видимому, изгнан из этой прекрасной местности.
Прямо непостижима сила растительности этих полей, покрытых близко стоящими друг к другу деревьями, мощными и густыми; а под ними - хлеба, конопля, прекрасные урожаи. Я не видел ничего более изумительного, путешествуя по прекрасной Ломбардии или в области Неаполя, этой "стране земледелия". Гора, по которой спускаешься в Кра, составляет часть Юрской цепи, которая тянется от Базеля до Фонтанейля, около Со, в Нижнем Дофине. Я сказал вознице, что у меня кружится голова и что мне хочется пройтись немного пешком; он, не возражая, поехал вперед, чтобы подождать меня внизу спуска. Таким образом, ничто не испортило моего блаженства.
Гренобль, 7 августа.
Я выехал из Тюллена в шесть часов утра и в семь был уже в Риве; я ехал вдоль Фюры, сплошь покрытой заводами, где очищают руду, чтобы превратить ее в железо или, лучше сказать, в сталь. Видел великолепную бумажную фабрику господ Бланше. Эти господа гостеприимно пригласили меня в свой парк; это приглашение было сделано так просто и любезно, что я сразу же согласился. Вместо того чтобы оставаться на грязном постоялом дворе, я провел знойные часы дня в прелестной местности, которая является частью окружающего меня со всех сторон высокогорного пейзажа.
Это приглашение господ Бланше было самым приятным из всего, что только могло со мной случиться. Если бы я был принцем, мне не могли сделать более любезного приглашения. Невозможно описать свежую прохладу и высокие ясени этого парка, изрезанного по всем направлениям разветвлениями Фюры; через один из этих рукавов переброшен хорошенький мостик.
Гренобль, 8 августа, 1837 г.
Я приехал в Гренобль через Муаран и Ворепп. Остановился на улице Монторж, у Блана, в гостинице "Трех дофинов" в комнате № 2, которую занимал Наполеон по возвращении своем с острова Эльба. Говорят, под окна этой комнаты городская молодежь притащила огромные деревянные створки Бонских ворот, которые были повинны в том, что затворились на одно мгновение перед императором. В той комнате, где я пишу, молодой судья Гренобля г-н Жозеф Рей* осмелился сказать Наполеону, что Франция любит его как великого человека, восхищается им как мудрым генералом, но не желает иметь диктатора, который, создавая новое дворянство, пытается возродить почти все забытые злоупотребления. Речь г-на Рея, содержавшая около пятидесяти строк, была отпечатана в течение двух часов в двадцати тысячах экземпляров, и вечером все жители Гренобля повторяли ее Наполеону. Если бы он понял этот голос народа, он или его сын царствовали бы по сей день; но тогда Франция потеряла бы свое литературное превосходство, то, которое, мне кажется, делает ей более всего чести.
* (Жозеф Рей (1779-1855) был судьей в Рюмильи в 1815 году, когда он напечатал упоминаемую Стендалем речь "Обращение к императору". Приговоренный в 1820 году к смертной казни за участие в военном заговоре, он бежал в Англию, откуда вернулся лишь после Июльской революции. Стендаль был лично знаком с Реем и встречался с ним в Париже в 1805 году.)
Мое окно выходит на великолепную аллею из каштанов в восемьдесят футов высоты, посаженных Лесдигьером, представителем и воплощением характера дофинезцев (он был храбр; провести его было невозможно). К несчастью, эти прекрасные деревья, находящиеся в самом центре города, против красивой горы, отжили свой век. Им более двухсот лет, и каждая гроза сбивает одну из больших ветвей. Но самое прекрасное из них - оно названо в честь Лесдигьера - еще совершенно крепко, несмотря на попавший в него 6 июля снаряд, к следам которого я сходил на поклон.
Лесдигьер процарствовал в Дофине всю свою жизнь и не допускал, чтобы кто-либо нарушил его домашний покой. Он построил соседний дворец, который город купил у его наследников и часть которого занимает сейчас префектура, арендуя его за шесть тысяч франков.
Особняк Франкьер, прелестный дом в стиле Возрождения, в нескольких шагах от прекрасной каштановой аллеи, был построен Лесдигьером для своей возлюбленной, муж которой был убит по его приказанию. Но он отправил в Рим г-на Барраля, знаменитого адвоката, чтобы выхлопотать у папы отпущение греха.
Я боялся, что мостовая Гренобля состоит из таких же скверных остроконечных маленьких булыжников, как те, которые мешали мне ходить в Лионе, но жители Гренобля - толковые люди, семь улиц у них уже вымощены плоскими камнями, а через шесть лет больше не останется мостовых с остроконечным булыжником. Мэр города работает двенадцать часов в сутки, и муниципальный совет состоит из умных людей, по большей части молодых и "либеральных". Если бы господь дал этим людям управлять Парижем! Он перестал бы становиться день ото дня все безобразнее.
Я начал с того, что поднялся на Бастилию, красивую гору, которая видна из каштановой аллеи и находится в самом городе; военные инженеры недавно выстроили на ней форт, с которого будет дано много пушечных залпов. Хотя дорога, ведущая туда, великолепна, я так утомлен, что у меня нет сил описывать восхитительные и меняющиеся через каждые сто шагов виды, открывающиеся с этой дороги. Это страстное внимание ко многим и столь различным вещам положительно убивает. И, кроме того, за последние годы стали так злоупотреблять описаниями, что, неизбежно вспоминая все то, что пришлось перечесть, я испытываю отвращение, когда думаю о подобного рода работе. Разве не восхваляли с величайшим жаром самые уродливые вещи? Когда идешь к Бастилии, то почти напротив видна огромная вершина Тайфер; ниже и немного левее находятся прелестные холмы Уриажа и Эшироля. Направо расстилается равнина с мостом в Кле и его великолепной аллеей в восемь тысяч метров длины. Этот ансамбль в стиле Ленотра, перенесенный в местность, окруженную дикими горами, производит великолепное впечатление. По счастливой случайности эта великолепная аллея находится как раз напротив нового форта Рабо, первоклассного сооружения капитана Геза; я видел там новые подъемные мосты, придуманные этим выдающимся офицером.
Странной особенностью строительства, ведущегося военным ведомством, является то, что, имея возможность располагать любым пространством, господа инженеры прибегают к разрушению старых зданий.
Гренобль, 9 августа.
Я забыл сказать, что из Рйва, где у меня были дела, я собирался проехать в Пон-де-Бовуазен, Фурвуари, Шамбери и Женеву, откуда я быстро вернусь в Париж.
- Но вам надо посмотреть Грезиводан,- сказал мне г-н Н.
Я подумал сначала, что речь идет об озере, но таким именем называют долину Изеры.
Эта местность великолепна, хотя никому и не известна. Ничто во Франции, по крайней мере, из того, что я до сих пор видел, не может сравниться с этой долиной, тянущейся от Гренобля до Монмельяна. Я только что вернулся из Монбоно, прелестной деревушки, лежащей выше Гренобля, откуда я мог составить себе полное представление об этой долине. Долина Изеры не слишком сжата горами; мне кажется, что ее ширина доходит местами до двух лье. Изумительно то, что её вид резко меняется, смотря по тому, находитесь ли вы на холмах правого или левого берега. В Монбоно, например, на правом берегу вам открывается прежде всего прекрасная пышная зелень и все радости лета; затем Изера с ее широким течением; затем лесистые холмы и, наконец, на безмерной высоте и как бы над вашими головами - Альпы, величественные Альпы, которые когда-то перешел Ганнибал; 5 августа часть их еще покрыта снегом. Одна остроконечная вершина, у которой неизвестно почему округлые формы, называется Тайфер; она покрыта огромными гранитными призмами, которые остаются черными, потому что снег на них не держится. Мне назвали такое большое количество крупных гор, что, вполне возможно, я путаю их имена.
Гренобль, 10 августа.
Сегодня меня разбудили в семь часов утра, приглашая отправиться на праздник в Монфлери и "полакомиться там вишнями". Такие праздники - здесь давний обычай, и происходят они в старинном монастыре для дам благородного происхождения в полулье от города, имеющем единственное в своем роде местоположение. Все дамы, живущие в окрестностях, приезжают с раннего утра в эту очаровательную небольшую лощину, из которой не видно величественной долины Изеры. Городские дамы приезжают в красивых колясках; все это, вместе взятое, образует очаровательный утренний праздник. Окрестные крестьянки в своих лучших нарядах продают небольшие пучки вишен в виде букетов и чудесную землянику, собранную в лесах около Большого Картезианского монастыря. При мне рассказывают об ужасных и чисто иезуитских преследованиях, которым подверглись во время Реставрации господа Фруассар, хозяева пансиона в Монфлери. Правда ли все это? Из Монфлери я снова отправился в Монбоно; я не могу наглядеться на изумительный пейзаж, который виден из этой деревни.
Сегодня в четыре часа, окончив свои дела, я уехал в Домен (на левом берегу Изеры). Оттуда я увидел Монбоно, где был сегодня утром, Сент-Имье, Террасу и все деревни правого берега. В этом краю я проводил бы все свое время в деревне: у горожан много лукавства, напоминающего нормандцев; скупость отцов по отношению к детям совершенно варварская.
На первом плале пейзажа, который виден из Домена, находится Изера; отсюда она кажется зажатой в более крутые берега; затем идут деревни вдоль большой дороги с правой стороны: эта дорога обозначена рядами высоких орешников; затем виноградники и над ними огромные серые скалы, крутые, ободранные, почти отвесные; кажется, что они близки к обвалу. Местами эти бесплодные скалы покрыты небольшими рощицами низкорослых елей, дерзающих расти на краю пропасти. Какой контраст между этим бесплодным берегом и тем, где я словно утопаю в свежей зелени! Можно подумать, что находишься в ста лье от правого берега, а между тем это тот же край, та же река. Домен расположен напротив Монбоно, и расстояние между ними меньше двух лье. В этой богатой, расстилающейся передо мной местности справа и слева открываются очаровательные виды; эти прелестные места ограничены на расстоянии пяти или шести лье с левой стороны горами, лежащими позади Вуарона, и вершиной Монмельяна с правой стороны. Сегодня крестьяне два раза заставили меня вспомнить о том, что произошло когда-то в Париже 10 августа.
Долина, пересеченная рекой Изерой и разделяющая деревни Домен и Монбоно, изумительно плодородна. Я могу сравнить эту растительность лишь с тем, что я видел в Ломбардии. Грезиводан покрыт в настоящий момент большими полями конопли, некоторые стебли которой имеют до четырнадцати футов высоты. Пейзаж долины Изеры более сжат и, быть может, менее роскошен, чем равнины в окрестностях Болоньи, но зато он гораздо живописнее и разнообразнее.
Не успеваешь отъехать и двух лье от Гренобля по направлению к Шамбери, как встречаешь справа, со стороны Домена, очаровательные маленькие ущелья. Эти ущелья поросли стройными ясенями, каштанами и великолепными ореховыми деревьями в восемьдесят футов высоты. Орешник - излюбленное дерево долины Изеры.
По правде сказать, я не понимаю, как мог такой край остаться неизвестным. Людовик XII, очарованный "божественными насаждениями, извилистыми поворотами, которые делает там река Изера, назвал его прекраснейшим садом Франции" (во время своего путешествия в 1507 году)*.
* (Ги-Аллар "История Гумберта II", этого жалкого дофина, который уступил свои владения Филиппу Красивому в 1349 году.)
Я не встречал ничего подобного ни в Англии, ни в Германии; во Франции мне известны лишь окрестности Марманда, которые могли бы выдержать сравнение с этим краем. Правда, мне надо еще посмотреть Лимань в Оверне. Более красивые пейзажи я видел лишь в Ломбардии, около озер, по линии, которая проходит через Домо д'Оссола, Варезу, Комо, Лекко и Сало. Но там к вам придирается полиция г-на Меттерниха, а здесь вы можете проехать в пятьдесят три часа расстояние от Парижа до Монбоно, не показывая своего паспорта.
Гренобль, 12 августа.
Сегодня утром меня свели в замок Монбоно, который принадлежит очень приятному и ученому человеку. Замок этот возвышается на небольшом хорошеньком холмике поблизости от Изеры. Без сомнения, это самое красивое место долины. С одной стороны вид простирается до Сент-Эгрева, Нуайаре, моста в Кле, с другой - до окрестностей форта Барро. Но как описать все это? Потребовалось бы десять страниц, и надо было бы применить эпический и высокопарный тон, к чему я питаю отвращение, а результатом таких усилий могла бы оказаться лишь скука для читателя. Я заметил, что прекрасные описания г-жи Редклифф ничего не описывают: это песня матроса, навевающая мечты.
Могу лишь сказать путешественнику: когда вы будете ехать через Лион, сделайте крюк в двадцать лье, чтобы посмотреть на эти величественные пейзажи.
Из Монбоно я спустился к Из ере, чтобы увидеть место, где будут строить подвесной мост, для которого я, быть может, достану железо из Ла-Роша (в Шампани). На строительных работах мне рассказали о странном самоубийстве молодой протестантки из Гренобля. У нее были самые красивые глаза в Дофине, но она слыла немного легкомысленной: дело в том, что, когда на нее находило особенно веселое настроение, она не отказывала некоторым молодым людям, с которыми дружила, погулять с ними перед лавкой своей матери, что было большим преступлением в глазах святош-соседок, и без того уже ненавидевших девушку за ее религию. Ничто не могло быть невиннее, как выяснилось в дальнейшем. У Викторины был живой и веселый характер, известный во всем предместье Тре-Клуатр; она легко приходила в веселое настроение. Один молодой сосед с мрачным характером, католик, вначале резко ее осуждавший, влюбился в нее без памяти; девушка сперва издевалась над ним, а затем полюбила. Родители молодого человека с возмущением отказались дать ему согласие на брак с такой подозрительно веселой девушкой, к тому же еще протестанткой. Молодые люди испробовали всевозможные средства, чтобы смягчить родителей; затем им пришла в голову мысль, столь обыденная в наши дни, покончить жизнь самоубийством. Накануне дня, который должен был стать для них последним, молодой человек приносит сто франков врачу предместья и говорит ему дословно следующее:
- У меня будет на днях дуэль; если я погибну, дайте мне слово произвести вскрытие трупов. Это существенно для спокойствия наших последних минут. Вы умный человек, и вы меня поймете через три дня. Помните, что я рассчитываю на вашу честь, и именно честь побуждает меня сказать это.
Врач, который ничего из этих слов не понял, решил, что юноша вернулся к своим прежним мистическим настроениям. Бедные молодые люди наняли комнату, и там их нашли задохнувшимися от угара. Накануне девушка, плача, говорила:
- Когда-нибудь узнают, что я всегда была добродетельна.
Вскрытие трупа не оставило на этот счет никаких сомнений. При ней нашли трогательное письмо, копию которого показывали. Вот фраза из него: "Меня забудут тотчас же, как похоронят, но я надеюсь, что до этого окончательного забвения бедной, слишком несчастной девушки, во всем Тре-Клуатре скажут: "Викторина была совершенно добродетельна".
Гренобль, 14 августа.
Несмотря на дела, которые призывают меня в Фурвуари, я не устоял против искушения: вчера утром я совершил великолепную прогулку. Прежде всего я проехал на почтовых по правому берегу Изеры, до Монмельяна, через Монбоно, Сент-Имье, Террасу и Шапарельян. Выехав из Гренобля, я осмотрел сад Франкьер, а в Сент-Имье - виноградники г-на Феликса Фора, пэра Франции, и парк графа Маршана - одного из храбрецов, отличившихся в битве при Эйлау. Не доезжая до Монмельяна, я видел довольно незначительный форт Барро и замок Марш, прекрасно расположенный.
Возвращаясь левым берегом, между Гонселеном и Поншарра, я с чувством благоговения поднялся на довольно высокий холм, прилегающий к горе: там находятся развалины замка Баярда. Здесь родился Пьер дю Террайль, этот скромнейший человек, который, подобно маркизу Позе у Шиллера, возвышенностью и ясностью души словно принадлежит более передовому веку, чем тот, в котором ему пришлось жить. Вид, открывающийся с развалин замка его отца, восхитителен. Я забыл сказать, что из Монмельяна я отправил своего слугу с коляской в Шамберри, где он должен меня дожидаться. У меня были большие затруднения с паспортом, но я не стал сердиться; я наблюдал за образом действия полицейского комиссара - я отнесся к нему, как к насекомому.
В Монмельяне я нанял "тапкю" - открытый и позолоченный кабриолет, исключительный по своему уродству; но он был запряжен парой прекрасных лошадей, которые живо домчали меня до замка Баярда, в Ганселен и в Тансен. Здесь я внял просьбам кучера, который хотел покормить лошадей овсом, и отправился обозревать на свободе прелестное ущелье Тансен, позади замка, и считать каскады его ручья. Прелестные ясени, растущие здесь, полны древнегреческой красоты. Их стройные формы напоминают мне картины Перуджино и живые фрески в Сьене, приписываемые Рафаэлю. Что сказать о>б исключительной красоте этой лощины? Это относится к разряду вещей, "che levari di terra al ciel nostr'intelletto"*. При двадцатипятиградусной жаре неожиданная прохлада в соединении с изумительной красотой вызывала такие ощущения, о которых можно говорить лишь в рукописи. Я совсем забыл о времени, за что был позже наказан. Приветливая крестьянка продала мне чудесной земляники.
* (Которые устремляют наш ум от земли к небесам (итал.).)
Поместье Тансен, одно из прекраснейших в Дофине на мой и на ваш взгляд, должно быть самым прекрасным из всех с точки зрения недавно разбогатевшего человека; оно приносит тридцать пять тысяч ливров дохода - вещь исключительная в этой стране легкого пахотного грунта. Крестьянка мне рассказала, что прекрасная молодая девица, которая должна была получить все это в наследство, недавно скончалась накануне своей свадьбы, проболев два часа.
В замке, в одной из зал, я нашел очень хороший портрет Д'Аламбера, который был, как известно, сыном г-жи де Тансен, монахини в Монфлери, и сестры знаменитого кардинала того же имени. Дюбуа*, этот опытный и ловкий министр, пользовался услугами Тансена в Риме; по крайней мере так рассказывает об этом Лемонте ("Регентство", т. II). Сколько таланта выказал Дюбуа в этих действительно очень трудных переговорах! Этот поразительного ума человек, которого не ценят по заслугам, очень похож на своем надгробном памятнике в церкви святого Роха. Будь он природным аристократом, Франция восхищалась бы им.
* (Дюбуа, Гильом (1656-1723) - сын простого аптекаря, стал первым министром в период Регентства. Долгое время добивался звания кардинала, проявив большую энергию и истратив на это немало государственных денег. Аббат Тансен был послан им в Рим для переговоров с папой. Лемонте рассказывает историю этого домогательства в главе XII своей "Истории Регентства Людовика XV" (1832).)
Я возвращался в Гренобль очень усталым, но в полном восторге от своего путешествия и, подобно Фронтену*, мечтал о хорошем ужине, а в особенности о хорошей постели; но я не принял в расчет военно-инженерные войска.
* (Фронтен - персонаж из старинной французской комедии, слуга хитрый и наглый.)
Гренобль был всегда военной крепостью; теперь его превращают в укрепленный город, из чего следует, что инженерное управление тиранически следит за закрытием ворот, к большому неудобству запоздавших путешественников.
Вчера вечером я издали услыхал, так же как и мой возница, звон колокола большой церкви Гренобля, который звонит в десять часов, возвещая закрытие ворот. Здесь называют это Sing, от латинского Signun*. Возница, ничего не говоря и не подавая вида, гонит лошадей во всю мочь. Мы подъезжаем вскачь к воротам Тре-Клуатра ровно через пять минут после того, как их закрыли. Не так-то легко было завязать переговоры с привратником, главное же, они ни к чему не привели.
* (Колокол (лат.).)
Здесь имеется прескверная деревушка, которая сразу заставила меня подумать о клопах. Пришлось повернуть обратно и заночевать на постоялом дворе в Жьере. Я не стал важничать: вместо того, чтобы дожидаться ужина в своей комнате, где стекла на окнах заменены промасленной бумагой, я спустился в кухню; мне показалось, что там собралась большая компания.
В этих горах часто даже летом, под вечер, подымается свежий ветерок, при котором огонь кухонного очага становится очень приятным. Этот ветер, с какой бы стороны ему ни вздумалось подуть, проносится над высокими кряжами гор, покрытыми снегом одиннадцать месяцев в году, и захватывает с собой часть их холода. Довольно большое общество, среди которого я заметил несколько очень смешливых молодых женщин, расположилось на некотором расстоянии от очага, где ярко горели виноградные лозы (обрезки лоз, срезанных в феврале), на жарком огне которых готовили мой ужин.
Небо одарило меня способностью располагать к себе крестьян; для этого не надо говорить ни слишком много, ни слишком мало, а главное, не надо стараться изображать полное равенство. Вчера вечером мне это удалось, и я содрогался до часу ночи, слушая рассказы о привидениях. Я провел очаровательный вечер.
Разговор шел о некоем картезианском монахе, который украл у одного крестьянина клад сообща с его хорошенькой женой, бывшей к монаху весьма благосклонной. Он закопал этот клад, потом заболел и не мог выходить из монастыря, куда, как вам известно, ни одна женщина не имеет доступа, и наконец умер, не имея возможности сообщить своей возлюбленной о месте, куда он спрятал клад. После смерти этот монах, оказавшийся честным человеком, стал являться своей сообщнице, чтобы указать ей, где найти деньги. Женщине было очень страшно, но в то же время ей очень хотелось завладеть сокровищем. Монах приходил по ночам и тянул за ноги женщину, лежавшую рядом с мужем; он убеждал ее последовать за ним; женщина боялась, и она предпочла бы, чтобы он тут же ей все рассказал; в то же время она боялась, чтобы лежащий рядом муж не услыхал чего-нибудь. Этот диалог женщины и привидения, вынужденных говорить шепотом, чтобы не разбудить его, был очаровательно передан вчера вечером одной крестьянкой лет тридцати и, признаться, очень хорошенькой. Она ежеминутно повторяла: "Уже поздно, надо идти спать". А ее умоляли продолжать. Диалог, который она нам передавала, был тонок и невероятно пикантен. В роли монаха, который, не нуждаясь теперь в деньгах, не желал терпеть худших загробных мук, чем те, какие он заслуживал, и старался убедить крестьянку вернуть клад мужу, были неподражаемые черточки. Наконец, видя, что ответы женщины крайне уклончивы, монах громко воскликнул, что скажет самому мужу, где лежит сокровище. Муж при звуке этого голоса просыпается; жена говорит, что позвала служанку, так как слышит, что в хлеву отвязались коровы.
Я убедился вчера вечером, насколько правильно мнение, что крестьяне Дофине необыкновенно остроумны; по уму я бы поставил их рядом с крестьянами Тосканы. Забавно, что эти сидевшие рядом со мной люди верят в привидения. Эти хитрые и тонкие горцы не искали сильных ощущений: у них было их вдоволь; это одна из их фраз.
Гренобль, 16 августа.
Моя профессия вынуждает меня отправиться в Аллевар и на рудники Аллемона. Из Гренобля можно сделать пять интересных экскурсий: 1) Большой Картезианский монастырь, 2) Аллевар, 3) Бур-д'Уазан, 4 и 5) я советую в первый же день по приезде отправиться утром к каньонам Сассенажа, а вечером в Монфлери и в замок Букерон, находящийся меньше чем в полулье от города.
Гренобль, 18 августа, 11 вечера.
Вернулся ужасно утомленным; я потратил шесть часов, чтобы взобраться на Аллевар. Надо ехать вверх по течению вдоль левого берега Изеры, затем круто взять направо в горы по ущелью, не в пример более грандиозному, чем все то, что мы видим на расстоянии пятидесяти лье от Парижа. Через каждые четверть лье хочется остановиться на час. В Аллеваре вырабатывают чугун из руды, добываемой на месте, и из древесного угля; не выделывают ни железа, ни стали; арендатор платит владельцу 45 тысяч франков. Этот чугун продается, во-первых, морскому ведомству для пушечно-литейного завода в Сен-Жерве, на левом берегу Изеры, немного дальше Тюллена (который находится на правом берегу); во-вторых, этот чугун продается в Рив для изготовления стали.
Из Аллевара, мимо доменной печи в Пенсо, двигаясь по направлению к Бур-д'Уазану, доберешься до знаменитой местности, называемой "Семь Ло"*. Действительно это семь озер, окаймленных ледниками; в них водятся прекрасные форели. Самое большое из этих озер имеет около пятисот туазов в диаметре (туаз равен 1 метру 49 сантиметрам). Из Аллевара к семи озерам берут мула; туда четыре часа езды, но часто приходится идти пешком. У меня не хватило мужества предпринять эту вторую прогулку. Аллевар до сих пор полон воспоминаний об очень приятном человеке, г-не Д. Б., который добивался славы стать любовником всех хорошеньких девушек округи; а там есть очаровательные. История страшного кресла.
* (Игра слов. L'eau по-французски - вода.)
Гренобль, 20 августа.
Один из моих парижских друзей поручил мне узнать, что представляет собой золотой рудник Гардет. Я только что вернулся из серебряных копей в Аллемоне, которые были подарены когда-то Людовиком XVI его брату графу Прованскому.
Дилижанс, который вез меня в Бур-д'Уазан, проезжал по великолепной дороге с мостом в Кле; этот путь занимает шесть часов.
Беседа деревенских буржуа, оказавшихся моими попутчиками, меня очень заинтересовала. Если не считать формы их головы, эти люди очень похожи на жителей Нормандии. Единственная цель их жизни - сколотить состояние, и, как только у них появляются некоторые средства, они покупают участки земли по бешеной цене. Тогда они пользуются уважением своих соседей. Эти люди живут без всякой роскоши (кажется, в Гренобле их называют "битсами"). Земля в Бур-д'Уазане никуда не годится, а продается ужасно дорого. Жители этого края расходятся по всей Франции и даже уезжают в Америку. Всегда и повсюду они становятся разносчиками и ведут мелочную торговлю. Они обязательно возвращаются на родину и во что бы то ни стало покупают землю.
Между Греноблем и Бур-д'Уазаном курсируют четыре дилижанса; дорога очень опасна, полна пропастей, и, тем не менее, путешествуют всегда ночью, "чтобы не терять времени".
Здесь мы видим подлинного уроженца Дофине таким, каким он был до Республики и Империи, которые, обольстив его сердце, сделали его немного французом. Мелкий собственник из Бур-д'Уазана, закончив свой трудовой день, выезжает в восемь часов вечера; он приезжает в Гренобль в шесть часов утра, устраивает свои дела и поздно вечером отправляется обратно. У этих людей прекрасная логика, и один из друзей префекта рассказывал мне, что во время выборов их не так-то легко провести.
После Бур-д'Уазана следует Бриансон. Земля этой местности бывает покрыта снегом или замерзает на пять месяцев в году. Крестьяне расходятся по деревням Прованса и по наименее холодной части Дофине; они учат детей грамоте; некоторые знакомят их даже с начатками латыни; за это их кормят и дают пять или шесть су в день. Эти "битсы" кажутся мне малосимпатичными; они замкнуты, молчаливы, исключительно осторожны, чужды каких-либо увлечений и могли бы стать хорошими священниками.
Через два часа езды я прибыл в Визиль, колыбель французской свободы. Там заседали знаменитые Штаты Дофине в 1788 году.
Крики упорных дофинезцев немного напугали двор Людовика XVI, и провинции Дофине разрешено было восстановление Штатов. Этот поступок был проявлением слабости. Если бы Людовик XVI не дал возможности вернуть к жизни почти забытое учреждение - Штаты Дофине, революция 1789 года, вместо того чтобы низвергнуться бурным водопадом, потекла бы по отлогой плоскости, но зато мы были бы менее свободны в 1837 году.
Первое заседание состоялось в Визиле, где разбирались лишь дела провинции, но при этом допускались такие выражения, которые должны были показаться королевскому двору очень странными и оскорбительными.
У уроженцев Дофине в глубине души таится республиканская жилка. Известно, что до 1349 года Дофине была независимым государством. В то время ее присоединили к Франции с помощью административных ухищрений, что не вызвало в дофинезцах ни малейшего восторга. Столетие спустя (1453) провинцией стал управлять угрюмый, мрачный человек, Тиверий и Домициан новых времен,- будущий Людовик XI.
Дофин Людовик, не желая оставаться при дворе короля-отца, укрылся в своем уделе. Этот удел у него отобрали. Целое столетие дофины были в очень холодных отношениях с французскими королями, потом пришел Лесдигьер, который процарствовал всю свою жизнь полным самодержцем над своими земляками, умея возбуждать и удовлетворять их страсти. Этот маленький народец был так далек от королевского двора, что сам Ришелье не смог окончательно его обуздать, тем более что приходилось считаться с этими упрямцами, близкими соседями Савойских герцогов, которые тогда что-нибудь да значили. Вследствие такого положения вещей политические страсти жителей Дофине были почти всегда возбуждены, и они недоверчиво относились к приказам, идущим из Парижа; но двор Людовика XVI неспособен был понять все это.
Во время второй ассамблеи в Визиле, уже совершенно революционной, главные болтуны которой при Людовике XIV попали бы на эшафот, были установлены основы наказов. Господин Мунье восхвалял английскую систему. Барнав заговорил и воспламенил все сердца. Господин Мунье был более учен; Барнав, ленивый молодой человек с пылким характером,- более красноречив. За свою столь короткую жизнь он сделал две ошибки; это были только порывы страсти. Человек, родившийся в Париже, таких ошибок не делает. Мне сегодня обещали показать два превосходных портрета, которые находятся у его родственницы - графини Маршан.
Я не могу постигнуть, как это до сих пор жители Гренобля не назвали одну из своих улиц именем Барнава. Я предполагаю, что у этого великого человека, погибшего в 1793 году, есть еще до сих пор завистники на родине.
Лесдигьер, эта тонкая лиса, как его звал герцог Савойский, жил большей частью в Визиле и построил там замок. Здесь и состоялись одна или две мятежные ассамблеи дофинезцев. Над главным входом большой бронзовый барельеф - конный портрет Лесдигьера. Издали портреты Лесдигьера напоминают Людовика XIII; но вблизи красивое и незначительное лицо слабого сына Генриха IV уступает лукавой, улыбающейся физиономии великого дофинезского генерала, который к тому же считался одним из самых красивых мужчин своего времени.
Визиль, 21 августа.
Были в Визиле две политические ассамблеи или одна? Никто здесь не мог мне сказать на этот счет ничего достоверного. Самый богатый из местных помещиков мне ответил: посмотрите у Монгальяра (автора совершенно лживой истории революции).
Из этого можно видеть, в какой мере следует верить преданиям. Народ хорошо помнит рассказы, которые ему часто повторяли, но то, что он только видел, быстро забывается. Монгальяр говорит, что ассамблея трех сословий Дофине заседала в зале для игры в мяч Визильского дворца 21 июля 1788 года.
Господин Мунье, секретарь ассамблеи, редактировал единодушно принятые постановления, которые твердо требовали:
1) восстановления старинных провинциальных Штатов,
2) избираемости каждого на любое место,
3) двойного представительства третьего сословия,
4) отмены денежных привилегий дворянства и духовенства,
5) представительного образа правления.
В 1788 году, почти за год до открытия Генеральных штатов в Версале, постановление это было актом большой смелости. И, кроме того, в этом была подлинная мудрость. Ведь еще сегодня, после сорока девяти лет усилий и лживых обещаний, мы желаем того же.
Мне посоветовали обратить внимание на барельеф над дверью садовой беседки, которую Лесдигьер построил в своем Визильском парке. Это две рыбы в фут длиной, помещенные крест-накрест, а под ними - отрубленная голова. Коннетабль, встретив в своем парке человека, который ловил там рыбу, повелел отрубить ему голову и водрузить над дверью этот каменный барельеф. Подобные государи воздействуют на дух народов сильнее, чем двадцать робких существ, вроде Людовика XVI.
Здешний замок и парк принадлежат господам Перье, родственникам министра. Все в Визиле говорят о добродетелях и благотворительности г-жи Адольф Перье; рабочие называют ее матерью. Госпожа Перье - внучка генерала Лафайета. Я мельком видел издали молодую женщину с очень благородной осанкой в очаровательном английском саду, который она сама разбила. Но я жалею о вековых деревьях, которые, как говорят, украшали эти места тридцать лет тому назад. В Визиле, как и всюду, промышленность пришла на смену феодальному строю. На фабрике в Визиле бывало занято до тысячи двухсот рабочих; прежде там набивали бумажные ткани, теперь набивают ткани фуляровые.
Я видел в замке позолоченную комнату, в которой жил Лесдигьер; пожар 1826 года пощадил жилище этого великого человека.
Серебряные копи, которые я разыскивал в Аллемоне, находятся в полутора лье налево, не доезжая до Бур-д'Уазана; там есть очень красивый дом, построенный на средства графа Прованского. Горы здесь очень величественны, в них есть очаровательные уголки. (Не это ли именно составляет то, что анализ открывает в пресловутой итальянской красоте, о которой так много говорят?)
Мы в центре самых высоких Альп, но я слишком утомлен, чтобы описывать с приблизительной точностью,- я могу впасть в преувеличения.
Возвращаясь из Бур-д'Уазана, я осмотрел доменную печь в Рьюперу.
Визиль, 22 августа.
Я расположился в парке, в тени большого сикомора, и переписываю чернилами предыдущие страницы этого дневника.
В этих краях, вероятно, ужасно холодно шесть месяцев в году; но в августе открываются очаровательные уголки, которые вызывают желание остановиться там на два - три дня.
Я очень благодарен г-ну Б. из Визиля, который весьма обязательно ответил на все мои вопросы.
Я спросил его:
- Если идти от Бур-д'Уазана все прямо перед собой, куда можно прийти?
- В Бриансон; туда двадцать три лье по дороге Лотаре, которую начал проводить Наполеон. Вы там найдете длинные галереи, вырубленные в очень твердом граните. Кубический метр горной породы, вынесенный из галереи, обходится в 1837 году в тринадцать франков, а при Наполеоне это стоило восемнадцать.
Бриансон, ... августа.
Странная крепость, скучающий гарнизон. Ее можно осаждать лишь в течение четырех летних месяцев.
Одно свойство делает характер жителя Дофине в XIX веке очень занятным - это его полная неспособность к лицемерию, я говорю о пассивном лицемерии; что касается активного умения жить, которое нынче так в моде, то в этом отношении он умеет устраиваться столь же хорошо и лучше кого бы то ни было, кроме, конечно, парижанина. Но представить себе обманутого дофинезца невозможно, надуть, провести его нельзя - это противно его природе. Даже преклоняя колено перед самым торжествующим лицемерием, он чем-нибудь да выдаст себя и покажет, что провести его не удалось, чем и заслужит ненависть врага.
В большинстве городов республиканская партия устраивает каверзы партии центра; но так как последняя богаче, то она старается посредством образования завладеть детьми республиканцев. Есть учебные заведения всевозможных типов и названий: "Игнорантинцы", "Дочери Провидения", "Учреждение святого Иосифа", "Учреждение святого Филиппа", "Раскаявшиеся девы", "Молодые работницы", "Общество чесальщиков пеньки" и т. д. Все они усиленно пропагандируются с целью удушить взаимное обучение. Высшие классы считают себя очень прозорливыми и жертвуют часть своих доходов на воспитание детей бедных классов в надежде, что эти последние, достигнув сознательного возраста, не будут любить свободу. Бедняки посмеиваются над этими ухищрениями по отношению к их детям.
Я гулял сегодня утром с красивым молодым человеком, очень образованным и очень приятным. Он написал свою исповедь так изящно, что его духовник запретил это делать:
- Вы вторично наслаждаетесь своими грехами, излагая их таким образом; лучше рассказывайте мне их устно.
Если вы встретите среди пропастей этих высоких гор дерзко возведенный мост, вы можете быть уверены, что гид скажет вам: он сделан Лесдигьером; если в Гренобле хорошо проложена улица, она была сооружена Лесдигьером; а ведь он воевал всю свою жизнь.
Гренобль, 23 августа.
Я поставил себе целью ознакомиться не с рыночной ценой всего добываемого во Франции железа, но с его себестоимостью. Платя наличным золотом и немедленно, можно получить скидку.
После целого дня, посвященного работе и обсуждениям сделок, что далеко не пустяк в этом краю и требует великого терпения и осторожности, я отправился вечером в Сассенаж; это прогулка на полтора часа. Мне наняли одноконную коляску за пять франков. Я осмотрел, во-первых, водопады Фюрона - потока, который в данный момент великолепен; во-вторых, каньоны, которые во времена старика Шорье почитались за чудо; туда очень трудно подниматься и еще труднее спускаться: королева Испании, принцесса Кристина, упала, спускаясь оттуда; в-третьих, замок г-на де Беранже*; в-четвертых, гробницу Лесдигьера. Фюрон и каньоны заслуживали бы десять страниц. Но если поддаться соблазну говорить о прекрасном в этом краю, пришлось бы исписать тома.
* (Беранже, Жан (1767-1850) - политический деятель наполеоновской империи, крупный финансист; родился близ Гренобля.)
Я любовался по дороге, когда ехал туда и обратно, знаменитым мостом через Драк - шедевром г-на Крозе, главного инженера Изеры, построенным гораздо раньше висячих мостов в Париже, которые надо было бы строить, подражая ему. Пролет между основаниями висячего моста равен ста двадцати пяти метрам, настил моста имеет сто тридцать метров; на него потребовалось сто пятнадцать тысяч килограммов железа, которые обошлись в семьдесят пять тысяч франков, по шестьдесят пять франков за двойной центнер. Это железо было поставлено господами Мишель из Ларош (Верхняя Марна). Пятиметровые брусья, с утолщениями на обоих концах в три или четыре фута каждый, должны были пройти через усиленное испытание, и те брусья, которые ломались, не были приняты.
Я попался неделю тому назад, когда меня повезли в Визиль, по дороге с мостом в Кле, самой несносной в мире. Это аллея в восемь тысяч двести метров, которая тянется по прямой линии от ворот Грайль (или Сороки) до моста в Кле. Деревья, в особенности около моста, чахлые: плохо подобраны породы; здесь нужны были бы тополя, вообще деревья, растущие на песке. Когда-то, около 1770 года, здесь стояли тополя в шестьдесят футов высотой, но мода потребовала уничтожения этих высоких деревьев, и их срубили. (Срубить высокое дерево! Когда же это преступление станет караться законом?) Подчиняясь моде, посадили липы и молодые вязы, которые спустя шестьдесят лет имеют самый жалкий вид и едва достигают тридцати футов высоты.
От моста в Кле до Визиля дорога идет вдоль мола Драка и Романши - бурлящих речонок с быстрым течением, местами похожих на горные потоки. Эта совсем новая дорога вполне прилична, но среди прекрасных здешних мест она почитается некрасивой. Я исключаю ущелье "Этруа", достойное своего имени*,- родину ветра. Это - страшное место, полное какой-то дикой красоты. Если бы в этих краях водились грабители, им было бы здесь раздолье. Ничто в мире не могло бы помешать им, обобрав путешественников, сбрасывать их в Романшу.
* (Etroit - по-французски узкий.)
Чтобы увидеть прелестные, очаровательные уголки, не уступающие прекраснейшим пейзажам Ломбардии, надо ехать дорогой, пролегающей над долиной Вонаве, через Брие, что я и сделал сегодня, возвращаясь в Гренобль. Этот путь, прилегающий к основанию высокой вершины Тайфера и идущий по ущельям, которые образованы горами, служащими ему контрфорсами,- один из приятнейших среди всех виденных мною. В средние века Романша протекала по низинам Вонаве, где образовывала озеро и впадала в Изеру около Жьера.
Что может быть прелестнее ущелья Соннан? Но именно потому, что я много восхищался, мои глаза и душа переутомлены, и у меня нет больше сил ни писать, ни думать. Мне приходят в голову лишь неизящные эпитеты в превосходной степени, которые ничего не дают тому, кто этого не видал, возмутят читателя, если он человек со вкусом.
Видел проездом лечебные воды Уриажа, которые, как говорят, творят чудеса.
Мне показали в Пине-д'Уриаж стену из таких же огромных глыб, как в Альбе (к северу от Рима), которые называют циклопическими. Я любовался красивым замком Уриажа и его стройными пятиэтажными башнями. Я видел там генеалогическое древо дофинов, которые, как говорят, управляли этой страной с 889 по 1349 год. Последний дофин, Гумбер II, умерший в 1355 году, был глупцом, недостойным своего положения: он не умел делать того, что умели делать все в его времена, а именно воевать. Из окна в Гренобле он уронил в Изеру своего сына Андрея; увидав в этом перст божий, повелевающий ему покинуть мир, он уступил свои владения Филиппу Красивому (1349).
Гренобль, 24 августа.
Я люблю Гренобль за то, что он имеет облик города, а не большой деревни, как Реймс, Дижон и др.; все дома в нем имеют пять, шесть, а иногда и семь этажей. Это, без сомнения, не так удобно и не особенно полезно для здоровья; но первая обязанность архитектуры- показать свое могущество, а в маленьких трехэтажных домиках Реймса или Дижона мы находим лишь пошлый комфорт. Можно подумать, что фасады всех домов Гренобля перестроены за последние двадцать лет.
До римского завоевания, когда Гренобль назывался Куларо, город стоял вплотную к горе Бастилии, на той узкой полосе земли, где теперь проходит улица Сен-Лоран и набережная Ла Перрьер. Грациан перестроил его и дал ему свое имя - Грацианополис, которое превратилось затем в Гренобль. Король Людовик XVIII, раздраженный вспышкой 1816 года, подчеркнуто называл этот город Грелибр; он утверждал, что дофинезцы в своем отвращении к слову "noble"* присвоили городу это название - libre**. (Анекдот, рассказанный в кафе на площади Св. Андрея.)
* (Дворянский (франц.).)
** (Свободный (франц.).)
Один образованный либерал, а таких немало в Гренобле, сказал мне, что здесь были только две жертвы террора - на площади Гренетт казнили двух священников, отказавшихся присягнуть новым постановлениям. На этой же площади несколько лет перед этим по распоряжению парламента Дофине были казнены два протестантских священника*.
* (Там же в 1816 году казнили бедных крестьян, виновных в том, что они привозили в город молоко; среди них был фермер П. А. История событий этого года будет опубликована.)
В случае войны с Пьемонтом, который в прошлом был союзником Англии и может стать союзником Пруссии, надо защищать линию Альп от устья Вара до Монмельяна; склад снарядов и пушек был тогда, естественно, в Гренобле.
В годы министерства Казимира Перье, уроженца этого города, домовладельцы Гренобля ходатайствовали о том, чтобы, одновременно с предпринятым в их городе сооружением укреплений, площадь его была расширена. Эти господа воображали, что с увеличением количества домов возрастет и квартирная плата.
Над Греноблем возвышается гора Раше, на второй вершине которой был построен небольшой дом, носивший название "Бастилия"; из него сделали внушительный форт.
Выигрывает ли город, становясь крепостью? У каждого зажиточного жителя Гренобля есть поместье, где он проводит один день в неделю, а сентябрь и октябрь месяцы целиком. В этих поместьях выделывают вино. Когда в Гренобле стоит многочисленный гарнизон, вино продается по шесть су за литр; когда гарнизона нет, оно стоит четыре су. Поэтому землевладельцы приветствуют возведение крепости. Гренобль снабжает все окрестные горы от Большого Картезианского монастыря до Аллевара и Бур-д'Уазана сахаром, кофе, мылом, сукном, полотном и даже хлебом; это верный доход, благодаря которому город мог бы обойтись и без гарнизона.
Новый город, выстроенный на левом берегу Изеры, расположен на маленькой равнине, образуемой Драком. Всеми своими красивыми кварталами он обязан Лесдигьеру. Здесь необходимо отметить следующее: во-первых, незадолго до Лесдигьера Драк впадал в Изеру в том самом месте, где сейчас находится прекрасная каштановая аллея; во-вторых, в те же времена на левой стороне существовали только собор, дворец дофина и дворцовая церковь Св. Андрея; в третьих, в город входили только через башню Рабо, следовательно, приходилось все перевозить на мулах.
Лет тридцать тому назад жителям Гренобля пришла мысль украсить свой город. Они приобрели прекрасный источник и при посредстве железных труб провели воду на площадь Гренетт и в другие места. Но с тех пор, как завели фонтаны, они говорят, что у них появился ревматизм. Я и впрямь чуть было не простудился, гуляя вчера вечером, от девяти до десяти часов, по poскошной каштановой аллее после исключительно жаркого дня. Там царила очень приятная, но предательская свежесть. Нет ничего более необычайного и более чарующего, чем эти великолепные деревья, освещенные луной; они имеют восемьдесят футов в высоту и шесть футов в диаметре. Этот сад находится в самом центре города, что представляет большое преимущество; он еще до сих пор причудливо разгорожен железной решеткой. Надо изменить все это и укрыть дома за деревьями. Мэр Гренобля - человек с умом; я хотел бы, чтобы он посетил Лейпциг и Нюренберг. Трудно поверить, что находятся безумцы, которые серьезно предлагают уничтожить этот великолепный сад и построить в самом центре театр.
Сегодня вечером после прогулки нас угостили клеретом из Ди, за ужином был фруктовый пирог по-сассенажски. Эти обстоятельства заставили немного позабыть о свойственной дофинезцам осторожности, и мне доверили на несколько часов: во-первых, реляцию о событиях 6 июля 1815 года - Греноблю следовало бы включить ее в свой герб; во-вторых, исторический очерк о грубом запрещении во время реставрации празднования годовщины этого великого дня. Торжественные обеды в Фонтене, в Рондо и пр., бешенство генерала-коменданта и т. д. Эти преследования кажутся невероятными по своей бестактности, и, если бы я рассказал о них, мой рассказ сочли бы за пасквиль. Зато все это и убило всякий энтузиазм по отношению к правительству.
В Гренобле есть музей с прекрасными итальянскими картинами, описание которых я здесь опускаю. Их поместили в верхней части церкви Иезуитов. Этот музей был основан в конце прошлого века г-ном Луи Жозефом Же*. Я осмотрел картины, и, пока ходил в южном конце зала, сторож открыл для меня окно; пораженный восхитительным видом, я попросил этого человека оставить меня одного у окна, а самому отойти на сто шагов и посидеть в своем кресле. Мне стоило большого труда добиться этой жертвы: не понимая меня, дофинезец опасался какой-нибудь хитрости с моей стороны; наконец, я смог насладиться одним из самых приятных видов, которые когда-либо видел в своей жизни. Был полдень, солнце пылало, и всемирная тишина нарушалась лишь трескотней цикад. Это было подлинное воплощение строки Вергилия: Sole sub ardenti resonant arbusta cicadis**.
* (Же, Жозеф (1756-1836) - основатель и хранитель музея в Гренобле; читал курс живописи в гренобльской Центральной школе, где его слушал Стендаль.)
** (Под жарким солнцем звенят в кустах цикады (лат.).)
Легкий ветерок колебал высокую траву на откосе, который был на первом плане. Вдали восхитительные холмы Эшироля, Эйбена, Сен-Мартена-в-Жьере, покрытые свежими каштановыми деревьями, радовали глаз своей мирной тенью. Над ними, на изумительной высоте, гора Тайфер своими вечными снегами составляла резкий контраст палящему зною, усиливая общее впечатление. Справа - гора Виллар-де-Лан. (Может быть, я путаю все эти имена, это не имеет значения, эта книга не путеводитель; места, которые я советую посмотреть, существуют.) Такая минута заслуживает сама по себе длинного путешествия. Я дорого бы дал, чтобы сторож музея занялся приемом другого путешественника, но мой простой вид возбудил подозрительность в этом хитром и жестоком человеке. В эти божественные минуты вид или мысль о человеке, который может с вами заговорить, невыносимы для души.
У подножия холмов Эшироля, еще немного правее, расстилается равнина с мостом в Кле и наконец утес и пропасти Комбуара.
Все это в целом очень близко к совершенству; я был восхищен до такой степени, что спрашивал себя, как в Неаполе: что мог бы я добавить к этому, будь я господь бог? Я дошел до этого в своих шальных размышлениях, когда проклятый сторож заговорил со мной. Я дал на чай этому жестокому человеку и сбежал.
В минуты благородного подъема, которые иногда бывают вызваны в нас внезапным видом чего-нибудь высокопрекрасного, надо дать себе слово ни на что не сердиться. Печально низведенный на землю сторожем музея, я пошел осматривать библиотеку, основанную в 1775 году г-ном Ганьоном, человеком выдающегося ума, имя которого мне несколько раз повторяли в Гренобле. Он убедил своих сограждан устроить подписку; сам он дал порядочно денег и купил обширную библиотеку недавно умершего епископа.
В комнате, смежной с великолепным книжным залом, я нашел портреты знаменитостей Дофине. До сих пор среди них нет Барнава. Посредственность мстит великим людям после смерти. Барнав погиб тридцати двух лет, пробыв перед этим пятнадцать месяцев в. заключении в форте Барро. Его двадцать раз уговаривали бежать, ничего не было легче; но этот великий дух, подобно Дантону, с отвращением гнал от себя мысль о недоверии к той свободе, на призыв которой во Францию он так много положил сил. Если бы у меня было место, я бы привел очень интересную его рукопись.
Мост в Кле, 25 августа.
Вчера поздно вечером я получил письмо от г-на С, в котором он сообщает мне, что выполнил мое поручение и что сегодня, в воскресенье, около десяти часов утра, я встречу в Лафре четырех вызванных им крестьян. Эти крестьяне двадцать два года тому назад были свидетелями встречи Наполеона, возвращающегося с острова Эльба, с батальоном гренобльского гарнизона. Здесь решилась судьба самого романического и самого великолепного предприятия новых времен. Этот батальон, посланный комендантом Гренобля при Людовике XVIII генералом Маршаном, должен был заградить дорогу Наполеону в том месте, где она сжата между большим озером Лафре и горой.
Гренобль, 27 августа.
Выехав из Гренобля в пять часов утра в чудесную погоду, я был уже в половине десятого на знаменитом лугу, усеянном скалами. Он тянется между большим озером Лафре, ручьем, вытекающим из озера, и горой, лежащей справа от дороги в Ла-Мюр. Признаюсь в моем ребячестве: сердце у меня сильно билось; я был очень взволнован, но трое крестьян не догадывались о моем волнении (четвертый не смог прийти). Они даже косо посматривали на меня, не находя во мне достаточной восторженности по отношению к Наполеону. Крестьяне ожидали меня у г-на Белона, трактирщика в Лафре. Я приехал в Визиль по старой дороге, которая была единственной в 1815 году. Перед Визилем она круто спускается вниз; я переехал Романшу через Большой мост. А затем пришлось карабкаться по ужасному подъему в Лафре, в котором восемь тысяч метров длины и на каждый метр приходится восемь или тринадцать сантиметров уклона.
Наскоро позавтракав в Лафре, мы прошли несколько сот шагов по дороге в Ла-Мюр. Здесь около невысокого деревянного креста мы отметили, воткнув в землю веточки ивы, расположение батальона гренобльского гарнизона, высланного генералом Маршаном, чтобы преградить дорогу.
Правый фланг батальона был расположен у самой горы; его центр занимал дорогу, левым флангом он выходил на небольшой луг, усеянный крупными камнями. В этом лугу всего два или три арпана. В некотором расстоянии, слева от батальона, был ручей, вытекающий из озера. Перед батальоном были озеро и гора, которая так прижимала его с правой стороны, что оставалось только-только место для дороги.
Я говорил очень мало; мои крестьяне спорили между собой и, к счастью, не всегда соглашались друг с другом. Я распорядился захватить с собой три или четыре бутылки вина. Мы несколько раз присаживались, и, как только между ними возникал какой-нибудь спор, у меня тотчас же пробуждалась жажда.
Я отметил веточкой на лугу место, где стоял Наполеон: па расстоянии ружейного выстрела от батальона, против его левого фланга.
- Здесь надобна не маленькая веточка! - закричал один из крестьян.
Его глаза горели; вырубив у старой ивы большую ветвь футов в двенадцать длины, он воткнул ее в землю точно в том месте, где остановился тогда Наполеон.
Настанет день - и здесь будет статуя Наполеона во весь рост, пятнадцати или двадцати футов высоты, и именно в той одежде, которая была на нем в тот день.
Вот что он делал, прежде чем прийти сюда. Накануне он расположился биваком со своим маленьким отрядом на холме в окрестностях Ла-Мюра. Настоящим пунктом обороны против него был мост Понто в одном лье к югу от Ла-Мюра. Этот мост не был занят. Наполеон выступил около десяти часов утра; он пришел в деревню Пьер-Шатель, затем в деревню Пети-Ша; он поднялся по крутой дороге, ведущей в Лафре, и достиг, наконец, самой высокой ее части, где она зажата между горой и большим Лафрейским озером.
Дойдя до этого места, он увидел батальон королевских войск, преграждающий ему путь; судьба Франции и его собственная должны были решиться.
Он следовал еще некоторое время по дороге, спускающейся к Лафре. Потом повернул со своим маленьким отрядом направо, расположился на лугу и остановился на том месте, на котором когда-нибудь будет воздвигнута статуя. Число его солдат не превышало двухсот; многие отстали, но маленький отряд шел, окруженный восторженными крестьянами.
Через четверть часа после того, как он дошел до места, отмеченного нами большой ивовой ветвью, Наполеон послал генерала Бертрана в расположение батальона королевских войск. Генерал Бертран узнал в командире этого батальона офицера, который некогда участвовал в Египетском походе и был даже награжден Наполеоном. Но этот человек честно заявил, что, поскольку Франция повинуется теперь королю, он будет стрелять по врагам короля, если те двинутся на его батальон.
- Ну, а если сам император будет перед вами? - сказал генерал Бертран.- Неужели у вас хватит духа выстрелить в него?
- Я выполню свой долг,- ответил командир батальона.
Один из тех крестьян, которых я расспрашивал, находился в то время как раз посредине между батальоном и отрядом императора; он припоминает, что генерал Бертран пробовал заговорить с несколькими офицерами и даже солдатами; это давало повод открыть огонь; но генералу не удалось вызвать у них никаких чувств. Он вернулся к императору. Так продолжалось целый час, если верить этому крестьянину, и всего лишь полчаса, если верить двум другим.
Очень вероятно, что генерал Маршан составил этот батальон из самых верных людей гренобльского гарнизона и поручил командование наиболее надежному офицеру, который был менее других способен поддаться общему энтузиазму при виде императора.
Но солдаты уже целый час смотрели на своего императора: он был от них на расстоянии ружейного выстрела. "Если весь батальон откроет по нему огонь, он будет убит, в этом нет сомнения,- говорили между собой солдаты,- а смотрите, как он спокоен: он прекрасно знает, что мы его не убьем".
Мысль о возможности открыть огонь по императору казалась всем присутствующим настолько невероятной, что пространство между императором и батальоном вскоре заполнила толпа крестьян. Они не скрывали своей радости и раздавали солдатам батальона прокламации императора.
В это время примчался из Лафре молодой офицер. Мои крестьяне не знают его имени, но можно предположить, что это был г-н Рандон, адъютант генерала Маршана.
Немного спустя Наполеон подошел ближе к батальону и произнес те несколько слов, которые мы читаем в бюллетене. Расстегнув свой сюртук, говорят крестьяне, он мужественно сказал, раскрывая грудь:
- Если кто из вас хочет убить своего императора, пусть стреляет.
Небольшой авангард из нескольких человек стоял впереди батальона; адъютант скомандовал "целься" и "огонь". Один из солдат, стоявший совсем близко к Наполеону, прицелился. Услышав приказание стрелять, он повернул голову и спросил:
- Это приказание командира батальона? Это он приказывает стрелять?
- Огонь! - повторил адъютант. Солдат снова сказал:
- Если командир батальона приказывает, я буду стрелять.
Командир батальона не повторил приказа; солдат поднял ружье. Это был, по-видимому, решающий момент.
Командир батальона, тронутый словами императора, который все еще продолжал говорить, напоминая ему о сражениях в Египте, уже не мешал ему приблизиться, и император, воскрешая в его памяти обстоятельства их прежних встреч, обнял его. В эту минуту солдаты Гренобльского батальона, которые жадными глазами следили за каждым движением императора, в восторге, что можно забыть о дисциплине, начали кричать: "Да здравствует император!" Этот крик повторили крестьяне, и все было кончено. У всех глаза были полны слез. Чувство восторга охватило всех. Солдаты обнимали крестьян, обнимали друг друга. Г-н Р., адъютант генерала Маршана, видя, какой оборот принимает дело, решил, вероятно, предупредить генерала и помчался галопом к Лафре. Четыре конных гренадера из императорской гвардии поскакали за ним; адъютант пустил лошадь во весь опор, промчался по ужасному спуску Лафре, проскакал через Визиль, а за ним по пятам скакали четыре императорских гвардейца с трехцветными кокардами. Все население Визиля толпилось у окон, не понимая, что происходит. Адъютант промчался галопом по крутому подъему дороги в Жари, его уже почти догоняли, но тут он догадался свернуть по боковой дорожке (тропинке фута в два шириной, которая сокращала путь). Усталые кони гренадеров не могли скакать по этой узкой тропинке, и адъютант был спасен.
Всем известно остальное. По пути на Гренобль император встретился на равнине Эйден с г-ном де Лабедуаером. Последний уже два дня как прибыл со своим полком из Шамбери и добился у генерала приказа идти на помощь Лафрейскому батальону.
В тот же вечер около девяти часов император был у Бонских ворот. В этот день его солдаты прошли тринадцать почтовых лье. Был сильный холод, дул ветер.
По своеобразной особенности, присущей дофинезскому характеру, жители этого края в минуты самого сильного волнения кажутся лишь задумчивыми и настороженными. И неопытный наблюдатель в тот день не заметил бы в Гренобле ничего из ряда вон выходящего. Солдаты, улыбаясь, выполняли все приказания. Устанавливая пушки на крепостной стене слева от Бонских ворот, канониры говорили:
- Эти пушки никому не принесут вреда.
- И понятно: порох-то подмочен,- отвечали окружавшие их горожане.
Из осторожности никто ни о чем не говорил, но все взгляды выражали единодушие.
Около девяти часов император сидел у Бонских ворот, на расстоянии пистолетного выстрела от укреплений. И хотя шла война, никому и в голову не приходило выстрелить в него и тем спасти Бурбонов.
В тот день императору грозила опасность, о которой никто до сих пор не знал. Здесь была проявлена известная энергия, и это понятно, потому что речь идет о простолюдине.
В то время как Наполеон остановился против одного дома, у дороги, неподалеку от Ла-Мюра, хозяину этого дома, бывшему солдату, женатому на девушке из порядочной семьи, пришло в голову, что он может обеспечить свое будущее, если убьет этого всеобщего врага, пришедшего, чтобы свергнуть с престола короля. Взяв ружье, он поднялся на чердак; но здесь, уже прицелившись в императора, он вспомнил, что там внизу его жена и дети, которые будут растерзаны солдатами, как только те увидят падающего императора. И он не выстрелил. Бонские ворота были заперты; их начали рубить топором снаружи, а также и изнутри. Наконец они открылись. Наполеон вошел в город, изнемогая от усталости, и провел ночь в той самой комнате, где я сейчас пишу все это.
Этот постоялый двор содержал тогда некий Ла-Барр, храбрый солдат Египетской армии; он с восторгом принял императора, за что впоследствии был разорен. Отмечу, что я никогда не видел солдата Египетской армии, который не плакал бы, говоря о Наполеоне.
Что бы ни говорили люди, пишущие историю звонкими фразами и никогда не выезжавшие из Парижа, в этот день в Гренобле не было никаких внешних проявлений восторга; но все жители Ла-Мюра, Мана, Визиля и других городков и деревень, лежащих по пути и в окрестностях дороги, где проходил император, были охвачены восторженным волнением, доходившим до исступления. Крестьяне из этих деревень шли за ним до стен Гренобля, думая, что им придется там сражаться; они беспокоились за императора, видя, что в его отряде всего сотни три человек.
В Гренобле же, на первый взгляд, проявлялось лишь любопытство; это напоминало июльские дни в Париже: одни только низшие классы не думали об осторожности и слушались собственного сердца.
Многие из жителей Гренобля рассуждали так: в Лионе собирается армия. Император может быть арестован или убит из ружья каким-нибудь солдатом-роялистом, и тогда недели через две у нас будут здесь военно-полевые суды.
Немногие - и только люди низших классов - кричали под окнами Ла-Барра: "Да здравствует император!" На следующий день около полудня император делал смотр войскам на площади Гренетт; энтузиазм, проявлявшийся солдатами, составлял полную противоположность сдержанности горожан. Но все же и среди последних было немало таких, которые забывали об осторожности и слушались лишь собственного сердца. Их поощрял к этому славный Аполлинер Эмери, уроженец Гренобля, врач императора, приехавший вместе с ним с острова Эльба.
Господин де Ла-Гре был хороший священник, беспредельно наивный. Будучи настоятелем церкви Богоматери, он часто читал там свои бесконечные проповеди, полные риторических фигур. Во время этих проповедей слушатели много смеялись, так как, в сущности, это был предобрый человек, который нередко останавливался на улице, чтобы отдать свои башмаки какому-нибудь бедняку, если тот просил его об этом; между ним и его паствой сложились самые добрые и несколько шутливые отношения.
За неделю до прибытия императора г-н де Ла-Гре читал проповедь, в которой раз двадцать повторил: "Где же он теперь, этот великий полководец? Где тот, которого вы называете великим человеком?"
В вечер приезда императора нескольким молодым людям, которые долго до того кричали: "Да здравствует император!" - пришло в голову сообщить об этом аббату де Ла-Гре; подойдя к его жилищу, они стали звать его; он отворил окно.
- Что случилось, что вам надо?
- Ну, господин де Ла-Гре, вы спрашивали на днях в своей проповеди, где император; так вот, он у Ла-Барра!
Начали пробуждаться и некоторые практические интересы; деятельные умы дофинезцев уже спекулировали на будущем величии Наполеона*.
* (Автор этого рассказа написал "Жизнь Наполеона", которая выйдет в 1839 году.)
Генерал Маршан и префект Фурье покинули город. Император подтрунивал над отсутствием последнего, очаровательного человека, с типично французским складом ума, который проделал вместе с ним Египетский поход. "Однако должен же кто-нибудь управлять департаментом!" - сказал император. Один из местных жителей, бывший около него, назвал имя г-на Савуа-Роллена, бывшего префекта Антверпена, который жил в деревне около Гренобля. То был в высшей степени остроумный человек, с французским складом ума, то есть мало способный поддаться энтузиазму. Он отказался от сделанного ему предложения. Г-н де Барраль, первый председатель королевского суда, верный своему патриотическому чувству, приветствовал императора от имени королевского суда. Император же ни на кого не сердился. Казалось, он на время позабыл ту строгость, которая составляет обязанность монарха. Он всем оказывал радушный прием.
Гренобль, 28 августа 1837 г.
Мне не хотелось читать бюллетеня, в котором Наполеон сообщал об этих событиях, до сегодняшнего дня, когда я возвратился в Гренобль. Я нашел, что все изложено здесь совершенно точно. У Наполеона не было никаких причин лгать. К тому же действия его были благородны и величественны, и, быть может, он не захотел грязнить их ложью, даже если его толкали на это интересы деспотизма. Любовь этого великодушного человека ко всему прекрасному нередко побеждала в нем интересы монарха. Это было видно после 18 брюмера: не раз складка презрения появлялась у его тонких, прекрасно очерченных губ при виде раболепных подданных, толпившихся на утреннем приеме перед его спальней в Сен-Клу. Казалось, он говорил себе: "Так, значит, только такой ценой могу я стать властелином мира?" И он поощрял пошлость. Когда, много позже, он наказывал мужественных генералов, таких, как Дельмас, Лекурб и др., и якобинцев, он испытывал другие чувства. Это был страх.
Расспрашивая вчера моих крестьян, беседуя сегодня с одним остроумным и очень тонким человеком, живущим в Гренобле уже двадцать лет, я понял, что необычайное возбуждение, которое император вызывал на своем пути в 1815 году, имело три причины.
Во-первых, его блестящие военные подвиги - среди крестьян было много бывших солдат.
Во-вторых, унижение, вызванное первым чужеземным нашествием и остро переживавшееся французами низших классов, то есть теми, кто не развращен привычкой прежде всего добиваться удовлетворения своего тщеславия.
В-третьих, национализированные земли. Они всегда являлись якорем спасения для революционного правительства. Это очень хорошо поняли либеральные газеты во времена первой Реставрации. Они повторяли на все лады, что Бурбоны отдадут национализированные земли эмигрантам, находившимся при дворе, и установят десятинный налог. Именно эти опасения использовал позднее г-н Дидье, человек очень своеобразный, во время неудачной стычки 1816 года.
После этой восторженной вспышки в 1815 году французский народ отдыхал в течение пятнадцати лет, и повсюду царил самый низменный эгоизм.
Вот одна подробность, о которой рассказали мне в Визиле. Префекты Бурбонов выбирали в каждом округе человека, которому было поручено следить за общественным мнением; и человек этот был совершенно откровенно награждаем всеми благами, которыми только может располагать префектура. В то время как император проходил через Ла-Мюр, туда сбежались все жители городка Мана. А за несколько месяцев до этого в Мане - хорошеньком городке, половина жителей которого протестанты,- поселился некий г-н Н. Он выдавал себя за охотника и любителя широко пожить. Вскоре он уже познакомился и сблизился со всей местной аристократией. Когда ему объявили о появлении императора в Ла-Мюре, он уехал, сказав: "Я еду, чтобы убить этого негодяя из своей двустволки". Но он не вернулся и появился в этих местах лишь после битвы при Ватерлоо. Он писал своим друзьям из Парижа: "Извещайте меня о подозрительных людях, я велю их расстреливать".
Спустя две недели после прибытия Наполеона в Гренобль по меньшей мере сто жителей этого города были уже в Париже, ходатайствуя и повторяя везде и всюду, что именно они и возвели императора на престол.
Гренобль, 28 августа.
Посреди площади Святого Андрея можно видеть колоссальную бронзовую статую актера из мелодрамы, с ребяческой напыщенностью целующего крест. Кто бы мог угадать, что этому надутому существу присвоено почитаемое имя самого естественного и самого простого человека на свете - Баярда, который никогда не был главнокомандующим и имя которого пережило имена всех генералов его века. Реставрация немного злоупотребляла Генрихом IV и Баярдом.
Многие люди, которые выдвинулись за последние двадцать лет, жили некоторое время в Гренобле, и я восхищаюсь прекрасными биографиями, написанными о- них местными жителями.
Ни одного лишнего слова, ни одной забытой характерной черты. Г-да Доннадье, д'Оссе, Гернон-Ранвиль, Шантелоз, Гаспарем, Муан, главный прокурор Менар - все они дали повод жителям Гренобля высказать всю тонкость суждений.
Г-н Менар оставил по себе репутацию красноречивейшего оратора, и, что совсем невероятно, все утверждают, что его речь была естественна, проста и выделялась лишь единственно большим количеством неологизмов.
Во время одного нашумевшего судебного дела о разводе молодой, привлекательной и набожной женщины со своим мужем - дела, возбуждавшего страстный интерес,- все места в зале заседания суда были уже к восьми часам утра заняты гренобльскими дамами. В первый день процесса очень хорошо говорил г-н Эннекен. Во второй день г-н Созэ говорил еще лучше. И все говорили: "Бедный господин Менар, он такой простой, такой скромный,- ему плохо придется!" Он взял слово и сказал свою речь, почти не отклоняясь от обычного разговорного тона... "Его слушали, затаив дыхание", - рассказывала мне г-жа Н. Он перевернул все определения по этому делу, и когда наконец он кончил, все, несмотря на уважение к суду, восторженно ему аплодировали.
Почему г-н Менар не в палате депутатов?
Фурвуари, 1 сентября 1837 г.
Из Гренобля я написал в Сен-Лоран-дю-Пон, по ту сторону Большого Картезианского монастыря, чтобы мне прислали оттуда двух мулов в Сапе. Вчера, в четыре часа утра, как только открыли городские ворота, я выехал из Гренобля с двумя лошадьми: одной для себя, другой для проводника. У меня не было никакой надобности в проводнике, так как нельзя заблудиться на горной дороге, которая идет все время по дну лощины или поднимается зигзагами по крутому откосу. Но я до страсти люблю вызывать проводников на болтовню; лицемерие, которое царит у нас вот уже двадцать лет, не проникло еще в народные низы. В пути я заговариваю о таких вещах, которые составляют главный в этих краях предмет разговора, и таким образом узнаю обо всем народные суждения. Они меня иногда удивляют, но всегда интересуют. Я встречаю почти в каждой фразе черты удивительного невежества; но эти суждения никогда не диктуются низменными побуждениями: это полная противоположность тому, как разрешаются вопросы под влиянием моды в хорошем обществе.
Мой проводник - пылкий патриот, как и все жители "Долины" (Грезиводана); он по-своему рассказывает мне о защите Гренобля 6 июля 1815 года: "Через несколько лет, когда некоторые ворчливые старики не будут уже пользоваться влиянием, 6 июля в Гренобле и по всей долине будут справлять большой национальный праздник. Накануне, при заходе солнца, будет дано сто орудийных залпов; а в день праздника с той самой стены Тре-Клуатра, около которой еще видны деревья, срезанные пьемонтским орудием, через каждые четверть часа будут стрелять из пушки. Крепость Барро повторит залпы и одолжит два четырехфунтовых орудия канонирам национальной гвардии долины. Эти орудия будут построены батареей в замке Баярда и будут стрелять через каждые четверть часа. Правительство даст 5 тысяч франков на это празднество, по 500 франков каждой деревне, и сделает благодаря этому военную крепость Гренобля неприступной". Мой проводник был в совершенном восторге от своих предсказаний.
Я вышел из прекрасной долины Изеры тропинкой, ведущей в Коренк; она идет вверх среди виноградников вдоль горы, которая господствует над долиной с северной стороны. Я не мог оторвать глаз от этого прекрасного края, который видел в последний раз, и то и дело останавливался. После того, как Изера и нижняя часть долины скрылись из виду, оказываешься как бы лицом к лицу со знаменитым Тайфером и всей высокой цепью Альп. Появляется множество новых вершин; кажется, что они растут по мере того, как подымаешься. Я прекрасно мог рассмотреть в свой небольшой театральный бинокль гранитные острия, венчающие их вершины, скат которых слишком отвесен, чтобы снег мог на них задерживаться. Он нагромождается у их подножия.
Сделав длительную остановку, я распрощался с прекрасной долиной Изерьт.
В известных мне странах, где земледелие поставлено научно, в Нижней Шотландии, в Бельгии, сложные способы возделывания почвы, сорок плугов, употребляемых одновременно на одном поле, вызывают представление о большой и прекрасной фабрике, а никоим образом не об уединении и счастье среди полей. И лишь грубое тщеславие побуждает земледельцев относить к своему современному делу все то, что Вергилий, Руссо и другие говорили о сельской жизни и ее простоте. Ничего нет менее простого, чем большое земледельческое хозяйство; это фабрика, капитал которой вложен не в станки или шерсть, как, например, в Эльбефе, а в луга и пахотные земли. Кроме того, и это особенно тяжело, приходится постоянно препираться с жадными, вороватыми нищими крестьянами.
Долина Изеры, несмотря на чрезвычайное ее плодородие, ни в малейшей степени не напоминает фабрику, но постоянно вызывает представление о сельском счастье среди самой величественной красоты. Лишь одна долина могла бы сравниться с долиной Изеры красотой сельского пейзажа - виноградниками, покрывающими холмы, и прелестными зелеными лугами,- это Тревская долина (воспетая Авзонием в IV веке).
Когда мы проезжали Коренк, мой проводник показал мне заново оштукатуренный дом. "Вот и еще один",- сказал он мне с раздражением. Дело идет о монастыре. Крестьяне Дофине полагают, что священники, монахини, братья-игнорантинцы и прочие стараются уничтожить ту революцию, которая заменила их лохмотья суконными куртками. Когда они издали замечают в полях монаха-игнорантинца - и при этом вблизи нет жандармов,- они подражают крику ворона. Они думают,- конечно, совершенно напрасно,- что эти господа препятствуют организации празднеств в память 6 июля 1815 года.
В этом монастыре Коренка около двадцати монахинь, носящих имя сестер Провидения; эти дамы воспитывают учительниц, которые открывают затем школы в городах и деревнях по примеру братьев-игнорантинцев. Мрачное рвение одушевляет, говорят, этих монахинь; и так как преподают они в самом деле очень хорошо, может быть, им удастся передать это рвение всем матерям 1850 года. Меня уверяют, что они внушают детям представление о хартии, двухпалатной системе, а особенно о газетах, как об орудиях дьявола. У этих монахинь нет соперниц в деле воспитания женщин, тогда как игнорантинцы встречают на своем пути школы взаимного обучения и много других; но, по правде сказать, монахи всегда устраивают так, чтобы обучение в их школах стоило дешевле.
По мере того, как поднимаешься к Сапе, растительность становится беднее, деревья все более низкорослыми и скрюченными. Встречаются крестьяне, которые кричат во все горло, называя своих двух коров по именам и покалывая их остроконечными железными палками; эти худые несчастные животные везут на гренобльский базар "обозы дров": тридцать или сорок небольших стволов бука, перерубленных топором у корня и связанных вместе ивовыми прутьями. Верхушки деревьев лежат на двух колесах, а стволы волочатся по дороге и портят ее. Но как найти в себе мужество запретить этот промысел? Ведь это единственный источник, дающий возможность горным жителям добыть немного денег на уплату налогов - тех самых налогов, которые идут в Париже на постройку бесполезных дворцов на набережной Орсе. Мне приходят в голову грустные мысли. В самом деле, наши негры в колониях в тысячу раз счастливее доброй четверти французских крестьян.
Подъезжая к Сапе, я остановился на дороге шириной в шесть футов, чтобы пропустить большую компанию гренобльцев, подымавшихся к Большому Картезианскому монастырю. Я насчитал шесть совсем молоденьких дам: женщине надо иметь мужество, чтобы предпринять такую прогулку. К счастью, я встречался с одной из этих дам и ее мужем на празднике в Монфлери, и у меня было еще не переданное рекомендательное письмо к одному из этих господ.
Унылая пустыня, в которой мы очутились, явно начинала производить на молодых женщин тягостное впечатление, чем я воспользовался, чтобы вручить мое письмо. Нам стали попадаться высокие деревья, лишь когда мы уже поднялись к ущелью, где расположен монастырь; почти в то же мгновение перед нами открылся великолепный вид. Муж одной из дам, человек остроумный, воскликнул:
- Кажется, пробка в одной из наших бутылок шампанского начинает посвистывать, как бы все вино не выбежало!
Я высказал мнение, что если на таком свежем воздухе не закусить, может страшно разболеться голова, и мы принялись за холодный паштет. Это было хорошим выходом из положения,- натянутые нервы успокоились. Мы сделали привал под большим буком.
Узкая дорога, по которой мы ехали от Сапе, покрыта камнями, наполовину округленными постоянным трением. Камни эти катятся по дороге, которая при малейшем дожде служит руслом небольшому потоку; все время маленькие лошадки, на которых ехали дамы, спотыкались о них, и дамам было страшно; они уже некоторое время не произносили ни слова и не в состоянии были наслаждаться дивной красотой пейзажа. Наш маленький привал вернул им веселье молодости.
Все были очень веселы, вновь садясь на лошадей, и мы заговорили все сразу, когда увидали монастырь. Это - невысокое строение, увенчанное одной из тех шиферных кровель, что выше здания, которое они покрывают. В 1676 году пожар уничтожил монастырь, и все, что мы видим теперь, выстроено уже позже и, следовательно, крайне посредственно по архитектуре.
Ах, если бы здесь стояло Сент-Уэнское аббатство или Ассизский монастырь!
Господин Н., муж самой хорошенькой из дам, имеет великолепную бороду и некоторое образование, которое он нам слишком щедро демонстрирует. Его главная заслуга состоит в искажении общепринятых имен древних личностей, к которым мы уже привыкли. Он говорит не Кловис, а Хлод-Виг; не Меровей, а Меро-Ваг, и каждое имя имеет для него то преимущество, что влечет за собой целую диссертацию. Я отвечаю ему в тон, произнося: "Виргилиус" и "Кесар".
В 1804 году, поведал нам сей ученый, Бруно, родившийся в Кёльне в очень богатой семье, будучи уже прославленным проповедником, решил с некоторыми своими друзьями покинуть свет. Ему было тогда пятьдесят четыре года. Он явился к гренобльскому епископу Гуго, своему бывшему ученику, и тот указал ему в шести лье к северу от города пустыню Шартрез. Вот описание пустыни, которое сделал дон Пьер Дорланд, один из первых историков ордена*:
* ("Хроника ордена Картезианцев". Издана в Турне.)
"В Дофине, неподалеку от Гренобля, находится ужасное место,- холодное, гористое, покрытое снегом, окруженное пропастями, елями, которое одни называют Картуз, иные же Большой Шартрезой. Это очень обширная пустыня, но живут в ней только звери, и люди там не бывают, ибо нелегко добраться до нее. Там высокие и крутые скалы, дикие, бесплодные деревья. Земля там бедна и неплодородна, так что нельзя ничего ни сеять, ни сажать. Это место и выбрал Бруно для своего жилища и, не имея кельи, жил там в расселинах скал.
Бруно жил в этой пустыне, не устанавливая никаких правил: их заменял его пример. Через сорок четыре года после него один из его преемников, Гвиго, написал статут, называющийся: устав дона Гвиго.
Вот перевод одного из его пунктов, всю строгость которого нам суждено было испытать на себе:
"Мы никогда не разрешаем женщинам входить за нашу ограду, ибо знаем: ни мудрец, ни пророк, ни судья, ни даже тот, кто принял бога в доме своем, ни его дети, ни даже первый человек, вышедший из рук его, не могли устоять против ласки и козней женщины. Пусть вспомнят Соломона, Давида, Самсона, Лота и тех, которые взяли по своему выбору жен, и самого Адама; пусть знают, что человек не может спрятать огонь на своей груди без того, чтобы не воспламенилась вся его одежда, и ходить по раскаленным угольям без того, чтобы не обжечь подошву ног своих".
Последний устав картезианских монахов был утвержден папой Александром IV.
Копия дарственного акта лесов и земель Большой Шартрезы, датированного 1084 годом, находится в рукописи, сданной на хранение в Гренобльскую библиотеку. Она превосходно прочитана Феликсом Крозе.
Дон Жанселен, генерал картезианских монахов, воспретил во имя монастырского послушания одному умершему монаху совершать чудеса.
Я умолчу о многих других чудесных явлениях.
Картезианский монастырь расположен около Гьера в возвышенной долине у подножия еще более высокой горы, называемой Гран-Сом (высокая вершина). Как досадно, что мы не находим в этом уединенном и поистине величественном месте какой-нибудь красивой старинной постройки! Но здесь душа черпает взволнованность лишь в самой себе, если она возвышенна по природе. Что может испытать здесь душа прокурора? Заурядным душам доступна лишь красота деревьев, ужасный и мрачный вид этих скал, а минутами и воспоминания о картинах Лесюера и искренней набожности святого Бруно.
Когда святой Бруно пришел в эти горы в 1084 году, его приютила семья Бижильон из деревни Сен-Пьер, лежащей по соседству с монастырем. Их потомки еще и сегодня живут в Гренобле.
Такие примерно разговоры вело наше маленькое общество, медленно подвигаясь шагом, когда впереди показался монастырь. Мы были от него еще на расстоянии нескольких сот шагов, как навстречу нам выбежал перепуганный служка Жан-Мари; он попросил дам не идти дальше. Их веселые разговоры и смех, вероятно, уже давно поразили его слух. Мы остановились; подошел крестьянин и стал рассказывать нашим дамам всякие забавные истории по поводу того отвращения, которое женщины внушают картезианским монахам. По-видимому, эти рассказы не преувеличены, так как отец-эконом, вскоре подошедший к нам, был совершенно потрясен, увидав шестерых женщин, и, что хуже всего, молоденьких и хорошеньких; он объявил, что им будет отведено помещение в лазарете, в двухстах шагах от монастыря, и что им нечего и думать о том, чтобы подойти к воротам.
- В старину,- многозначительно добавил он,- женщины не имели права переступать наши границы, простиравшиеся на два лье кругом. Но революция отобрала наши поместья, и, мало того, она еще противодействует спасению наших душ.
Говоривший с нами монах был красивый мужчина лет сорока пяти или пятидесяти; на нем, как и на других монахах, была одежда из белой шерсти, и, так как дул довольно холодный ветер, он все время натягивал капюшон рясы на свою бритую голову.
Признаться ли? В эту минуту наш визит сюда начал казаться мне довольно нелепым. Даже если не принимать во внимание религиозных соображений, говорил я себе, все же нужно согласиться с тем, что эти бедные монахи, которым наскучили мир и люди, имеют право скрыться от их назойливости. Они ищут убежища в уединении, на огромной высоте, среди страшных скал; и всего этого еще недостаточно, чтобы остановить нескромное и жестокое любопытство: к ним приходят, чтобы посмотреть на выражение их лиц, напомнить о том, что они могут показаться смешными, и, быть может, о тех тяжелых страданиях, о которых они стараются забыть.
- Сударыни,- воскликнул я после ухода отца-эконома,- если вы хотите послушать меня, отправляйтесь ночевать в Сен-Лоран-дю-Пон! Чем вы моложе и красивее, тем более неделикатным является ваше присутствие здесь.
- Увы, мой дорогой,- возразил мне бородатый и ученый супруг,- я вижу в вас благородную деликатность и величие души восхитительного Дон-Кихота, но в то же время и свойственное ему полное неведение житейских дел. Ваша благородная душа парит в облаках; вы забываете великое слово нашего века - "деньги".
Бурбоны вели себя здесь так же, как повсюду. Бедные картезианские монахи не могли ездить в Сен-Клу надоедать им, и они не сделали для монахов ничего толкового. Бедные иноки живут главным образом на доходы, получаемые от постояльцев, и на то, что платят им путешественники; каждый из нас заплатит по пяти франков в день.
Бурбоны сделали для картезианских монахов только одно: они сдали им в аренду по дешевой цене дом, где они живут, и близлежащие луга и позволили рубить столько леса, сколько надобно для работы трех лесопилен. Они могут сверх того рубить лес и для своего отопления.
Будучи в таком бедственном положении, они держат коров и кур и продают молоко и яйца в течение четырех месяцев в году людям, которые отваживаются добираться до них.
Признаюсь, такой ответ меня огорчил. Почему господа Лене, де Мартиньяк, Рюбишон или другой какой-нибудь толковый человек из друзей Бурбонов не посоветовал им представить на рассмотрение Палаты депутатов закон, который бы даровал картезианским монахам право пользования домом и четырьмя тысячами арпанов леса при условии, что они не будут возмущать умы против существующего строя?
Жан-Мари отвел нас в лазарет; это три большие голые комнаты, и мы быстро покинули их, чтобы насладиться видом причудливых скал в тени большой аллеи, в двухстах шагах отсюда. Мы умирали от голода; тут нам сообщили, что обед готов. Он имел первейшее достоинство,- он был обилен: нам подали жареных карпов, картофель, яйца и другие простые блюда. Мы обедали за длинным и узким еловым столом, накрытым для нас в одной из комнат лазарета.
- В старину,- сказал нам Жан-Мари,- у нас было девяносто два пруда, больших и малых.
Этот славный монашек, прислуживавший нам за обедом, проявлял ко мне какую-то особенную любезность, на что дамы обратили мое внимание. Я задал ему два - три вопроса, и наконец после нескольких застенчивых улыбок он шепотом сообщил мне, что много раз видел меня в монастыре; на это я ответил, что никогда там не бывал. Он пришел в глубокое изумление: очевидно, он подумал, что я стыжусь его. Наконец он решился спросить мое имя.
- Ах, сударь, конечно же, я вас знаю! - воскликнул он, на этот раз уже полным голосом.- Я видел вас в таможне около Шомона. Я был подмастерьем у портного; портной разорился во время нашествия в 1814 году, вюртембержцы забрали у него четыре прекрасные штуки сукна; он умер с горя. Я занял его место, но меня тоже обобрали. Я еще с детства был религиозен; уразумев, сколь злополучно наше ремесло, я приехал в Савойю, чтобы стать монахом. Один из наших отцов сказал мне, что я слишком туп, чтобы изучать латынь, но что и в более скромном положении я буду одинаково служить религии - я буду носить платье картезианцев, как все остальные, и только вернее спасусь, ибо в наши дни души губит гордыня.
Ничто не могло сравниться с радостью Жан-Мари: в столь однообразной жизни все является событием; он меня усердно расспрашивал о новостях Верхней Марны.
К концу обеда к нам зашел отец-эконом; в его присутствии одна из дам попросила кофе у служки Жан-Мари. Святой отец довольно педантично ответил, что в монастыре нет кофе, так как это - излишество.
- Но, отец мой,- возразила молодая, очень живая дама,- мне кажется, вы нюхаете табак?
- Это совсем другое дело, сударыня: табак мне прописан от ужасных головных болей, - и т. д.
Я был оскорблен тоном дамы, но она была права.
Мы поспешили за братом Жан-Мари, который проводил нас в часовню святого Бруно, расположенную выше, в горах, в сорока пяти минутах ходьбы от монастыря. На этом месте святой Бруно основал монастырь. Еще выше, в скалах, лишенных всякой растительности, находится маленькая пещера, к которой мы, мужчины, кое-как вскарабкались, причем не обошлись без царапин. Здесь святой Бруно поселился на первых порах. Мы спустились обратно к часовне святого Бруно; дверь ее украшена каменным крыльцом, и Жан-Мари сказал нам, что эту часовню собираются украсить копиями с картин Лесюера. На обратном пути на полдороге мы увидали часовню девы Марии. Дикие, мрачные и грозные пейзажи занимали нас гораздо больше, чем эти маленькие человеческие памятники, да еще относящиеся к убогому столетию.
Мы не успели осмотреть последнюю часовню: порывистый ветер гнал черные тучи на высоте пистолетного выстрела над нами, и мы опасались дождя.
В тот самый момент, когда мы входили в лазарет, голые скалы и высокие еловые леса огласились ужасающим ударом грома. Никогда еще не слыхал я такого грохота. Можно себе представить, какое впечатление это произвело на дам. Ветер бушевал с неистовой силой, и дождь стучал в окна лазарета так, что казалось, он их выбьет.
- Что будет с нами, если стекла разобьются? - говорили дамы.
Это было возвышенное зрелище. Слышались стоны елей восьмидесяти футов вышиной, которые гроза пыталась сломать. Местность была освещена каким-то серым, совершенно необычайным светом; наши дамы начали бояться не на шутку. Надвигавшаяся ночь усугубляла мрачность пейзажа. Удары грома становились все великолепнее. Я решил уйти; мне хотелось остаться одному; дамы меня не пустили.
Вскоре пришел Жан-Мари и сказал, что пора "возвращаться домой", так как ворота монастыря скоро закроются. Мы не очень-то понимали, что он хотел этим сказать, а Жан-Мари, со своей стороны, не вдавался ни в какие объяснения, полагая, что мы знакомы с монастырскими обычаями.
Ужас дам достиг предела, когда монашек объявил, что все мужчины, даже их мужья, должны идти на ночь в монастырь, а дамам предстоит остаться совершенно одним в лазарете, а это строение находится примерно в двухстах шагах от монастыря.
- Но что же с нами будет, - сказала одна из дам, - если на нас нападут воры?
На это брат Жан-Мари отвечал, что ни крики, ни ружейные выстрелы - ничто в мире не может заставить открыть ночью ворота монастыря.
- О таком случае пришлось бы написать в Рим,- добавил он.
При словах "ружейные выстрелы" страх бедной женщины достиг такой степени, что ее муж отозвал меня в сторону и поручил мне подкупить Жан-Мари. Я приступил к делу, но монашек отказал мне очень просто и, как мне показалось, искренне. Я предлагал ему до десяти наполеондоров, которые он мог бы употребить на милостыню, если у него не было личных потребностей. Ничего не добившись, я вернулся к дамам; кто-то предложил ехать ночевать в Сапе, но когда спросили мнение Жан-Мари, он сказал, что это было бы опасно даже для мужчин.
- Все дороги, по которым вы проезжали утром, превратились в маленькие овраги, в них до полуфута воды; и так как эта вода своим течением захватывает круглые камни, то ваши мулы - а они не так уж глупы - не захотят двигаться вперед или упорно будут идти по краям дороги, которые очень скользки в такой дождь. Если бы отец-эконом приказал мне по такой погоде отправиться в Сапе, я пошел бы пешком и держался бы все время середины дороги.
Двое из мужчин сказали, что они проведут ночь в лесу, но в этом им было положительно отказано. Они настаивали.
- Вы вынуждаете меня сказать вам, господа,- возразил Жан-Мари,- что в таком случае мне пришлось бы взять в монастыре двадцать человек прислуги и прийти запереть лазарет, выпроводив предварительно, согласно уставу, этих дам из наших владений. И зачем, в самом деле, было привозить с собой дам в эти места?
Брат Жан-Мари вежливо торопил нас, и нам пришлось покинуть наших бедных спутниц. Мы оставили им пистолет.
Нам было очень грустно. Мы промокли до костей, пока прошли те двести шагов, которые отделяли нас от монастыря. Удары грома были поистине оглушительны. Мы думали о том, каково состояние оставшихся в лазарете. Когда мы пришли в монастырь, каждому из нас отвели по крошечной, очень узкой келье с маленькой кроватью из еловых досок. Несмотря на продолжавшийся шум бури, усталость взяла свое, и мы задремали; мы спали крепким сном, когда нас внезапно разбудили ужасающий звон колоколов и такие раскаты грома, что от них сотрясался весь дом. Редко мне приходилось просыпаться при таких необыкновенных обстоятельствах; право, в этом было что-то похожее на страшный суд.
Монах пришел звать нас к молитве; мои спутники, бывшие в очень плохом настроении из-за отношения монахов к дамам, не пожелали встать, я же пошел за монахом. Хотя была середина августа, в узких коридорах стоял пронизывающий холод.
Церковь имела вид необыкновенно странный и унылый. Мне указали место сзади, у главного входа. У монахов отдельные места, их отделяет дощатая перегородка в четыре фута высоты, так что, когда они становились на колени, я переставал их видеть. Среди глубокой тишины и молитвенного созерцания раскаты грома возобновились с новой силой. Как мне хотелось в эту минуту ничего не знать ни об электричестве, ни о Франклине! В этот момент ярость грозы, как видно, достигла своего апогея. Когда же я вернулся, чтобы лечь спать, около трех часов утра, небо было уже усеяно звездами; погода была прекрасная, но стоял пронизывающий холод.
Мне стоило большого труда проснуться в восемь часов утра. Мои спутники уже давно вернулись к дамам, которые провели ночь самым странным образом.
Часов около двух, когда еще бушевала буря, дамам показалось, что дверь пытаются открыть воры. По всей вероятности, одна из них, спавшая около тонкой двери из еловых досок, во сне толкнула ее локтем. Самая храбрая из молодых пленниц, г-жа Т., у которой такие прекрасные глаза, спросила дрожащим голосом: "Кто там?" Ответа не последовало. Прошло минут пятнадцать, полных ужаса, как когда-то на Апеннинах в замке Монтони (Анна Редклифф).
Можно ли поверить, что в такую ужасную погоду в лесу находилось целое общество молодых людей! Как только гром умолк и гроза прошла, они стали петь под окнами у дам, и те опять перепугались, по крайней мере по их словам. До того, как молодые люди начали петь, их шаги долгое время раздавались в еловом лесу, среди необъятного ночного безмолвия. Около семи часов брат Жан-Мари пришел открыть дверь, которая была заперта двойным запором, и быстро удалился. Одна из дам встала и подбросила побольше дров в огонь, который они старательно поддерживали всю ночь. Дамы начали просыпаться и болтать между собой, как вдруг услыхали в передней голоса. В ту же минуту кто-то с шумом открыл дверь, и дамы спрятались под одеяла. К своему крайнему изумлению, они услыхали мужские и женские голоса, которые поздравляли друг друга с удачей - ярко пылающим очагом. Незнакомцы не обратили ни малейшего внимания на дамские шляпы, висевшие на всех гвоздях, которыми прикреплены были ветки освященного бука. Вновь прибывшие думали лишь о том, как бы им согреться. Но тут появился брат Жан-Мари, сделал им строгий выговор и объяснил, что все эти кровати заняты.
Наконец дамы смогли встать; когда я пришел в лазарет, там был уже подан отличный завтрак, состоящий из картофеля, жареных карпов, яиц и т. п.
Я позабыл сказать, что мы завтракали в комнате, смежной с огромной спальней, - брату Жан-Мари пришла блестящая мысль затопить здесь, чем он заслужил всеобщие похвалы.
Развернув свои салфетки, дамы нашли под ними стихотворения; по правде сказать, стихи были не так уж плохи; может быть, авторы позаимствовали их из какого-нибудь старинного Альманаха муз. Дамы приписали это внимание тем самым молодым людям, которые распевали под их окнами в четыре часа утра. Жан-Мари думает, что во время грозы молодые люди укрывались в самой пещере святого Бруно. "Наши собаки,- сказал он,- лаяли в ту сторону".
Дамы были совершенно счастливы: они испытали два сильных волнения - сначала страх, затем счастливое ощущение благополучия и веселый, вкусный завтрак. Никогда в жизни они не забудут этой ночи, проведенной в Большом Картезианском монастыре. В довершение один из мужей, влюбленный в свою жену или в ее лучшую подругу, возымел счастливую мысль отправить рано утром своего слугу в Фурвуари, и в одиннадцать часов этот человек вернулся оттуда, принеся кофе. Из вежливости по отношению к отцу-эконому нам не хотелось варить этот кофе в госпитале, и мы разложили костер под высокими деревьями, довольно далеко от монастыря. Брат Жан-Мари принес нам прекрасное молоко и служил нам с величайшим старанием. Этот успех приписывают мне, и я становлюсь важной персоной.
На прогулке одна из дам без всякого злого умысла приблизилась к дверям монастыря. Оттуда сразу же кто-то вышел и очень сухо попросил ее удалиться. Мы вновь пошли к часовне святого Бруно. Смотрели на Гран-Сом. Нужно было бы часа три, чтобы подняться на эту гору; на ее вершине стоит деревянный крест, который очень хорошо виден; его приходится постоянно ставить заново: настолько часто в него попадает молния. Можно себе представить, что стали бы говорить проповедники, если бы молния столь же регулярно попадала в древо свободы! Разве это не было бы знаком божественного осуждения? Гран-Сом виден из Гонселена и из Кра; говорят, что с его вершины виден Лион.
Так как у меня постоянно бродят дурные мысли и я человек безнравственный, я подумал, что наши дамы могут случайно встретить тех молодых людей, которые решились по такой жуткой погоде следовать за ними в Большой Картезианский монастырь. Поэтому я заявил, что непременно хочу отстоять обедню у картезианцев, что ничего нет более интересного и т. д. Последовало великолепное описание службы, свидетелем которой я был ночью. Я увлек с собой двух мужей; но был ли со мной тот, отсутствие которого было желательно?
Возвращаясь в монастырь, мы встретили господина не в монашеском платье. Это один состоятельный лионец, который поселился здесь в монастыре, выполняет с монахами все их благочестивые обязанности и молится вместе с ними.
Как жаль, что внутри монастырь не имеет стрельчатых арок и тех маленьких витых колонн, что не толще руки, которые я видел во многих внутренних монастырских дворах! Они производили бы восхитительное впечатление. Подлинно романтической архитектурой, то есть не грубо заимствованной откуда-нибудь, а вполне соответствующей данному месту и тому впечатлению, которое желательно произвести, является лишь большая галерея, или коридор с перекрестными сводами. Отец-эконом показал мне прекрасную библиотеку; по пыли, покрывающей полки, сразу видно, что к книгам никогда не прикасаются. Я простодушно сказал:
- Вам бы следовало, отец мой, иметь здесь книги по ботанике и земледелию: вы бы могли разводить все полезные растения, которые растут в Швеции, это развлекло бы и заинтересовало вас.
- Но, сударь,- ответил он,- мы не хотим ни интересоваться, ни развлекаться.
Во время обедни, в момент возношения святых даров, все монахи пали ниц, словно подкошенные пушечным снарядом, и благодаря дощатым перегородкам в четыре фута высоты исчезли для наших взоров. С нашего места в конце нефа мы видели только совершающего богослужение священника и прислуживающего во время обедни монаха. В годы Реставрации сюда приехала герцогиня Беррийская и в качестве принцессы была допущена в монастырь. Ее молитвенная скамейка и кресло были поставлены около двери. Придворные дамы обратили внимание на то, что ни один монах не обернулся, чтобы посмотреть на нее.
Мы перешли в большой и довольно низкий зал, где собраны портреты всех генералов ордена; среди них есть несколько очень интересных лиц, хотя художникам часто не хватало дарования; узнаешь одни и те же качества и духовные устремления у людей совершенно различных типов и темпераментов; одной из наших дам, обладающей одухотворенным разумом, понравилась бы эта галерея старцев: здесь есть подлинная, простая простота. Чтобы понять эту мысль методом от противного, надо вспомнить простоту парижских гравюр, изображающих святых жен, или немцев, подражающих Рафаэлю, - да отпустит им господь их прегрешения!
Нам подали счет по пяти франков с человека в день; на наше счастье, мы узнали, что монахи продают эликсир, и мои спутники купили по нескольку бутылок. Он очень дорог и неизменно оказывает свое действие. Мы долго бродили по великолепному еловому лесу, но наконец, к великому сожалению, нам пришлось сесть на мулов, которые уже два часа паслись, поджидая нас около аллеи высоких буков. Мы поехали по дороге на Фурвуари и Сен-Лоран-дю-Пон. Вскоре нам встретилась небольшая речка под названием Гьер; берега ее покрыты величественными деревьями; здесь дубы, ясени, буки, вязы восьмидесяти футов вышиной. Скалы, словно вычерчивающие края долины на фоне неба, прекрасны по формам. По берегам потока деревья растут густо, как в Тюильри. Погонщики мулов обратили наше внимание на два дерева, из которых одно, падая, прошло сквозь другое, причем оба отлично продолжают расти.
В другом месте они предложили нам остановиться и взглянуть назад, в сторону монастыря; мы увидели высокую пирамиду, которая словно преграждает путь. Великолепная сосна растет на ее вершине. Быть может, в мире нет долины прекраснее этой.
Недалеко от Фурвуари одна скала настолько выдается на дорогу, что между нею и пропастью, по дну которой струится Гьер, не больше трех футов. Одна из наших дам, та самая, которая прошлой ночью так испугалась воров, подверглась здесь немалой опасности. Чтобы быть подальше от пропасти, она заставила своего мула почти прижаться к скале. При этом зонтик, привязанный к седлу впереди нее, зацепился за скалу и, к счастью, сломался. Если бы он выдержал, мул, конечно, не свалился бы: он слишком умен для этого,- но упал бы на колени около самой пропасти, а дама, без всякого сомнения, была бы сброшена в Гьер. Однако мы убедили ее, что не было ни малейшей опасности.
Именно здесь находился прежде вход в пустынь, поэтому женщины не могли следовать дальше. Я забыл сказать, что утром мы были свидетелями прогулки, которую монахи называю spaciment и которая им разрешается раз в десять дней. Они прежде всего направляются к часовне святого Бруно, а затем идут дальше, в горы. У каждого из них большая белая палка. Прибежал брат Жан-Мари и попросил дам удалиться. Мы же, мужчины, остались. Я никогда не видел более веселых людей, болтающих с большим удовольствием. Молодые прыгали и резвились. Жан-Мари показал нам пятнадцать или двадцать монахов старше восьмидесяти лет.
Известно, что каждый картезианский монах живет один в маленьком уединенном домике; у каждого есть сад, который он может возделывать, но эти господа в Картезианском монастыре их не возделывают. Едят они отдельно, кроме дней spaciment и праздников, и только по этим дням им разрешается разговаривать между собой. Монахи одеты в длинные туники из белой шерсти, поверх нее надевают далматику, к которой прикреплен капюшон.
В их старинных уставах сохранились любопытные следы духа свободы и разумности, которые господствовали в церкви первых времен христианства, еще до того, как римским епископам удалось захватить в свои руки неограниченную власть. Все настоятели монастыря и сам генерал ежегодно слагали с себя свои обязанности, и их часто переизбирали. Когда же стала модной неограниченная власть, их стали переизбирать всегда.
До 1789 года картезианские монахи были феодальными властителями Сен-Лоран-дю-Пона и еще нескольких деревень; у них были огромные владения, которые они возделывали и управляли ими с большой мудростью. Их правилом было обогащать арендаторов своих земель, которые хорошо себя вели, но не пропускать ни малейшей обиды без небольшого наказания. Они раздавали бедным крестьянам одежду и иногда хлеб; деньги - никогда.
Эта система руководства, не знающая никаких исключений, привела к тому, что картезианские монахи стали абсолютными монархами в этих горах; мне кажется, их там любили, и за дело. Они даровали народу величайшее из благодеяний: справедливое и беспристрастное управление. Крестьянин не решался затевать безрассудную тяжбу со своим соседом, боясь вызвать неудовольствие отца-эконома.
Устав требовал, чтобы монахи питались рыбой, и потому они завели в долине Сен-Лоран-дю-Пона огромные пруды, которые во время революции были спущены и осушены, а земля продана. Ныне на них сеют хлеб или коноплю, продав которую, покупают хлеб; таким образом люди заменили рыб. Я забыл сказать, что перед моим отъездом из монастыря брат Жан-Мари принес мне книгу посетителей; краснея, он мне сказал, что теперь эту книгу не показывают тем, кто привозит с собой паштет: монахи принимают за личное оскорбление, когда люди позволяют себе есть скоромное в их горах. Это забавно и напоминает злобное отношение добродетельных женщин к тем, у которых нежное сердце допускает слабости. Эту книгу не показывают также молодым людям с романтическими бородками: они чертили в ней малопристойные рисунки и слова. Я нашел в этом фолианте очень крупные имена и весьма убогие мысли, подписанные этими именами.
Фурвуари - очень живописная фабрика, расположенная около Гьера между двумя почти отвесными скалами при входе в эту прекрасную долину; здесь выделывают великолепное неломкое железо. Вода потока, выбивающаяся из плотины, образует шумные водопады; там вырабатывают железо из чугуна, который привозят из Аллевара и из Рью-Перу; при этом употребляют горячий воздух. Я заказал на фабрике четыре оси из мягкого железа для своей коляски.
Немного дальше, в Сен-Лоран-дю-Поне, мне пришлось расстаться с приятным обществом, с которым счастливая звезда свела меня в Большом Картезианском монастыре. Эти гренобльские дамы очаровательны; мне понадобились бы многие страницы, чтобы описать хотя бы сколько-нибудь похоже их любезность. Она более пикантна и в то же время более естественна, чем в Париже; в ней много здравого смысла и лукавства, часто ставящих вас в затруднительное положение.
Известно, что история, лежащая в основе сюжета "Опасных связей"*, произошла в Гренобле. Г-н Шодерло де Лакло, артиллерийский офицер, состоявший в гарнизоне этого милого города, заимствовал интригу своего романа из события, которое произошло на его глазах. Самый старший из мужчин, бывших с нами, знал лично г-жу де Мартей; это г-жа де Монмар, которая в старости сняла в Сен-Венсане загородный дом, принадлежавший до этого господам Древон. Сесиль, которая в конце романа поступает в монастырь,- это мадмуазель де Блакон. Мне думается, что теперь в Гренобле, как и повсюду, общества больше не существует и молодые люди перестали интересоваться женщинами.
* ("Опасные связи" (1782) - сатирический роман Шо-дерло де Лакло (1741-1803). Г-жа де Мертей и Сесиль - героини этого романа.)
Милые жительницы Гренобля вернулись к себе домой через ущелье Ла Пласет и через Вореп; я же вернулся в Фурвуари и был свидетелем весьма любопытных опытов над сопротивляемостью железа различных стран. Сегодня утром я приехал в Эшель, красивый городок, который, как я полагаю, разбогател когда-то благодаря контрабанде. Приехав сюда, я услышал рассказы о замечательных способах издевательства над таможенными чиновниками. Здесь есть, например, постоялый двор, который стоит на краю деревни; к нему прилегает большой сад, спускающийся к Гьеру, русло которого служит границей. Двадцать мулов переходят речонку вброд; навьюченные на них тюки сваливаются у двери в кухню, причем со стороны улицы таможенникам не видно никакого движения. Быстро поднимают железный заслон, вделанный в заднюю стенку кухонной печи, и торопливо запихивают все тюки в нишу, которая находится за печкой; затем заслон снова опускают. После этого в печке разводят жаркий огонь, и когда через пять минут после прибытия мулов входят таможенные чиновники, они находят здесь компанию веселых крестьян, которые приглашают их выпить. Они ищут повсюду тюки, ничего не находят и в конце концов принимаются пить.
Когда Итальянская армия вернулась во Францию после мира при Кампо-Формио, один кабатчик, живший неподалеку от крытой галереи в Эшеле, нажил состояние остроумным ребусом, который привел в восхищение, солдат и прославился по всей округе:
он написал на дверях своей харчевни:
| P | Ga (allons souper, j'ai grand appetit)*. | |
| A |
* (Идем ужинать, у меня большой аппетит (франц.).)
© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'