

Книга вторая. Успехи живописи от Джотто до Леонардо да Винчи (1349-1466)
Глава XIII. Общие условия
Наполнив Италию своими учениками и, так сказать, завершив переворот в искусстве, Джотто умер в 1336 году. Родился он в Веспиньяно, близ Флоренции, шестьюдесятью годами раньше. Имя Джотто, как это принято было в то время, есть сокращение имени, данного ему при крещении: Амброджотто. Родовое имя его - Бондоне.
В искусстве, когда человек недоволен своей работой, он переходит от грубого к менее грубому, затем достигает отделки и точности, потом переходит к величественному и избранному и кончает легкостью. Таков был у греков путь исторического развития их мышления и их скульптуры.
Джотто только пробудил итальянских живописцев, не будучи, собственно, их учителем. В этом вполне убеждает собор в Орвьето, самое, может быть, замечательное творение начала XIV столетия. Сюда пригласили художников, Флоренции совершенно чуждых, видимо, понаслышке об их заслугах. Это подтверждается произведениями старинной живописи в Пизе, Сьеие, Венеции, Милане, Болонье и т. д. Тут другие замыслы, другой подбор красок, другие приемы композиции; не все, следовательно, идет из Флоренции*.
* (Если угодно знать, каковы были мысли людей в те времена, сообщим, что Флоренция только что отвоевала свою свободу (в 1343 г.) у герцога Афинского и у знати, которая, после того как помогла прогнать тирана, сама вознамерилась занять его место.
В 1347 году природа, по ошибке, наделила душой древнего римлянина одного итальянца, уроженца Рима. В более счастливые времена он был бы соперником Цицерона на трибуне и Цезаря в битвах; он говорил, писал, сражался с равной энергией. Кола ди Риенцо восстановил римскую свободу, положив в основу ее добродетель, и собирался превратить Италию в федеративную республику: это было самое выдающееся деяние из всех, какие вдохновлены были книгами древних писателей, а Риенцо был одной из самых крупных личностей средневековья, которой нечего противопоставить людям нового времени**. Его поддерживала дружба Петрарки. В наши дни один презренный англичанин*** назвал его бунтовщиком.)
** (См. его историю, написанную Томмазо Фьортифьоккой.)
*** (Робертсон.)
После смерти Джотто этот великий город был наводнен огромным количеством художников. Их имена сохранились только в списках братства св. Луки, которое они основали в 1349 году. Против этого показания истории решительно восстает Венеция, которая заявляет, что у нее подобное объединение существовало уже в 1290 году.
Тогда расписывали шкафы, столы, кровати, всякую мебель, и часто в той же мастерской, где все это изготовляли. Таким образом, художники мало чем отличались от ремесленников; на древних алтарях обнаружили лаже имена столяров, стоящие впереди имен живописцев.
К концу XIV столетия архитектура начала освобождаться от готического или германского стиля. Алтарные украшения становились менее грубыми. До сих пор тут помещали картины в форме длинного прямоугольника, разделенные на несколько створок небольшими деревянными резными колонками, изображавшими фасад готического здания. Такого рода картин, хорошо сохранившихся, много в музее Брера в Милане. У святых всегда невзрачные лица; но есть головы мадонн, которые сошли бы теперь за прекрасные миниатюры. В Париже картина Рафаэля (№ 1126) может дать понятие об украшении этого рода, носившем название апсопе*.
* (См. регламент, приведенный у Дзанетти, 1, 5.)
Мало-помалу уничтожили колонки, фигуры увеличили, и таким образом получила свое начало алтарная живопись. Это были сперва всего только украшения, вышедшие из мастерской столяра, на которых он оставлял кое-где место для красок художника. Отсюда старинный обычай писать преимущественно на дереве, а не на холсте; отсюда же досадное обыкновение помещать рядом несколько святых, которые вовсе не являются участниками одного и того же действия, которым нечего друг другу сказать и которые как будто не видят один другого.
Женщины у друзов и у наиболее цивилизованных племен Сирии вовсе не пользуются в качестве украшений жемчугом из соседней Аравии или бриллиантовыми кольцами; они просто собирают известное количество венецианских цехинов и просверливают золотые монеты, чтобы развесить их на цепочке; это заменяет им ожерелья и диадемы. Чем больше цехинов нанизано на цепочке, тем более женщина наряжена. У друзов женщина иногда отправляется в баню, увешанная двумя или тремя сотнями дукатов червонного золота. Дело в том, что у этих народов представление о прекрасном не обособилось еще от представления о богатстве. То же самое в наших маленьких городках. Провинциалы в опере больше всего приходят в восторг от смены декораций, богатства, могущества - всего, что связано с денежными интересами или тщеславием, всецело заполняющими их душу. Высшая похвала у них: "Это, должно быть, стоит больших денег"*.
* (События 1814 и 1815 гг. переродят, быть может, смешных буржуа и превратят их в уважаемых граждан.)
Таковы еще были и итальянцы XIV столетия; они любили писать красками по золотому фону, или, по крайней мере, им нужно было золото на одеждах и в нимбах у святых. Этот обожаемый металл изгнан был из употребления только в начале XVI столетия. Украшения из настоящего золота вместо красок можно еще видеть на прекрасном портрете Форнарины, подруги Рафаэля*, который написан был этим великим человеком в 1512 году, за восемь лет до смерти.
* (В Флорентийской галерее; бесподобно передан на гравюре Рафаэля Моргена.)
В картинах за красоту принимали богатство, а в поэмах - малопонятное и вычурное. Естественное казалось чересчур легким*. Мы от этого так далеки, что не знаю, поймут ли меня.
* (Самый мелкий лавочник имеет представление о богатстве. Но какие представления надо иметь, а главное, сколько чувства, чтобы получить представление о естественности и после этого - о красоте!)
Было бы несправедливо при оценке произведений разных художников Возрождения не принять во внимание, что они не знали еще искусства писать масляными красками. Этот удобный способ был занесен в Италию в 1420 году.
Водяные краски, которыми пользовались до тех пор, приводят знатоков в восторг еще и теперь. Какой художник не позавидует греческим или ранним итальянским мастерам при виде опорных столбов в церкви св. Николая в Тревизо! И сколь печальна судьба Каррачи, очаровательные картины которых, написанные каких-нибудь два столетия назад, уже утратили все детали!
Не сможет ли химия, восстанавливающая посредством соляной кислоты старинные письмена, восстановить и картины Каррачи? Решаюсь обратиться к ней с этой мольбой. Науки приучили нас в этом столетии всего ждать от них, и мне бы хотелось, чтобы эту главу прочитал г. Деви*.
* (Этот знаменитый химик произвел опыты над красками древних. 11 мая 1815 г. в отделении изящных искусств Института было доложено о способе, который представляется мне превосходным. Пишут оливковым маслом по грунту из воска; лакируют тем же воском и небольшой грелкой, проводя ею по всем частям картины; краска оказывается, таким образом, между двух слоев воска; это не требует от художника новых навыков.
Открытие это утешит великих художников. Горестный опыт внушил им слишком прочное убеждение, что по истечении трех столетий картины теряют колорит. В палаццо Питти один пейзаж Сальватора Розы позволяет судить, насколько все остальные изменились. Белый цвет переходит в желтый; голубые тона, за исключением ультрамаринового, который почти не подвержен порче, превращаются в зеленый; глазурь исчезает. Когда переносили на полотно "Мучение св. Петра", я видел, что слои грунта и слои красок отнюдь не слиты друг с другом, но наложены один на другой; таким образом, каждый слой подвергается усушке отдельно от других, и подобно тому как коробится паркет, если он сделан из непросушенного дерева, соразмерно своей толщине и особым свойствам краски, так и масло, усыхая, начинает твердеть, трескаться, лупиться и осыпаться.
Зато колорита и светотени - этих важнейших элементов живописи, не поддающихся срисовыванию и недоступных усилиям людей холодных,- почти нельзя уже отыскать в наших музеях. Великие мастера отшатнулись бы при виде своих шедевров.)
Форма букв, употреблявшаяся старинными мастерами, позволяет раскрывать маленькие хитрости продавцов, которым искусство подделывать картины знакомо лучше, чем их история: им неизвестно, что употреблять готические буквы стали лишь после 1200 года. XIV век наделял их все новыми и новыми, совершенно ненужными линиями. Их употребление простирается до 1450 года; затем снова возвращаются к латинскому шрифту.
Глава XIV. Современники Джотто
Буффальмакко, более известный своей славой шутника, которой он обязан Боккаччо*, нежели своими произведениями, писал картины во времена Джотто, нисколько не будучи выше своего века. У него можно найти, самое большее, несколько сносных мужских голов. Флорентийцы, которых он ежедневно развлекал какой-нибудь новой мистификацией, любили его талант и широко им пользовались. Жил он весело и умер в больнице. Подмастерьем его был некий Бруно ди Джованни; завидуя экспрессии, которую Буффальмакко вкладывал в свои произведения, Бруно заменял ее обычно надписями, которые выходили изо рта его фигур,- нехитрый прием, к которому прибегал уже Чимабуэ. Несколько картин Буффальмакко находятся в Пизе, на Кампо-Санто. Довольно выразительна у него голова Каина. Из всего множества живописцев-ремесленников, которые, видимо, наводняли Флоренцию, сохранились имена Нелло, Каландрино, Бартоло Джоджи и Джованни да Понте.
* (См. восьмой день Декамерона; Саккетти, Новеллы CLXI, CXCI и СХСН; Вазари, III, 80.)
Андреа Орканья у некоторых любителей удостоился первого места после Джотто. Действительно, в "Рае" и "Аде", больших фресках фамильной капеллы Строцци R Санта-Мария-Новелла, есть очаровательные головы, особенно в "Рае", налево от входа. Это, должно быть, портреты местных красавиц; ему часто заказывали картины на оба эти сюжета, столь трогательные в глазах верующих. Ад он подразделяет на круги (bolge), следуя Данте; и, подобно великому поэту, он не упускает случая предать осуждению своих врагов; на его фресках в Пизе можно найти портреты двух самых выдающихся людей того времени: Каструччо и Угуччоне делла Фаджола. Зодчество обязано ему одним из самых удачных нововведений. Это он заменил готические стрельчатые арки полукруглыми, и прелестный портик Ланци во Флоренции - его произведение. Пора уже было бросить стрельчатые арки, первый по времени образец которых, если не ошибаюсь, находится на канале озера Альбано*.
* (Сооружен в 356 г. от основания Рима.- См. Vulpii, Latium vetus. Этот труд достоин самых великих царей, а территория Рима простиралась тогда всего лишь на несколько миль.
Историю готической архитектуры - начиная с построек в Субиако и собора богоматери в Дижоне, выстроенного св. Людовиком, и кончая Сан-Лоренцо во Флоренции работы Брунеллески - см. в 7-м выпуске г-на Аженкура.)
Андреа был скульптором; это был человек, отличавшийся редкой теперь силой и оригинальностью воззрений. Но по колориту, изяществу форм и верности движений он уступает ученикам Джотто*.
* (Он работал обычно с одним из своих братьев, по имени Бернардо; учениками их были Бернардо Нелло и Траини, одна любопытная картина которого сохранилась в Пизе; св. Фома Аквинский очень на ней похож. Над ним изображен искупитель, от которого падают на него лучи, расходящиеся затем от Фомы в разных направлениях к бесчисленным учителям церкви, епископам и даже папам. Арриен и другие нововводители лежат, поверженные в прах, у ног святого. Рядом с ним Платон и Аристотель подносят ему раскрытую книгу со своей философией. Гравюра с этой картины послужила бы хорошим пояснением Мосгейму; тут отлично показано, как христианство из формы правления превращается в религию.)
После такого великолепного начала развитие искусства внезапно остановилось; и в течение восьмидесяти лет Джотто оставался величайшим из мастеров, пока не явились Брунеллеско, Донателло и Мазаччо, отметившие переход искусства от детства к юности.
Недостаточно того, чтобы были дарования; надо также, чтобы общественное мнение современников указало для творческих их усилий подлинно прекрасное. Из произведений Боккаччо и Петрарки известны лишь те, которые сами они ценили меньше всего. Если бы Петрарка не написал своих песен, он был бы, конечно, лишь безвестным педантом, подобно тому как многие из живописцев, которых я назову ниже,- всего-навсего лишь бездушные подражатели.
Глава XV. О художественном вкусе французов
Кто хочет сделать комплимент Чимабуэ или Джотто, может сравнить их с Ротру*. Немало появилось после Ротру Ипполитов**, Цинн***, Оросманов****, но не было больше ни одного Владислава. Мне приятно мысленно сталкивать разных Баязетов*****, Ахиллов и Вандомов, вызывавших такой восторг лет сорок тому назад******, с этим пылким поляком. Жалкий вид, который приняли бы эти важные господа после стычки с великим этим человеком, дает удовлетворение моему тщеславию. Чтобы найти достойного ему противника, надо призвать Готспора******* Шекспира.
* (Ротру (1609-1650) - французский драматург, один из создателей классического театра XVII века. Владислав - герой его трагедии "Венцеслав" (1647).)
** (Ипполит и Ахилл - герои трагедий Расина "Федра" и "Ифигения в Авлиде".)
*** (Цинна - герой трагедии Корнеля того же названия.)
**** (Оросман - герой трагедии Вольтера "Заира" (1732).)
***** (Баязет - герой трагедии Расина того же названия.
Стендаль утверждал, что борьба романтизма против классицизма является одним из проявлений борьбы либерализма против старого режима. Все примечание к этой странице носит характер резкой литературно-политической полемики.)
****** (Если хартия, которой мы обязаны просвещенному государю, и впредь будет для нас источником благоденствия, вкус у французов изменится: порочная привычка судить здраво из области политики перейдет в литературу. В этот достопамятный день побросают в огонь все, что написано под влиянием идей классицизма********, и присяжные изготовители полустиший закричат, что все погибло. Разве не обидно этим беднягам, что им платят теперь только в том случае, если они пишут о конституциях,- им, проведшим свою молодость за взвешиванием полустиший Расина или звучных окончаний периодов Боссюэ? Это-то и делает их врагами конституционной монархии, а через тридцать лет превратит преемников их по таланту в либералов.
В 1770 году больше восторгались стихами, нежели чертами характера. Развращенные умы ценили больше богатство содержания, чем работу, и преодоление трудностей в трудных, но доступных пониманию вещах - больше, чем преодоление трудностей в вещах еще более трудных и ставших непонятными вследствие несчастного времени. Дело Расина связано с инквизицией.)
******* (Готспор - персонаж исторической хроники Шекспира "Генрих IV".)
******** (Начиная с "Века Людовика XIV" Вольтера, с сочинений д, Аламбера, Фонтенеля и Кондильяка, за исключением того, что относится у него к идеологии, и т. д., и т. д.)
Микеланджело - это Корнель. Наши современные художники, порочащие Мазаччо или Джотто,- это Мармонтель*, непременный секретарь французской Академии, скромно предлагающий вниманию свои критические замечания о Ротру.
* (Мармонтель (1723-1799) - французский писатель, которого за его житейскую ловкость и неспособность к глубоким чувствам Стендаль называл "иезуитом" и "настоящим академиком". Чтобы приспособить "Венцеслава" Ротру к требованиям французского театра XVIII века, Мармонтель переделал последние сцены пьесы согласно правилам классической поэтики, превратив трагикомедию в трагедию.)

Мазаччо. Святой Петр крестит язычников. (Церковь Санта-Мария дель Кармине. Флоренция.)
Несчастье Флоренции XIV века заключалось отнюдь не в неумелости ее художников, но в дурном вкусе общества.
Французов восхищает Ахилл Расина речами, которых он не произносит. Ибо представление, сложившееся о сыне Пелея, в гораздо большей мере создано Лагарпом* или Жофруа**, нежели стихами великого поэта. Вот что такое ученые рассуждения о вкусе, они портят вкус и проникают в самую душу зрителя, чтобы исказить его впечатления***. Надеюсь, Рафаэль не станет для вас предметом такого святотатственного культа. Его недостатки не будут скрыты от вас, и именно потому вы прольете когда-нибудь сладкие слезы в палаццо Фарнезина.
* (Лагарп (1739-1803) - французский критик и драматург, типичный представитель классицизма.)
** (Жофруа (1743-1814) - критик классической ориентации, вел театральный отдел газеты "Journal des Debats".)
*** (Простой глаз, видящий предметы такими, как они есть, от которого ничто не ускользает и который ничего не прибавляет от себя,- о, как я тебя люблю. Ты сама мудрость! (Лафатер, I, 118).)
Первая ступень вкуса - преувеличение ради большей ощутимости приятных впечатлений природы. К этому средству часто прибегал самый увлекательный из французских прозаиков*. Позже замечают, что преувеличивать впечатления природы - значит убивать бесконечное ее разнообразие и ее контрасты, столь прекрасные тем, что они вечны, и еще более прекрасные тем, что они связаны с самыми основными волнениями сердца**.
* (Самый увлекательный из французских прозаиков - Жан-Жак Руссо, родоначальник "чувства природы" во французской литературе XVIII века.
Английская цитата из трагедии Шекспира "Антоний и Клеопатра". Стендаль слегка изменил цитату, так как у Шекспира речь идет о Клеопатре, а не о природе.)
** (
Age cannot wither it, nor custom stale Its infinite variety***.
)
*** (Возраст не может испортить ее, привычка не может сделать равнодушным к ее бесконечному разнообразию.)
Преувеличивая хотя бы минимально, делая из стиля нечто иное, нежели ясное зеркало, мы на минуту пленяемся тем, что создали, но затем может наступить неприятнейшее охлаждение.
Не хочет и глупец остаться в дураках.
* ("Гасильник", комедия.- Во французском репертуаре этой комедии не существует. Очевидно, цитата взята из собственной незаконченной комедии Стендаля "Летелье", которую он одно время предполагал назвать "Гасильник".)
Глуп читатель или нет, но если он подозревает автора в неискренности, то отвергает готовое суждение, которое желали бы ему навязать; а лень мешает ему составить взамен другое; и герой, как и панегирист, одинаково исчезают в забвении.
Кто не испытал этого чувства, выходя из французской Академии или читая газетные разглагольствования относительно нашего правительства?
Если недостаточная правдивость в речах мешает составить суждение, то в живописи ома мешает возникнуть впечатлению, и только в этом я вижу разницу между стилем Дитрих* а и стилем Дюпати**.
* (Дитрих (1712-1774) - немецкий живописец, картины которого Стендаль мог видеть в Вене и в Дрездене во время своего пребывания в этих городах.)
** (Дюпати - автор знаменитых в XVIII веке "Писем об Италии", которые, по мнению Стендаля, свидетельствуют о полном непонимании искусства и характера страны.)
Очень холодный писатель может вызвать трепет, живописец - если даже он только красильщик, но очень искусный - может вызвать самые нежные чувства: ему стоит только отказаться от выбора и воспроизводить, подобно зеркалу, прекрасные пейзажи Ломбардии.
Чтобы доставить наслаждение англичанам своего времени, Шекспир сохранил за предметами, взятыми из природы, подлинные их пропорции; вот почему его колоссальная статуя представляется нам с каждым днем все выше и выше, по мере того как падают монументики разных поэтов, думавших, что можно изображать природу, угождая минутному пристрастию, предписанному данным фазисом какого-нибудь пустого правительства*.
* (Шекспир имел превосходных зрителей благодаря непрестанно падавшим с плеч головам. Страна шла к конституции 1688 года.)
Можно говорить пикантные вещи, доказывая, что хлеб - это яд или что дух христианства способствует счастью народов*. Рембрандт тоже останавливает внимание зрителей, изменяя естественное распределение света. Но лишь только художник начнет вдаваться в преувеличения, как навсегда утрачивает возможность быть возвышенным; он отрекается от прямого подражания античности**.
* (Гиббон,*** том III; Мосгейм,**** труды по истории Италии, по истории культуры Неаполя и Испании в сравнении с культурой Франции при Людовике XIV.)
** (См. "Семеро против Фив" на греческом языке Эсхила; новейшие писатели заставляют Этеокла и Полиниха тянуть жребий из красивой урны.)
*** (Гиббон (1737-1794) - английский историк, автор знаменитого труда "История упадка и падения Римской империи" (1782-1788).)
**** (Мосгейм.- Стендаль имеет в виду книгу этого немецкого историка, с которой он мог познакомиться в английском переводе: "Древняя и новая история церкви" (английский перевод 1765-1768 годов). Этих двух авторов, книги которых исполнены критического отношения к церкви, Стендаль противопоставляет "Гению христианства" - трактату Шатобриана, прославляющему христианство с точки зрения исторической, нравственной и эстетической.)
Мы увидим, что Рафаэль, Аннибале Каррачи, Тициан производили впечатление тем более сильное, чем больше было проявлено ими уважения к пропорциям всего того, что они замечали в необъятной природе; тогда как Микеланджело да Караваджо и Бароччо - большие все же мастера,- преувеличивая один тени, другой яркость красок, сами себя бесповоротно исключили из числа первоклассных гениев.
Причина дурного вкуса французов - в их увлечении модой. А это проистекает из другого, более печального обстоятельства - полнейшей их бесхарактерности*. Надо различать храбрость и характер; наши генералы за границей вызывают восторг всей Европы, между тем как наши сенаторы стали там посмешищем.
* (Испания ясно показывает эту разницу. Что за храбрые бойцы, когда надо сражаться против французов!**. Что за бездарные политики, когда нужно защищать конституцию, то есть свои собственные головы!
В апреле 1815 года избиратели моего департамента послали в палату общин четырех честных людей,*** не лишенных стойкости, мало образованных, но - что тогда было редкостью - не носивших никакой партийной ливреи. В августе те же избиратели собрались снова; из них только четвертая часть - дворяне; накануне выборов они дают друг другу клятву избрать трех депутатов-плебеев; приступают к баллотировке, и подсчет голосов дает нам в качестве представителей четырех олухов, которые не в состоянии написать письма, но имеют честь происходить по прямой линии от разбойника, слывшего первым силачом в нашей деревне пятнадцать веков тому назад. Забавно слушать, как наши публицисты важно обсуждают максимум блага для народа, в то время как его лучшая часть не в состоянии избрать при свободном и тайном голосовании депутата, который, как всем отлично известно, соответствует самым заветным и самым кровным его интересам. Эх, господа! Побольше бы Ланкастерских школ****! (Заметка, переведенная из "Morning Chronicle"*****. Считают, что она сильно преувеличивает.))
** (См. прелестную картину генерала Лежена****** на выставке 1817 г. Вот подлинное подражание природе, как в "Дидоне"******* - подлинно идеальное. Только на эти картины и будут еще, должно быть, смотреть в 1867 г.)
*** (В апреле 1815 года избиратели... послали в палату общин четырех честных людей...- Во время Ста дней выборы в Палату происходили не в апреле, а в мае. Первые выборы во время Реставрации происходили действительно в августе. Стендаль имеет в виду нравственную и политическую неустойчивость французских избирателей, характерную для этого периода.)
**** (Ланкастерская школа - метод взаимного обучения, при котором лучшие ученики являются помощниками учителя и отчасти выполняют его функции. Обучение по ланкастерскому методу очень дешево, а потому эти школы получили некоторое распространение в эпоху Реставрации. Школа названа по имени английского педагога, ее основавшего.)
***** (Заметка, переведенная из "Morning Chronicle-"...- ссылка на английскую газету является лишь предосторожностью. Все это примечание написано самим Стендалем.)
****** (Картина... Лежена, наполеоновского генерала и живописца-любителя, изображала стычку между французским и испанским отрядами; она имела успех в Салоне 1817 года благодаря точности и правдивости деталей и обстановки.)
******** ("Дидона" - картина Герена, выставленная в Салоне 1817 года. Герен - художник-классик, старавшийся в своих картинах воспроизвести идеальную античную красоту с оттенком современной сентиментальности.)
Неужели у француза 1770 года зрение извращено было настолько, чтобы находить правдоподобными краски Буше? Нет, конечно, этого нельзя допустить. Но от избытка самолюбия люди не решаются быть самими собой. У нас человек, который под дулом пистолета даже и не поморщится, всей своей физиономией выражает самое смехотворное беспокойство, когда в салоне ему приходится первым высказаться о новой, только что им виденной пьесе. Все или отвратительно, или божественно, и когда одно из этих двух слов в применении к чему-нибудь надоест, берут другое. Взгляните на Рамо*, Бальзака**, Вуатюра.
* (Рамо (1683-1764) - французский композитор, оказавший своими операми и теоретическими сочинениями большое влияние на развитие французской музыки. Но его произведения вскоре утеряли свое художественное значение и после Глюка, Моцарта и Россини сохранили лишь исторический интерес.)
** (Гез де Бальзак (1594-1654) и Вуатюр (1598-1648) - французские писатели, пользовавшиеся большой славой у своих современников; но уже к концу столетия их произведения утратили свое художественное значение.)
Мы были набожны при Людовике XIV,- Вольтеру ничего не стоило стяжать себе славу насмешками над священниками. К счастью, его шутки превосходны и до сих пор еще вызывают смех.
После злодейств эпохи террора не надо было особых усилий мысли, чтобы догадаться, что общественное мнение должно качнуться в противоположную сторону, и "Дух христианства" нашел своих читателей.
В наши дни религия торжествует и закрывает двери храмов перед бедными актрисами, покидающими сцену мира сего*. Ее не принуждает больше к справедливости грозный взгляд властелина. Мы возвратимся к простоте, и напыщенность, лишенная мысли, потеряет кредит. Но это четвертое направление общественной мысли будет уже слабее, чем стремительная волна вольтерьянства. В свою очередь оно тоже будет отброшено противоположным толчком, и эти религиозные и антирелигиозные волны, сменяя друг друга каждые десять лет и непрерывно ослабевая, в конце концов будут сглажены безразличным отношением к наскучившему предмету.
* (Мадмуазель Рокур**.)
** (Мадмуазель Рокур - трагическая актриса, умершая 15 января 1815 года. Священник церкви св. Роха отказался выполнить религиозный обряд над ее телом и запер дверь церкви перед похоронной процессией; дверь была взломана возмущенной толпой.)
Во Франции не бывает искреннего восхищения. Усматривать недостатки в том, что вызывает восторг у публики, глупо: ведь пришлось бы рассуждать, чтобы доказать новый взгляд,- иначе говоря, доказать нечто, для всех безразличное, скучными доводами. И оказывается, что панегирический жанр, немного, в сущности, глупый, находит себе естественное основание в характере самой умной нации в Европе.
Человек со вкусом понимает и Клотена в "Цимбелине" и Ахилла в "Ифигении". Он видит в предметах не больше того, что в них есть; он не читает комментариев всех этих тупиц, желающих объяснить нам тайну великих людей*; вместо того, чтобы вырабатывать себе представление о совершенстве, по Вергилию, и глупо затем восторгаться вместе с риторами его совершенством, он сам вырабатывает сперва понятие прекрасного и призывает к нему на суд Вергилия с той же строгостью, что и Прадона** ***.
* (За исключением Рюльера****, все, что появилось за последние тридцать лет, может быть озаглавлено так: "Секрет, как писать прекрасные вещи, никому до сих пор не известный". Мы не видим природы, мы видим лишь ее копии в книжных фразах и не умеем даже выбирать книги. Кто читает во Франции двадцатипятитомное "Edinburgh Review" - труд, представляющий собой по отношению к Гримму***** то же, что Гримм представляет собою по отношению к Лагарпу?)
** (Прадон (1632-1698) - французский драматург и соперник Расина, в XVIII веке служивший примером поэтической бездарности.)
*** (Глупость в литературе - один из симптомов известного состояния культуры. Послушаем английского Вольнея, знаменитого Эльфинстона ("Путешествие в Кабульское царство"):
"У народов, пользующихся гражданской свободой, каждая личность стеснена законами, по крайней мере настолько, насколько это стеснение необходимо для поддержания прав всех.
При деспотизме люди неравномерно и недостаточно защищены от насилия и находятся под гнетом тирана и выполнителей его воли.
В независимом состоянии личность не стеснена, не защищена законом; но зато характер у человека может проявляться свободно и развивать всю свою энергию. Храбрость и талант проявляют себя на каждом шагу, ибо и то и другое необходимо для поддержания существования".
Г. Эльфинстон прибавляет: "Даровитый дикарь, совершающий преступления, лучше, чем раб, неспособный ни к какой добродетели".
Нет ничего справедливее,- по крайней мере, применительно к искусству.)
**** (Рюльер (1735-1791) - французский поэт и историк. Никакой "Поэтики" среди произведений Рюльера не имеется. Стендаль, очевидно, имеет в виду его поэму "Стихотворное рассуждение о спорах", в которой автор, констатируя разницу вкусов в зависимости от стран и эпох, говорит об относительности вкусов и о бессмысленности всяких споров по этим вопросам.)
***** (Гримм (1723-1807) - автор или, вернее, редактор "Литературных писем" (1753-1790), которые представляли собою нечто вроде рукописного журнала, осведомлявшего подписчиков о литературном движении в Париже.)
Глава XVI. Школа Джотто
С учениками Джотто произошло то же, что происходит с учениками Расина и что будет происходить с учениками всех великих художников. У них не хватает смелости видеть в природе вещи, которых не взял оттуда учитель. Они попросту придерживаются облюбованных им приемов и пытаются их заново воспроизводить, берутся за то дело, которое после великого человека стало уже,- до некоторого изменения в национальном характере,- невозможным. Они говорят, что чтят его, но если бы они возвысились до понимания того, что они делают, то увидели бы, что нет более дерзкого предприятия.
В продолжение всего XIV века живопись больше не развивалась. Картины Джотто по сравнению с картинами Каваллини, Гадди и других его даровитых учеников все же остаются произведениями мастера. И, когда хорошенько познакомишься с его стилем, уже нет смысла изучать их стиль. Он менее величествен и менее изящен; вот и все.
Стефано Фьорентино, произведения которого погибли, Томмазо ди Стефано и Тоссикани с успехом подражали ему. Его любимый ученик, пользовавшийся наибольшим его расположением, его Джулио Романо, это - Таддео Гадди, чьи фрески можно еще видеть в зале Испанского капитула во Флоренции. Он написал на своде несколько сцен из жизни Иисуса и "Сошествие святого духа", одно из лучших произведений XIV века. На одной из стен той же капеллы он поместил аллегорические фигуры, изображающие науки, и под каждой из них - портрет какого-нибудь ученого, который, по взглядам того времени, в ней прославился. Он превзошел, говорят, учителя в области колорита; время, протекшее с тех пор, лишает возможности судить об этом.
Однажды, в кругу писателей*, Андреа Орканья задал следующий вопрос: кто был самый великий живописец, если не считать Джотто? Кто-то назвал Чимабуэ, другие - Стефано, Бернардо, Буффальмакко. Таддео Гадди, находившийся там, сказал: "Конечно, было немало великих талантов; но это искусство падает с каждым днем". И он был прав. Как можно было предугадать, что народятся гении, которые освободятся от подражательности?
* (Саккетти, новелла CXXXVI.)
Среди учеников Гадди отмечают его сына Анджоло Гадди, дона Лоренцо и дона Сильвестро - оба камальдульские монахи,- Джованни да Милано, работавшего в Ломбардии, Старнину и Делло Фьорентино, которые перенесли новый итальянский стиль в Испанию, работая там при дворе, и, наконец, Спинелло д'Ареццо, который, по крайней мере, наделен был художественным воображением. У него на родине еще показывают его "Падение ангелов" с Люцифером, таким страшным, что Спинелло, увидев его во сне, сошел с ума и вскоре затем умер*.
* (Вот имена так называемых художников той эпохи, не совсем, может быть, безынтересные в Пизе и во Флоренции, где церкви наполнены жалкими их произведениями: Джов. Гадди, Антонио Вите, Якопо дель Казентино, Бернардо Дадди и Парри Спинелло, рисовавший свои фигуры очень удлиненными и немного изогнутыми, чтобы, как он говорил, придать им грацию: может быть, он чувствовал, что грация без некоторой слабости невозможна**; впрочем, он был хороший колорист; Лоренцо ди Биччи, работавший посредственно и быстро; Нери, его сын, один из последних в этой компании; Стефано да Верона, Ченнини, Антонио Венециано.
В Пизе мода была преимущественно на скульптуру; однако там были и живописцы: Вичино, Нелло, Джера, несколько Ванни, Андреа ди Липпо, Джов. ди Николо. Гражданские распри отдали город в руки флорентийцев в 1406 г.; вместе с национальной независимостью он лишился и дарований.
Можно бы назвать не одну сотню художников; все их имена, вместе с годами жизни, помещены в указателе, в конце данной работы. Для любителей, наделенных душой и умеющих разбираться в искусстве, поучительно будет сравнить эту посредственность XIV века с посредственностью XVIII. Надо выйти из какой-нибудь церкви с росписью той эпохи и перейти в церковь Дель-Кармине, заново расписанную после пожара 1771 года.)
** (Мне мила эта молодая женщина (при отступлении из России) не потому, что она слабее другой женщины, но потому, что она слабей мужчины. Это опрокидывает всю систему Берка***; свои Принципы он не извлек из своего сердца; он их вывел - остроумно, но без достаточной логики - из некоторых общих истин. Во всех женщинах флорентийской школы слишком много силы.)
*** (Система Берка.- Английский политический деятель и философ Эдмунд Берк в своей книге "О возвышенном и прекрасном" (1756) утверждает, что всякая красота вообще, в том числе красота деревьев и животных, должна производить впечатление слабости и даже хрупкости. С этим мнением Стендаль полемизирует.)
История живописи с 1336 по 1400 год не заслуживает того, чтобы вдаваться в ее подробности.
Один вельможа, Джованни-Лодовико Фьеско, заходит в мастерскую прославленного художника. "Напиши мне картину, на которой были бы св. Иоанн, св. Людовик и богоматерь". Художник раскрывает библию и жития, чтобы отыскать характерные для этих трех лиц признаки.
Тем более обращался он к помощи библии, когда надо было изобразить отречение св. Петра, уплату подати кесарю или страшный суд.
А теперь - кто читает библию?* Разве что какой- нибудь любитель, желающий отыскать там пятнадцать или двадцать эпизодов, постоянно служивших сюжетами для картин великих старых мастеров. Я встретил картины, совершенно непонятные. Это потому, что некоторые легенды, слишком нелепые, были брошены во время отступления католической армией. В таких случаях местные жители отсылают к старой книжонке, где можно разыскать соответствующее чудо**.
* (За пределами Англии.)
** (Например, болландисты не согласны насчет мучения св. Георгия, при Диоклетиане, изображенного на шедевре Паоло Веронезе, поражающем своей экспрессией. Бывший Музей, № 1091.
Излишняя любознательность может побудить в поисках подробностей о жизни Иисуса и Мадонны заглянуть в G. Albert Fabricius, Codex apocr. Novi Testamenti.)
Для первых художников Возрождения, людей отнюдь не лишенных таланта, было несчастьем это заимствование сюжетов из библии. Из-за этого так поздно появилось выражение высоких чувств или прекрасный идеал у новейших художников.
Библия, если рассматривать ее с человеческой точки зрения, есть собрание поэм, написанных довольно талантливо и, что особенно важно, совершенно свободных от современной мелочности и жеманства. Стиль ее всюду величествен; но она изобилует самыми мрачными деяниями, и видно, что ее авторы не имели никакого понятия о нравственной красоте человеческих поступков*.
* (См. в приложении буллу его святейшества папы от 29 июня 1816 г. (Ри. Ш).)
Вот случай отметить, что наши нынешние романисты более чем божественны. Три или четыре романа, выходящие в свет каждую неделю, вызывают у нас зевоту своей нравственной безупречностью; однако величественный стиль не дается их авторам. Между тем измените стиль библии - и все удивятся ее поэмам.
Путешественника поражает в Италии недостаток экспрессии в картинах,- вообще говоря, довольно хороших,- и грубость этой экспрессии. Неужели, спрашивал я себя, этот народ холоден? Разве он не жестикулирует? Его ли обвинять в недостатке экспрессии? Художники не могли быть правдивыми, не вызывая возмущения: их век, более гуманный, чем библия, предписал им, сам того не подозревая, останавливаться на малозначительном*. Если бы вместо того, чтобы требовать от них сюжетов из священной книги**, им было предложено изобразить просто историю какого-нибудь народа, например, столь далеких от совершенства римлян, то здесь они нашли бы фалернских детей***, Фабрицио****, отвергающего предложение Пиррова врача, триста Фабиев*****, идущих умирать за отечество, и т. д., и т. д.; а иногда даже и великодушные чувства.
* (Гверчино, писавший своих святых с грубых крестьян, ближе К библии, чем Рафаэль или Гвидо. Только светотень и колорит не были порабощены религией. См. "Мучение св. Петра в Антиохии" в бывшем Музее Наполеона, № 794. Я всюду ссылаюсь на каталог 1811 года.)
** (Один из самых забавных результатов могущества Наполеона - английское библейское общество******. В первый год своего существования, 1805-й, это общество имело 134 000 франков убытка; в десятый год, окончившийся 31 марта 1814 г., доход возрос до 2 093 184 франков.
Общее число экземпляров, разошедшихся в 1813 г., состояло из 167 320 экземпляров библии и 185 249 экземпляров Нового завета. Общее число экземпляров библии, пущенных в обращение с самого начала,- 1 027 000. Книгу эту перевели на множество языков; существуют люди для раздачи ее дикарям, когда те возвращаются с охоты, чтоб сделать их гуманнее. Повсеместно, говорят важные англичане в своих отчетах, средний уровень нравственности поднимается благодаря чтению библии; это чтение развивает умственные способности*******.
Это усердие англичан, мнящих себя добродетельными в истинном смысле слова (т. е. содействующими счастью человечества), если они удваивают или учетверяют число читателей библии,- прекрасно замаскированная гордость.
Стоит только прочитать любые пятьдесят страниц в женевском переводе 1805 года; важность этих господ нашла бы себе гораздо лучшее применение, если бы они взялись за распространение "Друга детей" Беркена********; прочтите по очереди пятьдесят страниц из обоих произведений.
Подобно своим министрам, частные люди в Англии благодаря свободе обладают денежной силой; но, подобно своим министрам, они могли бы быть поумней; не удивительно ли - после такой огромной затраты серьезности прийти к столь ничтожным результатам? Характер их свободы не оставляет им досуга для приобретения того злополучного ума, который так сильно им досаждает; он возбуждает и сталкивает интересы всех и каждого: жизнь - это борьба; и для радостей симпатии времени уже не остается.)
*** (Фалернские дети - Фалерни, город древней Италии. Когда римский полководец Камилл осадил город, местный школьный учитель вывел детей фалернских граждан к римлянам и предложил Камиллу взять их в качестве заложников. Но Камилл отослал детей обратно, велев им во время всего пути бить своего учителя. Этот эпизод послужил сюжетом для картины Пуссена.)
**** (Фабриций (III век до н. э.) - древнеримский политический деятель. Во время войны Рима с царем Пирром врач последнего предложил Фабрицию, командовавшему римским войском, отравить царя, но Фабриций отверг это предложение и сообщил о нем Пирру.)
***** (Фабии - римская патрицианская фамилия. Во время войны с веями Фабии приняли на себя защиту Рима от неприятеля, укрепились в числе 306 человек (с 400 клиентов) на берегах Кремеры и в течение двух лет выдерживали натиск веев, пока не были перебиты, попав в засаду.)
****** (Один из... результатов могущества Наполеона - английское библейское общество.- Стендаль считает создание английского библейского общества мерой борьбы против Наполеона и революционных идей. Согласно закону механики, силой противодействия Наполеону он измеряет силу его могущества.)
******* (Отчет библейского общества, 5 тт., Лондон, 1814. Записки Лейстера, стр. 366.)
******** (Беркен (1749-1791) - французский писатель, прославившийся своими произведениями для детей; свое прозвище он получил от названия одной своей книги "Друг детей".)
Какого таланта для выражения нравственной красоты можно ждать от бедняги-ремесленника, если он каждый день занимается изображением Авраама, отсылающего Агарь с сыном умирать от жажды в пустыню*, или св. Петра, поражающего Ананию, который ложным своим заявлением обманул апостолов при взыскании ими принудительного займа**, или первосвященника Иоада, умерщвляющего Гофолию во время перемирия?
* (Шедевр Гверчино в Брере. Нельзя забыть заплаканные глаза Агари, смотрящей на Авраама все еще с некоторой надеждой; забавно в этой картине Гверчино то, что Авраам, отправляя Агарь на жестокую смерть, не забывает дать ей свое благословение. Г-н де Ш. имеет поэтому все основания утверждать, что христианская религия отличается ангельской добротой. Посмотрите, как восстанавливаются в Испании, к чести либералов, старые башни на крутых скалах, превратившиеся в развалины во времена мавров. В августе 1815 г. на острове Кубе милостивый закон обрек на сожжение в очень жаркую погоду шесть еретиков, из которых четверо были европейцы.)
** (Бывший Музей Наполеона, № 58.)
Как много значило бы для развития таланта Рафаэля, если бы вместо "Мадонны с дарителем"* в окружении жалких святых, которые могли быть только холодными себялюбцами, эпоха потребовала от него лицо Александра** в тот момент, когда он принимает чашу из рук Филиппа, или лицо Регула***, всходящего на корабль****!
* (Бывший Музей Наполеона, № 1140.)
** (...Лицо Александра...- Александр Македонский получил письмо, извещавшее его о том, что его врач Филипп подкуплен Дарием и намерен его отравить. Александр, веря в дружбу Филиппа, выпил приготовленное им лекарство, одновременно вручив ему это письмо.)
*** (Регул (III век до н. э.) - римский полководец. Захваченный в плен карфагенянами, он был отпущен ими в Рим с тем, чтобы передать их предложение мира, но в случае отказа он должен был снова вернуться в плен. Отговорив своих сограждан от согласия с предложением неприятеля, Регул вернулся в Карфаген, где и был казнен (страшные пытки, которым будто бы он был подвергнут,- позднейшая легенда, в эпоху Стендаля считавшаяся исторически достоверной). )
**** (Регул не мог ожидать себе награды сторицею после смерти; вися на своем кресте в Карфагене, он не видел в небе ангелов, несущих ему венец. Бессмертие души - позднейшее изобретение. См. Цицерона, Сенеку, Плиния, только не в переводах, одобренных цензурой.)
Когда сюжеты, доставляемые христианством, не вызывают отвращения, они по меньшей мере плоски. В преображении, причащении св. Иеронима, в мучении св. Петра или св. Агнесы все представляется мне заурядным. Здесь совершенно отсутствует принесение в жертву собственной выгоды ради какого-нибудь великодушного чувства.
Я отлично знаю, что еще в 1755 году было сказано:
"Сюжеты христианской религии почти всегда дают повод для выражения высоких душевных движений и доставляют счастливые мгновения, когда человек возвышается над самим собой. Мифология, напротив, предлагает воображению лишь призраки и сюжеты, нисколько нас не волнующие.
Христианство показывает нам всегда человека, то есть существо, вызывающее ваше сочувствие, в каком-нибудь трогающем вас положении, а мифология - существа, совершенно нам непонятные, в спокойном положении.
Великих итальянских художников очень часто принуждала искать сюжетов на Олимпе только драгоценная возможность изображать наготу... Мифология располагает всего-навсего несколькими сладострастными сюжетами" (Гримм. Письма*, февраль 1755 года).
* (Цитата из "Писем" Гримма приведена Стендалем довольно неточно, хотя общий смысл сохранен.)
Слова о "либеральных взглядах первых Медичи" нужно понимать в ироническом смысле. Стендаль, очевидно, имеет в виду Робертсона, прославлявшего Медичи как покровителей искусства. Впрочем, эти прославления были характерны для всего XVIII века, с его теорией просвещенного абсолютизма и процветания искусств под властью "монархов-покровителей".
Глава XVII. Общественная мысль во Флоренции
Страстная любовь к свободе и ненависть к знати во Флоренции могли быть уравновешены только наслаждениями, а Европа до сих пор прославляет бескорыстное великолепие и либеральные взгляды первых Медичи (1400 год).
Так как науки в то время не требовали долгого изучения, то ученые были одновременно и умными людьми. Больше того, благодаря покровительству Лоренцо Великолепного получалось так, что не ученые пресмыкались перед царедворцами, а царедворцы ухаживали за учеными. И вот живописцы Флоренции берут верх над современными им живописцами Венеции.
Делло, Паоло, Мазаччо, оба Пезелли, оба Липпи, Беноццо, Сандро, оба Гирландайо жили в соседстве с умными людьми, составлявшими двор Медичи, встречали со стороны Медичи покровительство и отеческую любовь и за это своими талантами содействовали росту их влияния. Картины этих художников, изобиловавшие портретами, без конца предлагали, по обычаю, взорам толпы изображения членов дома Медичи, притом с королевскими атрибутами. Несомненно, например, что во всех картинах, изображающих поклонение волхвов, можно найти всех трех Медичи. Художники подготовляли флорентийцев к тому, чтобы рано или поздно покориться их власти.
Козимо, "отец отечества", Пьетро, его сын, Лоренцо, его внук, Лев, последний из Медичи, представляют собою, конечно, серию государей незаурядных. Так как слава этой знаменитой семьи была замарана в наши дни самыми пошлыми хвалителями, необходимо указать, что Медичи лишь разделяли увлечение всего общества.
Вспомним Николая V, который из самых низов поднялся до высшей церковной должности и за восемь лет пребывания у власти по меньшей мере сравнялся с Козимо Старшим*.
* (С 1447 по 1455 г.)
Вспомним владетельный дом д'Эсте, потомству которого предстоит занять высший в мире трон и который был достойным соперником Медичи. Ему не мешало бы вспомнить теперь, что высшая его слава - это Ариосто и Тассо!
Альфонсо, блестящий завоеватель Неаполитанского королевства, пощадил непокорный город Сульмоне из уважения к памяти Овидия. В своей главной квартире он собирал ученых не для того, чтобы просить их слушать эпиграммы*, но чтобы они обсуждали в его присутствии, а часто и при его участии основные вопросы литературы. Его сын был писателем, и эта семья, хоть и свергнутая с престола, все же приобщила к цивилизации Великую Грецию, ныне столь варварскую.
* (Не для того, чтобы просить их слушать эпиграммы - намек на литературные занятия Людовика XVIII, обладавшего большим авторским тщеславием.)
Храбрейший воин того столетия, положивший начало славе и могуществу дома Сфорца в Милане, оказывал ученым почти такое же покровительство, как и его внук Лодовико Моро, друг Леонардо.
Государи, правившие в Урбино и в Мантуе, вели образ жизни разбогатевших частных лиц, посреди всевозможных умственных и художественных наслаждений. Даже владетельные женщины не считали для себя унизительным бросать иногда на питомцев муз один из тех взглядов, которые творят чудеса.
Мода установилась. Ей спешили подчиниться самые грубые государи, и один итальянский город в ту эпоху насчитывал больше ученых, чем целые королевcтва по тy сторону Альп*.
* (См. "Жизнь Вольсея" Голта.)
Каким чудом люди мысли в Италии при всем покровительстве, которое им оказывалось, так сильно отстали от художников? Вместо того чтобы творить, они опустились до ремесла ученого, всей бессмысленности которого они не понимали*.
* (Например, Полициано. Ремесло это - последнее из всех, если основой ему не служит разум; а рассуждения XIV столетия так же, пожалуй, приятно читать, как рассуждения современных богословов (Пели); но не забудем, что в то время, как разум делал еще только первые нерешительные шаги, стихи Петрарки и Данте на крыльях воображения достигали высочайших вершин поэзии У Гомера ничто не сравнится с графом Уголино**.)
** (У Гомера ничто не сравнится с графом Уголино.- Стендаль имеет в виду один из самых известных эпизодов "Божественной комедии" Данте ("Ад", песнь 33), где рассказывается история графа Уголино.)
Во Флоренции уже более двух столетий - начиная с тех времен, когда Медичи были лишь мелкими торговцами,- страсть к искусству была всеобщей; горожане, разделенные на цехи соответственно своему ремеслу и кварталам, где они жили, среди неистовых своих распрей только и думали что об украшении церквей, в которых они собирались. Во Флоренции, как в современных государствах, огромное большинство имело дерзость противиться водворению власти, представлявшей интересы меньшинства. Таков неизбежный результат рокового благосостояния. Богатые флорентийцы качались на бурных волнах в течение трех столетий из-за того, что по недостатку ума не могли выработать хорошую конституцию, а по недостатку смирения не могли примириться с дурной*.
* (Через каждые двенадцать или пятнадцать лет народ с оружием в руках сбегался на городскую площадь и вручал balia** комиссарам, которых он избирал, то есть уполномочивал их выработать новую конституцию.)
** (Полномочия (итал.).)
Их войны стоили им огромных сумм и обогащали только их министров. Как все торговые республики, Флоренция отличалась скупостью своих граждан.
И, тем не менее, в 1288 году отец той самой Беатриче, которую обессмертил Данте, основывает великолепную больницу при Санта-Мария-Нуова*. Пять лет спустя суконщики покрывают черным и белым мрамором красивый баптистерий, столь прославившийся своими бронзовыми дверями. В 1294 году, в день святого креста, закладывают первый камень знаменитой церкви этого имени (Санта-Кроче). В сентябре того же года начинают постройку собора и собирают деньги, чтобы быстро довести ее до конца. Едва прошло четыре года, как по чертежам Арнольфо ди Лаппо, одного из восстановителей зодчества, уже строят Палаццо Веккьо. Но напрасно художник стремится придать зданию правильную форму. Ненависть к партии гибелинов не позволяет строить на той земле, где были принадлежавшие им дома, только что перед тем уничтоженные рассвирепевшим народом. Это площадь Великого герцога.
* (Санта-Мария-Нуова.- Речь идет, очевидно, о церкви "Санта-Мария-Новелла".)
Закончив постройку этих огромных зданий, флорентийцы желают покрыть их живописью. Этот вид роскоши, незнакомый их предкам, не был в такой степени распространен в других городах Италии. Отсюда слава подражателей Джотто.
В первые годы XV столетия мода переменилась. Теперь хорошим вкусом считалось украшать церкви скульптурой.
Так как отделку фасада своих церквей флорентийцы всегда оставляли напоследок - по причине человеческого непостоянства,- церкви Сан-Лоренцо, Кармине и Санта-Кроче, столь великолепные внутри, выглядят совсем как большие кирпичные сараи.
Глава XVIII. О скульптуре во Флоренции
По воле общества, требовавшего статуй, вскоре появились - притом почти одновременно - все эти Донателло, Брунеллески, Гиберти, Филарете, Росселлино, Полайоло, Вероккьо. Их произведения из мрамора, бронзы и серебра, всюду воздвигнутые во Флоренции, достигали иногда, как казалось очарованным взорам их сограждан, художественного совершенства и не уступали произведениям античности. Заметьте, что ни одна классическая статуя не была еще открыта. Эти знаменитые скульпторы, проникнутые страстной любовью к своему искусству, обучали молодежь рисунку при помощи правил, почерпнутых непосредственно из самой природы, так что их ученики оказывались в состоянии подражать ей почти с одинаковой легкостью, применяли ли они мрамор или краски.
Большинство из них к тому же были еще архитекторами и объединяли, таким образом, все три вида искусства, предназначенные радовать взор.
Как далеко могли бы уйти флорентийцы при таком пламенном рвении и при такой природной одаренности, если бы им известен был Аполлон и если бы они нашли указание у Аристотеля или у какого-нибудь другого почитаемого автора, что это единственный образец, достойный подражания? Чего недоставало какому-нибудь Бенвенуто Челлини? Одного слова, чтобы указать ему на совершенство, и общества, более развитого, способного это совершенство почувствовать.
Я отмечаю, что флорентийцы всегда были послушны голосу разума. Они хотели отлить из бронзы двери баптистерия. Общественное мнение называло Гиберти. Тем не менее флорентийцы объявили конкурс, Соперниками Гиберти были Донателло и Брунеллески. Опасные соперники! Судьи не могли ошибиться, но их избавили от труда выносить приговор. Брунеллески и Донателло, увидев набросок Гиберти, признали его победителем.
Глава XIX. Паоло Уччело и перспектива
При таком увлечении статуями и доступными осязанию формами живопись оказалась в некотором пренебрежении. Выведенная Джотто и его учениками из состояния детства, она еще ожидала перспективу и светотень.
Фигуры в живописи той эпохи расположены в другом плане, чем почва, на которой они стоят; при изображении зданий не принимается по-настоящему в расчет угол зрения наблюдателя. Только в одной из высоких областей искусства - в умении изображать тела в ракурсе - достигнут был известный успех. Стефано Фьорентино скорее увидел,чем преодолел, эти трудности. В то время как большинство живописцев старалось их избегать или разрешало их лишь приблизительно, Пьетро делла Франческа и Брунеллески догадались воспользоваться геометрией для усовершенствования искусства (1420). Вдохновленные чтением греческих книг, они нашли способ, изображая огромные здания, передавать их на полотне точно так, как они представляются глазу.
Брунеллески очень удачно подражал античному зодчеству. Его купол Санта-Мария-дель-Фьоре превосходит купол Сан-Пьетро, свою копию, по крайней мере массивностью. Достоинства этого человека доказывает нелюбовь к нему современников, считавших его сумасшедшим,- самая лестная похвала, на какую только способна чернь, ибо нелюбовь эта неоспоримо свидетельствует о его оригинальности. Когда флорентийские власти обсуждали вместе с группой архитекторов способ сооружения купола, они дошли до того, что приказали страже вывести Брунеллески из зала. Он был одарен всеми талантами, начиная с поэзии и кончая искусством часовщика; а такой человек, конечно же, сумасшедший в глазах градоправителей всего мира и даже Флоренции XV века. До него зодчество, еще не обладая изяществом, старалось поразить монументальностью.
Паоло Уччело под руководством математика Манетти тоже отдался изучению перспективы и ради нее забросил все другие элементы живописи. Только эта сторона ее (надо сознаться, одна из наименее соблазнительных) была ему дорога. Он, бывало, сидел один, скрестив на груди руки, перед геометрическими чертежами и говорил сам себе: "Перспектива - восхитительная вещь". В этом позволительно усомниться; но бесспорно то, что каждый новый опыт Паоло подвигал вперед обожаемое им искусство. Изображал ли он обширные здания и длинные колоннады на тесном пространстве небольшой картины, задавался ли целью показать человеческое лицо в ракурсах, неведомых ученикам Джотто,- каждое его произведение изумляло современников. Желающие могут увидеть в галерее дворца церкви Санта-Мария-Новелла две фрески Паоло, изображающие Адама на фойе отлично нарисованного пейзажа и плывущий по водам Ноев ковчег.
Колоссальная фигура одного из флорентийских военачальников в соборе, написанная зеленой землей, тоже принадлежит ему. Впервые, быть может, живопись дерзнула на многое и не показалась дерзкой. По-видимому, Паоло пользовался славой большого мастера по части изображения колоссальных фигур. Он был приглашен в Падую, чтобы нарисовать там гигантов. Но эти гиганты погибли, да и все почти сохранившиеся картины Паоло Уччело были вырезаны из предметов обстановки. Именем Uccello он обязан своей необыкновенной любви к птицам; он был окружен ими у себя дома и всюду рисовал их на своих картинах. Умер он только в 1472 году.
Одновременно другой живописец, Мазолино ди Паникале, предавался изучению светотени и, усвоив обыкновение лепить из глины части человеческого тела, учился придавать им рельеф и на картинах. Этот совет дал ему Гиберти, знаменитый скульптор, у которого не было тогда, по мнению современников, соперников в рисунке, в композиции и в искусстве придавать изображениям жизнь. Так как Гиберти недоставало, чтобы стать великим живописцем, только колорита, Мазолино обучился ему у Старинны, слывшего лучшим колористом своего века. Соединив таким образом вместе все, что было лучшего в двух разных школах, Мазолино выработал новую манеру подражания природе.
Стиль этот еще сух, и многое в нем еще заслуживает порицания; но уже есть величественность: художник начинает пренебрегать ничтожными деталями, в которых терялись его предшественники. Более нежные оттенки образуют переходы от одного тона к другому. Мазолино прославила капелла св. Петра в церкви Дель-Кармине (1415). Он изобразил в ней евангелистов и несколько событий из жизни св. Петра - "Призвание к апостольскому служению", "Бурю", "Отречение".
Через несколько лет после его смерти другие сцены из жизни святого, как, например, "Уплата подати Кесарю" и "Исцеление больных", -прибавил его ученик Мазо ди Сан Джованни, молодой человек, который, уйдя весь в мысли об искусстве и относясь с полным пренебрежением к интересам повседневной жизни, получил от жителей Флоренции прозвище Мазаччо.
Глава XX. Мазаччо
Это был человек гениальный, создавший эпоху в истории искусства. Он воспитался прежде всего на произведениях скульпторов Гиберти и Донателло. Бруннеллески познакомил его с перспективой. Мазаччо побывал в Риме и, несомненно, изучал там античность.
Мазаччо открыл живописи новый путь. Достаточно посмотреть на прекрасные фрески в церкви Дель-Кармине, счастливо уцелевшие во время пожара 1771 года. "Ракурсы их восхитительны. Позы фигур отличаются разнообразием и совершенством, которых не знал сам Паоло Уччело. Обнаженные части переданы наивно, но с большим мастерством. Наконец, величайшая из похвал - но Мазаччо вполне ее достоин,- у его голов есть что-то общее с рафаэлевскими. Подобно мастеру из Урбино, он наделяет особым выражением каждого из вводимых им персонажей. Одна фигура в "Крещении св. Петра" (человек, скинувший одежды и дрожащий от холода), которую так много хвалили, не имела себе равной до эпохи Рафаэля, другими словами, Леонардо да Винчи, Фрате и Андреа дель Сарто равного ей не создали*.
* (Гравюры с этих фресок сделал Карло Лазинио.)
Мы присутствовали при зарождении экспрессии.
Каждый человек, умен он или глуп, флегматичен или пылок, согласится, конечно, признать, что главное в человеке - мысль и сердце. Нужны кости, нужна кровь, чтобы человеческая машина пришла в движение. Но мы едва удостаиваем внимания эти необходимые для жизни условия, чтобы тотчас перенестись к ее высшей цели, к ее окончательному результату - способности мыслить и чувствовать.
Это и есть история рисунка, колорита, светотени и вообще всех отдельных элементов живописи в сравнении с экспрессией.
Экспрессия в искусстве - все.
Картина без экспрессии - лишь зрительный образ, способный доставить глазу минутное развлечение. Живописцы должны, конечно, владеть колоритом, рисунком, перспективой и т. д.; без этого нельзя быть живописцем. Но удовольствоваться одной из этих низших ступеней мастерства значило бы проявить жалкую ограниченность и принять средство за цель значило бы не выполнить своего предназначения. Что из того, что Санто ди Тито был большой мастер рисунка, столь прославившийся во Флоренции? Хогарт переживет его. Простые колористы, более приближаясь к осуществлению картины-образа, ценятся выше. При одинаковом бессилии экспрессии "Тайная Вечеря" Бонифацио стоит в десять раз больше, чем "Снятие со креста" Сальвиати*.
* (Бонифацио, принадлежавший к венецианской школе, умер в 1553 г., 62 лег: Сальвиати из Флоренции жил от 1510 до 1563 г.; Хогарт умер в 1761 г.)
Через экспрессию живопись соприкасается с самым высоким, что только есть в сердцах великих людей. "Наполеон, прикасающийся к зачумленным в Яффе"* **.
* (Мне могут заметить, что по поводу искусства я говорю о посторонних ему вещах; отвечу, что я точно воспроизвожу свои мысли и что я всегда жил в своем веке. Я говорю здесь лишь о картине и вовсе не утверждаю, что после он не приказал всех их отравить.)
** ("Зачумленные в Яффе" - картина Гро, имеющая сюжетом известный эпизод из египетского похода Наполеона. Примечание Стендаля к этим словам имело целью обезопасить автора от политических обвинений.)
Рисунок в ней вызывает восторг лишь у педантов.
Колорит привлекает к ней в качестве покупателей богатых купцов-англичан.
Впрочем, великих художников не следует опрометчиво обвинять в холодности. Я был в своей жизни свидетелем пяти - шести великих деяний и поражен был простотою героев.
Мазаччо изгнал из одежды все мелочные подробности. У него она имеет естественные складки, которых не слишком много. Его колорит правдив, очень разнообразен, нежен и поразительно гармоничен, другими словами, его фигуры восхитительно рельефны; этот великий художник не мог закончить капеллу в церкви Дель-Кармине; он умер в 1443 году, по-видимому, от яда. Ему было всего сорок два года. Это одна из величайших потерь, какие понесло искусство.
Церковь Дель-Кармине, в которой погребен Мазаччо, стала после его смерти школой величайших живописцев Тосканы. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Фрате, Андреа дель Сарто, Лука Синьорелли, Перуджино и сам Рафаэль с благоговением приходили туда учиться*.
* (Его гробницу украсили эпитафии:
Se alcun cercasse il marmo o il nome mio, La chiesa e il marmo, una capella e il nome. Morii, che natura ebbe invidia, come L'arte del mio pennel, uopo e desio**.
Отсюда вытекает:
Si monumentum quaeris, circumspice***, - эпитафия знаменитого архитектора Рена в соборе св. Павла в Лондоне и, может быть, очаровательное двустишие:
Ille hie est Raphael, timuit quo sospite vinci Rerum magna parens et moriente mori****.
)
** Если кто-либо пожелает увидеть мой памятник или узнать мое имя, то памятник мой - храм, а имя - капелла; я умер, потому что природа мне завидовала, и вместе со мной умерло искусство моей кисти, потребность и желание (итал.).
*** Если ищешь памятник, посмотри вокруг (лат.).
**** Здесь покоится Рафаэль; при его жизни великая матерь сущего боялась быть побежденной, а с его смертью боялась умереть (лат.).
Глава XXI. Мазаччо (продолжение)
Глаз, привыкший к шедеврам следующего столетии, может быть, с некоторым трудом разберется в Мазаччо. Я слишком люблю его, чтобы судить об этом. Впрочем, я полагаю, что из художников это первый, чьи достоинства уже не исторические, но действительные.
Так как Мазаччо умер молодым, неустанно стремясь к совершенству, его картины - очень большая редкость. Я видел в палаццо Питти великолепный портрет юноши, принадлежащий ему. Мазаччо приписывают в Риме евангелистов, изображенных на своде капеллы св. Екатерины; но это юношеское его произведение, так же как и картина, изображающая св. Анну, находящаяся во Флоренции, в церкви Сант-Амброзио. Время погубило остальные его фрески.
Так как античность ничего не оставила в области светотени, колорита, перспективы и экспрессии, Мазаччо скорее творец живописи, чем ее обновитель.
Глава XXII. Определение понятий
Один знаменитый полководец*, желая получше рассмотреть в картинной галерее небольшую картину Корреджо, висевшую очень высоко, подошел, чтобы снять ее со стены. "Разрешите, государь,- вскричал владелец галереи,- г-ну N*** снять ее; он выше вас". "Скажите лучше - длиннее".
* (Один знаменитый полководец - Наполеон Бонапарт.)
Должно быть, чтобы избежать подобного недоразумения, в искусстве словом величественный заменяют слово великий. Только отбрасыванием по определенной системе деталей, а вовсе не заполнением огромного полотна достигается эта величественность. Взгляните на "Видение Иезекиила" и на "Тайную Вечерю" в Сан-Джорджо.
Всем известна "Мадонна alia seggiola"*. Существуют две гравюры ее, одна Моргена, другая Денуайе, и между ними есть некоторая разница. В этом и состоит различие стилей этих двух художников. Каждый старался передать оригинал по-своему.
* (Рафаэля, Бывший Музей Наполеона; "Видение", № 1125.)
Представим себе один и тот же сюжет в разработке нескольких живописцев, например "Поклонение волхвов".
Мощь и ужас будут характеризовать картину Микеланджело. Волхвы будут людьми, достойными своего царского сана, и будет ясно, что они понимают, перед кем повергаются ниц. Если бы колорит отличался приятностью и гармонией, впечатление было бы слабее, иначе говоря, присущая сюжету гармония отличается суровостью. Гайдн, изображая первого человека, изгнанного с неба, применяет иные звуки, чем милый Боккерини, зачаровывающий ночь своими нежными мелодиями.
У Рафаэля менее подчеркнуто будет величие царей; взор всецело будет прикован к небесной чистоте Марии и взглядам ее сына. Вся сцена утратит оттенок древнееврейской жестокости. Зритель смутно почувствует, что бог - любящий отец.
В исполнении Леонардо да Винчи благородство трактовки будет еще ощутительнее, чем даже у Рафаэля. Мощь и страстная чувствительность не станут нас отвлекать. Люди, которым величие недоступно, придут в восторг от благородной осанки волхвов. Картина, выдержанная в темных полутонах, будет дышать меланхолией.
Картина Корреджо на ту же тему будет праздником и очарованием для глаз. Но зато ее божественность, величие, благородство трактовки не сразу овладеют душой. Нельзя будет оторвать от нее взора, душа погрузится в блаженство, и только так она почувствует присутствие на картине спасителя.
Что касается материальной стороны стилей, то мы обнаружим у каждого из десяти или двенадцати великих художников различные приемы.
Подбор красок, способ накладывать их кистью, распределение теней, те или иные мелочи и т. п. усиливают воздействие рисунка на нашу душу. Все знают, что женщина надевает одну шляпу, когда ждет любовника, другую - когда ждет духовника.
Каждый великий художник искал приемов, помогающих оставить в душе то особое впечатление, которое ему казалось главной задачей живописи.
Было бы смешно спрашивать у знатоков искусства о его нравственной цели. Зато никто лучше их не отличит резкость тонов у Бассано от мягких переходов их у Корреджо. Они заучили, что для Бассано типична яркость зеленых тонов, что он не умеет рисовать ноги, что он всю жизнь повторял десяток избитых сюжетов; что Корреджо ищет изящных ракурсов, что его лица не имеют в себе ничего строгого, что их глаза выражают небесную сладость, что картины у него словно покрыты стеклом в шесть дюймов.
Около десятка подробностей о каждом художнике и вдобавок сведения относительно облюбованной им группы молодых женщин, стариков и детей - вот весь багаж знатока. Он считает, что все уже сделано, когда, проходя мимо картины, с комической небрежностью бросает: "Это писал Паоло". Или: "Это кисть Бароччо".
Вся трудность при этом состоит лишь в том, чтобы иметь вдохновенный вид. Это такая же наука, как любая другая, и обучиться ей может всякий. Чтобы преуспеть в ней, не требуется ни души, ни таланта.
Почувствовать особый оттенок души художника в его манере передавать светотень, в его рисунке, в его колорите - вот чему некоторые могут научиться, прочтя этот исторический очерк. Потом им уже достаточно будет двух уроков, чтобы научиться отличать Паоло Веронезе от Тинторетто или Сальвиати от Чиголи. Делается это очень просто, но если об этом писать, то получается необыкновенно длинно, подобно тому как относительно произношения в иностранном языке болтаешь глупости и теряешься в подробностях.
Рисунок или очертания мускулов, теней, одежд, освещение, воспроизведение колорита частей - все это имеет свой особый оттенок в стиле каждого художника, если у него есть стиль. У настоящего художника зеленый тон дерева будет один, когда оно осеняет Леду, которая купается и играет с лебедем*, и совсем другой, когда разбойники пользуются сумраком леса, чтоб зарезать путешественника**.
* (Корреджо, № 900. Картина, которая благочестия ради была изъята из музея, пока не получила одобрения лорда Велингтона.)
** ("Мучение св. Петра" Тициана, № 1206.)
Красная одежда прямо на переднем плане картины требует одного оттенка. Если она отодвинута в глубину картины футов на двенадцать, оттенок ее должен быть уже другой, так как ее яркость ослаблена цветом воздуха, отделяющего ее от зрителя. При взгляде на небо видишь, что воздух голубого цвета. Присутствие воды меняет его цвет на, серый. Впрочем, это могло быть так в Италии три века тому назад; а во Франции воздух, кажется, имеет другие свойства.
Желтый и зеленый - цвета веселые; синий - грустный; красный выдвигает предметы вперед; желтый притягивает и удерживает солнечные лучи; голубой темнит и хорош в сумеречном пейзаже.
Нимбы святых у великих художников всегда, в том числе и у Корреджо, желтые*.
* (Вспомните поразительное впечатление от дрезденского "Святого Георгия".)

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря. (Фрагмент. Монастырь Санта-Мария делле Грация. Милан.)
Если в Парижском музее стать между "Преображением" и "Причащением св. Иеронима", то в картине Доменикино можно заметить нечто, на чем отдыхает глаз: это светотень.
Рисунок надо изучать у Рафаэля и у Рембрандта, колорит - у Тициана и французских художников, светотень - у Корреджо и еще у современных живописцев; но еще лучше - если умеешь мыслить самостоятельно - наблюдать все это в натуре; рисунок и колорит - в школе плавания, светотень - в многолюдном собрании при строгом верхнем освещении через купол.
Если у вас чувствительный глаз, или, выражаясь точнее, восприимчивая душа, вы у каждого художника уловите основной тон, с которым он согласует всю свою картину: некоторое искажение, дополняющее собой природу. У художника на палитре нет солнца. Если для передачи простой светотени ему надо усилить тень, то для передачи красок, которым он не может придать блеск за отсутствием достаточно яркого освещения, он прибегает к помощи основного тона. Этот тонкий покров - из золота у Паоло Веронезе; у Гвидо он похож на серебро; у Пезарезе он пепельного цвета. На заседаниях Академии, которые происходят под куполом, обратите внимание на перемену основного тона из грустного в веселый, из праздничного в сумрачный, при каждом прохождении облачка перед солнцем.
Глава XXIII. О живописи после Мазаччо
После смерти Мазаччо выдвинулись два монаха (1445). Один был доминиканец, по имени Анджелико. Он начал с миниатюр для рукописей; я не замечаю, чтобы он подражал великому человеку. В его станковых работах, во Флоренции довольно многочисленных, есть остатки старого стиля Джотто - либо в положении фигур, либо в одежде, складки которой, прямые и узкие, напоминают ряд маленьких трубочек. Как все миниатюристы, он прилагал величайшие усилия к тому, чтобы передать с возможной точностью вещи, которые вовсе того не стоят, и это делает его холодным, "этот монах создал себе имя благодаря редкой красоте, которую он умел придать своим ангелам и святым. Стоит посмотреть в флорентийской галерее его "Рождество Иоанна Предтечи", а в церкви св. Марии Магдалины - "Рай". Анджелико был Гвидо Рени своего века. Ему даже свойственна была нежность красок этого великого художника, которые он прекрасно умел соединять, хотя и писал клеевыми красками; за это он и был приглашен работать в собор Орвьето и в Ватикане.
Что касается Гоццоли, ученика Анджелико, то он благоразумно подражал Мазаччо. Можно даже сказать, что он превзошел его в некоторых частностях, как, например, в величественности зданий, изображаемых им на картинах, в мягкости пейзажей и особенно в оригинальности вымысла, поистине веселого и живописного. Путешественнику стоит посмотреть в Каза Риккарди, старом дворце Медичи, отлично сохранившуюся капеллу, расписанную Гоццоли. Он дал тут редкое в фресках обилие золота и непосредственное, живое подражание природе, делающее его теперь столь ценным. Это одежды, конская сбруя, мебель, даже манера держаться или глядеть у фигур той эпохи. Передано все это с поразительной правдивостью.
Самые знаменитые произведения Гоццоли находятся на Кампо Санто в Пизе, одну из стен которого он расписал,- колоссальный труд, за который пизанцы вознаградили его тем, что воздвигли ему гробницу рядом с его шедеврами (1478). Из всех его сюжетов особенно привлекли меня "Опьянение Ноя" и "Вавилонская башня". Я сказал бы, что автора этих вещей можно поставить непосредственно после Мазаччо,- настолько разнообразие лиц и поз, красота яркого гармоничного колорита, изобилующего восхитительным ультрамарином, передают натуру. Есть даже экспрессия, особенно в том, что он писал сам, ибо он прибегал к помощи какого-то черствого живописца, которому я приписываю фигуры детей, вполне достойные XIV столетия*.
* (Это Кампо Санто представляет собою огромный склад для исследователей живописи, как в Болонье - аббатство Сан-Микеле-ин-Боско. Оно удостоилось бы от нас еще более красивых фраз, если бы, к несчастью, не было реставрировано в XVIII веке, довольно, впрочем, удачно. Тут можно найти Джотто, Мемми, Стефано Фьорентино, Буффальмахко, Антонио Венециано, Орканыо, Спинелло, Лауренти.)
Глава XXIV. Фра Филиппо
Второй монах, очень непохожий на спокойного Анджелико, это кармелит Филиппо Липпи, столь известный своими приключениями. Он был бедный сирота, принятый из милости в один из флорентийских монастырей. Каждое утро он уходил на весь день, от зари до захода солнца, в капеллу Мазаччо. Из него получился наконец новый Мазаччо, особенно в картинах небольшого размера. Во Флоренции говорили, что душа великого художника переселилась в этого молодого монаха.
В семнадцать лет, когда зарождаются страсти, он ощутил в себе талант живописца, способный выразить все то, что ему хотелось. Благодаря этому сила его страстей могла быть направлена не на учение, а на творчество: он сбросил рясу. Однажды, когда он плыл в лодке с несколькими друзьями, у берегов Адриатики, возле Анконы, он был похищен корсарами. Уже полтора года томился он в оковах, когда вдруг ему удалось нарисовать портрет своего хозяина куском угля на недавно выбеленной стене. Портрет этот показался чудом, и алжирец, придя в восторг, отослал Филиппо обратно в Неаполь. Можно подумать, что пришел конец его приключениям; нет, это только их начало.
Он страстно влюблялся во всех красивых женщин, с которыми сталкивал его случай. Вдали от любимого существа жизнь теряла для него всякую цену; он пускался очертя голову в приключения; и можно себе представить, при жестоких нравах XV столетия, что это были за любовные авантюры, в которые вовлекала его эта склонность! Подробное описание их было бы слишком длинно. Но я не могу пропустить того, что имеет отношение к живописи.
Натуры страстные не имеют успеха. Фра Филиппо чаще всего подвергался обычным искушениям привлекательного мужчины. Иногда ему не удавалось даже проникнуть к тем знаменитым женщинам, которых он осмеливался любить. В таких случаях он утешался тем, что писал их портреты. Он проводил дни и ночи перед своим произведением и, беседуя с портретом, искал облегчения своим страданиям.
Когда он бывал влюблен, жестокая тоска лишала его даже возможности работать. (Козимо Медичи, поручивший ему расписать одну из зал своего дворца, видя, что он поминутно выходит, чтобы пройтись по какой-то улице, решил запереть его; Филиппо выпрыгнул из окна.
Однажды, работая у монахинь Прато над картиной в главном алтаре церкви, он увидел сквозь решетку Лукрецию Бути, прекрасную питомицу монастыря. Он удвоил старания и, сославшись на то, что ему необходимы эскизы для лица мадонны, сумел так ловко провести бедных сестер, что они ему разрешили написать портрет Лукреции. Но любопытство сестер или исполнение обязанностей всегда удерживали одну из них подле художника. Это тягостное затруднение еще более воспламеняло Филиппо. Напрасно изобретал он каждый день какой-нибудь предлог, чтобы подправить свою работу; он не мог объясниться с Лукрецией; его взоры наконец сделали это за него; он был недурен собой и считался великим человеком; страсть его была неподдельна. Лукреция ответила на его чувство, и он похитил ее. Будучи монахом, он не мог жениться на ней. Отец Лукреции, богатый купец, решил этим воспользоваться, чтобы вернуть себе дочь. Она объявила, что желает провести жизнь с художником. В этот век, влюбленный в искусство, ради таланта Филиппо ему были прощены его похождения, ибо верность не свойственна пламенной душе.
По возвращении из Неаполя и Падуи он заканчивал свои грандиозные работы в соборе Сполето (1469), когда родственники одной знатной дамы, которую он любил и которая платила ему нежной взаимностью, отравили его. Ему было пятьдесят семь лет. Умирая, он поручил любимому своему ученику, Фра Диаманте, своего сына Филиппино, которого ему родила Лукреция и который уже в десять лет начал писать красками, учась у отца.
Лоренцо Великолепный просил жителей Сполето прислать во Флоренцию останки художника, но они ответили ему, что у Флоренции и без того уже много великих людей, украшающих собой ее церкви, и что они хотят оставить Фра Филиппо себе. Лоренцо велел воздвигнуть ему великолепную гробницу, эпитафию для которой написал Анджело Полициано.
Когда Фра Филиппо бывал счастлив, это был остроумнейший человек своего века. А что он был одним из величайших художников, доказывает усердие, с которым любители раскапывают во флорентийских церквах его мадонн, окруженных сонмом ангелов; они находят в них редкое изящество форм, грацию в каждом движении, полные, смеющиеся лица, красоту которых еще усиливает колорит, целиком принадлежащий ему. Что касается одежд, то он предпочитал узенькие складочки вроде наших сорочек; ему свойственны яркие тона, не очень, впрочем, резкие и как бы подернутые лиловым тоном, который не встречается больше ни у кого; его дарование еще сильнее проявлялось в возвышенном.
Работая в соборе Прато, он дерзнул подражать старой манере Чимабуэ, вводя в свои фрески фигуры, размеры которых превышают натуральные. Его колоссальные изображения св. Стефана и св. Иоанна - шедевры для той эпохи, столь еще мелочной и холодной. В наши дни, наслаждаясь достигнутыми в искусстве успехами, наш пренебрежительный взор почти не отличает Чимабуэ от Фра Филиппо. Мы легко забываем, что этих великих мастеров разделяет полтора века исканий и совершенствования.
Приблизительно в это самое время знаменитый ваятель Вероккьо писал в Сан-Сальви "Крещение Иисуса", а один из его учеников, едва вышедший из детского возраста, изобразил на картине ангела, который красотою далеко превзошел все фигуры учителя. Вероккьо, возмущенный, дал клятву не браться больше за кисть; но ведь ученик этот был Леонардо да Винчи*.
* (В столь близком соседстве великих людей у кого хватит духу останавливаться на посредственности и притом еще такой, которая далеко превзойдена посредственностью наших дней? Пезелло и Пезеллино довольно удачно подражали Фра Филиппо, Я люблю первого за то, что он сохранил нам черты Аччайоли, этого образца всех министров. Берто отправился писать в Венгрию; Бальдовинетти, кропотливый художник, был учителем Гирландайо. См. картину Вероккьо в галерее Манфрино в Венеции.)
Глава XXV. Масло приходит на смену клеевым краскам
Андреа дель Кастаньо, имя, презренное в истории, тоже был одним из хороших подражателей Мазаччо (1456). Он умел придавать своим фигурам правдоподобные позы, рельефность и некоторое благородство одежды; но наивная грация и яркость красок его учителя остались неизмеримо выше его возможностей.
Около 1410 года Ян Ван-Эйк, более известный под именем Яна из Брюгге*, изобрел способ писать масляными красками, и в те годы, когда жил Кастаньо, в Италию проник не только слух об этом открытии, но уже и некоторые опыты письма масляными красками. Художников приводил в восторг тот блеск, который придавал краскам этот неведомый раньше способ, легкость, с которой они соединялись между собой, возможность передавать тончайшие оттенки, сладостная гармония, которую можно было теперь осуществлять в картинах. Некий Антонелло да Мессина, учившийся в Риме, взял на себя труд съездить во Фландрию, чтобы привезти оттуда этот великий секрет. Он добыл его, как говорят, от самого изобретателя. Вернувшись в Венецию, он сообщил его одному художнику, своему другу по имени Доменико.
* (Ян Ван-Эйк родился в 1366, умер в 1441 г. В бывшем Музее Наполеона находилось несколько блестящих его картин, написанных очень яркими красками, №№ 299-304.)
В 1454 году этот Доменико благодаря секрету, которым он владел, пользовался большим успехом в Венеции. Он много работал в Папской области, а затем во Флоренции, куда приехал себе на горе; вместе со всеобщим восторгом он возбудил к себе ненависть Кастаньо, блиставшего там до него. Андреа проявил величайшую ласковость, чтобы войти в дружбу с Доменико, выведал у него секрет, а затем умертвил его с помощью наемных убийц. Несчастный Доменико, умирая, просил отнести себя к своему другу Кастаньо, на которого не пало никаких подозрений, и чье преступление доныне осталось бы нераскрытым, если бы он сам на смертном одре не признался в нем*. Безупречная правильность его рисунка, глубокое знание перспективы, подвижность, которую он придает своим персонажам, обеспечили ему место наряду с отличными мастерами той эпохи. Искусство ракурсов обязано ему некоторыми успехами.
* (Он не знал, вероятно, что Антонелло открыл свой секрет также и Пино да Мессина и что один ученик Ван-Эйка, Рожер из Брюгге, приехал работать в Венецию.)
Глава XXVI. Изобретение живописи масляными красками
Теофиль, монах XI века, написал книгу, озаглавленную "De omni scientia artis pingendi". В главах XVIII и XXII* он описывает, как надо приготовлять льняное масло, растворять в нем краски и просушивать картины на солнце. Немцы подняли невероятный шум вокруг этой старой книги и утверждали, что уже в XI веке писали маслом.
* ("Accipe semen lini et exsicca illud in sartagine super ignem sine aqua" и т. д. Прокалив, его надо истолочь в порошок; его растворяют в воде, затем снова ставят на огонь в печку. Когда смесь сильно нагреется, ее заворачивают в тряпку и с помощью пресса выжимают льняное масло.
"Cum hoc oleo tere minium sive cenobrium super lapidem sine aqua, et cum pincello linies super ostia vel tabulas quas rubricare volueris, et ad solem siccabis: deinde iterum linies et siccabis.
В главе XXII: "Accipe colores quos imponere volueris terens eos diligenter oleo lini sine aqua; et fac mixturas vultuum ac vesti-mentorum sicut superius aqua feceras, et bestias, sive aves, aut folia variabis suis coloribus prout libuerit)**.
** ("Возьми льняное семя и высуши его в сосуде над огнем без воды... Вместе с этим маслом разотри киноварь на камне без воды и пиши на досках, которые хочешь расписать, и высуши на солнце; затем вновь напиши и высуши... Возьми краски, которыми хочешь писать, и разотри их тщательно с льняным маслом без воды; и составь смесь для лиц и для одежд, как прежде составлял с^ водой, и меняй краски в зависимости от того, пишешь ли зверей, или птиц, или древесную листву" (лат.))
Да, писали, как размалевывают ворота, но не так, как пишут картины.
Согласно Теофилю, накладывать краску можно лишь после того, как другая краска, которая наложена раньше и к которой хотят присоединить блики или тени, просохнет на солнце. Этот способ, согласно признанию самого автора в главе XXIII, требует бесконечного терпения*, и потому он не был пригоден для замыслов великих художников. Нельзя допустить, чтобы пылкие лица Рафаэля или прекрасные лица Гвидо удерживались в их воображении все то долгое время, которого требует способ монаха. Кроме того, тона не могли вполне соединяться. Ван-Эйк понял неудобство всего этого, особенно когда, выставив однажды на солнце картину, писанную по дереву, он увидел, что от жары доски потрескались и картина погибла. Надо было найти такой сорт масла, который, будучи смешан с красками, мог бы просыхать без помощи тепла. Ван-Эйк долго искал и наконец нашел нужные составные части, которые, будучи соединены с маслом посредством кипячения, образуют лак, быстро просыхающий, не боящийся влаги, усиливающий яркость красок и позволяющий им великолепно соединяться**. Любители живописи, собиравшиеся в Вене у известного князя Кауница***, пытались несколько лет тому назад доказать, что открытие это вовсе не принадлежит Яну из Брюгге. Картины, писанные до него, подвергнуты были химическому анализу; но в результате очень тщательных наблюдений удалось только доказать, что греки XII столетия примешивали к своим краскам немного воску или яичного белка. Этот способ был позабыт, и теперь окончательно установлено, что до Яна из Брюгге писали лишь клеевыми красками. Картины, краски которых выдают за масляные, всего только неудачные попытки.
* ("Quod in imaginibus diuturnum et taediosum nimis est"****)
** (Если хотите знать, как установили, в чем, собственно, состояло изобретение Яна из Брюгге, справьтесь у Лессинга, Лейста, Морелли, Распе, Альетти, Тирабоски, у барона Будберга, у Отца Федеричи.
См. химические анализы Пьетро Бьянки Пизано.)
*** (Князь Кауниц (1711-1794) - австрийский государственный деятель и дипломат, покровительствующий искусствам; ему обязаны своим возникновением венские школы изящных искусств и гравирования.)
**** ("В изображениях людей это слишком долго и скучно".)
Яркость красок, напоминающая Корреджо, которая поражает в старинной греческой живописи, происходит, вероятно, от того, что мастера тоже применяли яичный белок или воск для лакировки своих картин. Как бы то ни было, после 1360 года мы имеем только картины, писанные клеевыми красками, без всякого блеска и без особых достоинств.
Иные ученые склонялись к тому, что употребление масляных красок перешло к нам от римлян. Почему бы нет? Согласно Дютану, у них были и телескопы и громоотводы. Главный довод, на который ссылаются в данном случае, это какая-то ветошь, хранящаяся в Верчелли и известная среди ученых под именем картины св. Елены*; это какая-то вышивка, составленная из отдельных кусков шелковой материи, сшитых вместе и дающих изображение мадонны с младенцем Иисусом на руках. Тени на одежде расшиты и по большей части раскрашены. Лица и руки выписаны масляной краской.
* (MabilJon. Diar. Ital., cap. XXVIII, Ranza. Упомянутая ветошь была подновлена, подобно Нунциате во Флоренции и Санта-Мария-Примерана в Фьезоле. См. в томе III, "Неаполитанская школа"**, о картинах Колантонио: наступающая в Европе эпоха двухпалатной системы будет гибельной для трех четвертей ученых с именами на us***. Все будут очень удивлены, когда обнаружится, что это всего-навсего глупцы, разносчики опрометчивых суждений по поводу, правда, трудно разрешимых вопросов. Одна строка идеологии**** упраздняет тысячу таких.)
** ("Неаполитанская школа".- Отсылая читателей к главе о "Неаполитанской школе", Стендаль, очевидно, имел в виду третий, ненаписанный том своей "Истории живописи в Италии".)
*** (...Ученых с именами на us.- В эпоху, когда общеевропейским научным языком был латинский, авторы работ на латинском языке латинизировали и свое имя, присоединяя к нему окончание us. Отсюда и презрительное название, дававшееся педантам: "ученый с именем на us".)
**** (Идеология - здесь наука об "идеях", сформулированная и названная этим именем французским философом Дестютом де Траси. Это - сенсуалистическое учение о психике и познании, являвшееся, с точки зрения его последователей, основой всякой науки вообще. Стендаль был страстным поклонником "идеологии".)
Вышивка сделана св. Еленой, матерью Константина. Масляные краски были наложены затем его придворными живописцами. Беда только в том, что обычай изображать Иисуса на груди у матери относится к более позднему времени, чем IV век, а бумага картины из Верчелли тряпичная.
Глава XXVII. Сикстинская капелла
Мы живем пока только надеждой, но эпоха расцвета уже близится (1470). Сумрак рассеивается, и несколько лучей уже освещают художников, дарование которых мы сейчас рассмотрим. Рисунок у них все еще сух; бросается в глаза отчетливее, чем в природе, чрезмерность деталей*. Краски соединены между собой очень неумело, ибо привычка одерживала верх над первыми успехами новой живописи, и маслом писали еще очень редко.
* (Представление об этой сухости дают "Христос" Тициана, "Христос" Альбрехта Дюрера, "Воздайте кесарю" и т. д. в Дрезденской галерее; или некоторые картины Гарофало Сикст IV занимал престол с 1471 по 1484 г.; Manni, XLIII, о. Калоджера; "История скульптуры" Чиконьяры.)
Папа Сикст IV, соорудив в Ватикане знаменитую капеллу, названную по его имени Сикстинской, захотел украсить ее картинами. Флоренция была тогда столицей искусств; он пригласил оттуда Боттичелли, Гирландайо, Росселли, Лукку из Кортоны, Бартоломео из Ареццо и некоторых других (1474).
Сикст IV ничего не смыслил в искусствах, но ему нужен был тот ореол, которым они окружают имя государя, наполняя вокруг него воздух словами: потомство и слава. Чтобы противопоставить Ветхий завет Новому, тень - свету, притчу - реальности, он пожелал иметь в своей капелле, с одной стороны, жизнь Моисея, с другой - жизнь Иисуса. Руководил этими обширными работами Боттичелли, ученик Фра Филиппо.
Еще сейчас с удовольствием смотришь в Сикстинской капелле "Искушение Иисуса", с величественным храмом, и "Моисея, защищающего дочерей Иофора от мадиамских пастухов",- две фрески Боттичелли, гораздо более совершенные, чем все, что он создал где-либо в другом месте. Так влияло на него вместе с помощниками великое имя Рима.
Боттичелли, небольшие фигуры которого напоминали бы Мантенью, если бы головы были красивее, имел помощником Филиппино Липпи, сына монаха, но сына бездарного и известного лишь тем, что он ввел в свои произведения трофеи, оружие, вазы, здания и даже одежды, взятые из античности, пример чему дал уже Скварчоне. Фигуры его лишены всякой грации и красоты. Его недостаток - исключительное пристрастие к портретам - усугублялся тем, что он писал их с кого попало. Любители, отправляясь в Минерву, чтобы посмотреть "Христа" Микеланджело, замечают там и "Диспут св. Фомы". В этом произведении Филиппино немного усовершенствовал стиль своих голов.

Микеланджело. Пророк Исайя. (Сикстинская капелла. Рим.)
Его немного превосходил ученик его Рафаэллино дель Гарбо. Одних только сонмов ангелов, которые он изобразил на своде той же капеллы, достаточно, чтобы оправдать то приятное прозвище, которое дали ему современники*. В церкви Мойте Оливето во Флоренции есть "Воскресение" Рафаэллино; это фигуры небольших размеров, но полные такой грации, движущиеся так естественно и раскрашенные так правдиво, что трудно предпочесть ему какого-нибудь другого художника той эпохи. Надо признаться, что эти привлекательные свойства характеризуют лишь первые его картины (1490). Сделавшись отцом многочисленного семейства, он, кажется, вынужден был работать наспех. Талант его ослабел; он утратил уважение, которым пользовался, и конец его жизненного пути, начавшегося при самых благоприятных предзнаменованиях, закончился в бедности и уничижении.
* (Garbo значит прелесть.)
Глава XXVIII. О Гирландайо и о воздушной перспективе
Доменико Коррадо был сыном ювелира, создавшего во Флоренции моду на серебряные веночки, которыми девушки украшали себе волосы, и получившего от них имя Гирландайо, прославленное впоследствии его сыном. Этот последний - единственный художник-новатор после Мазаччо вплоть до Леонардо да Винчи.
Он догадался размещать свои фигуры группами и, различая благодаря правильному ослаблению света и тонов планы, в которых эти группы размещены, зрители с удивлением обнаружили, что в его картинах есть глубина.
До него художники не умели улавливать в природе воздушную перспективу - вещь для нас непонятная и показывающая, какое счастье родиться тогда, когда уже есть хорошая школа. Кто, попав на Королевский мост, не увидит, что дома около статуи Генриха IV, на Новом мосту, гораздо больше расцвечены, гораздо богаче светом и тенями, чем линия Гревской набережной, теряющаяся в туманной дали? В сельской местности, по мере того как цепи гор удаляются, не принимают ли они все более отчетливый лиловый оттенок? Это ослабление всех тонов в связи с расстоянием интересно наблюдать в толпе прогуливающихся по Тюильрийскому саду, особенно в туманный день, осенью.
Свое имя в истории искусства Гирландайо обессмертил тем, что подметил это явление, которое нельзя передать в скульптуре и которого всегда, должно быть, недоставало античной живописи.
Волшебное очарование далей, та область живописи, которая особенно влечет к себе мечтательное воображение, составляет, может быть, главное ее преимущество перед скульптурой*. Этим она приближается к музыке; дорисовывать картины она поручает воображению; и если с первого взгляда нас сильнее поражают фигуры переднего плана, то вспоминаем мы с гораздо большим наслаждением те предметы, детали которых наполовину скрыты от нас воздушным пространством; им воображение придало небесный оттенок.
* (После глаз.)
Пуссен своими пейзажами навевает на нас мечтательность; кажется, что душа ваша унесена в эти благородные дали и вкушает там счастье, которое в жизни от нас ускользает. Таково чувство, из которого. Корреджо извлек свои красоты*.
* (Таково наше несчастье. Именно от тех душ, которые наиболее созданы для нежного и возвышенного счастья, оно с наибольшим постоянством ускользает. Передние планы для них - прозаическая действительность. Надо было изобразить те благородные и пленительные существа, которые в двадцать лет составляют все счастье жизни, а позже вселяют к ней отвращение Корреджо не пытался достигнуть этого посредством рисунка либо потому, что рисунок менее живописен, чем светотень, и нежные порывы души не отражаются в движении мускулов, либо потому, что, родившись в прелестной Ломбардии, он только впоследствии познакомился с римскими статуями. Его мастерство состояло в изображении фигур даже переднего плана так, как если бы они находились вдали. Из двадцати человек, которые восхищаются ими, нет, пожалуй, ни одного, который воспринимал бы, а главное, припоминал бы их одинаково**. Они музыка, а не скульптура. Страстно хочется насладиться ими осязательнее, прикоснуться к ним:
Quis enim modus adsit amori?***.
Но слишком глубокое знание любимых предметов отвращает от них наше сердце. Огромное преимущество музыки в том, что она преходяща, как людские деяния.
О debolezza dell'uom, о natura nostra mortale!****
Небесные чувства могут существовать в этом мире лишь при условии, что они недолго длятся.)
** (Чего нельзя сказать о Рафаэле.)
*** (Для любви найдется ли мера? (лат.))
**** (О несовершенство человека, о смертная наша природа! (итал.).)
Достигнув середины жизни, Гирландайо нредоставил житейские заботы Давиду, своему брату и ученику. "Возьми на себя получение денег и хозяйственные работы,- говорил он ему.- Теперь, когда я начал постигать это дивное искусство, мне хотелось бы, чтобы мне позволили покрыть картинами все стены Флоренции".
Поэтому он требовал от своих учеников, чтобы они не отказывались ни от какой работы, с чем бы ни явился к ним в мастерскую заказчик, хотя бы с простым сундуком для белья. Этот художник, поражающий чистотою своих контуров, приятностью форм, разнообразием замыслов, легкостью и вместе с тем тщательностью работы, поистине изумительными, был достойным предшественником Леонардо, Андреа дель Сарто и Микеланджело; Ридольфо Гирландайо, его сын, и лучшие художники следующего поколения считаются его учениками. В Сикстинской капелле есть только одна из его работ - "Призвание апостолов Петра и Андрея". Было еще "Воскресение", которое погибло.
Зато Флоренция полна его произведениями. Самое известное из них, и вполне заслуженно,- это роспись хора в Санта-Мария-Новелла. По одну сторону здесь изображено житие св. Иоанна, по другую - несколько сцен из жизни богоматери и, наконец, "Избиение младенцев", считающееся его шедевром. Тут можно отыскать портреты всех знаменитых в то время граждан. Изобразил ли он их по собственному почину или побуждаемый необходимостью? В оправдание ему обычно говорят, что головы эти, как живые, и полны той естественности, которая впоследствии прославила Ван-Дейка. Говорят еще, что он умел выбирать формы и облагораживать их. Что из того? На то он и был Гирландайо, чтобы чувствовать, что вводить в картину портреты - значит одной рукой придерживать воображение на земле, а другой - возносить его до небес. Рост флорентийской школы такими портретами был на некоторое время приостановлен. И все же можно сказать, что они составляют теперь единственную заслугу посредственных живописцев и что при той власти, которую имела над ними роковая привычка копировать картины учителя, эта мода на портреты принудила их, по крайней мере хоть иногда, смотреть на живых людей.
В одежде на своих фресках Гирландайо упразднил изобилие золота, которым его предшественники покрывали ее. Во всем чувствуется душа, пылающая любовью к прекрасному и отрясающая прах своего века; со своим веком он связан только неумением изображать руки и ноги своих персонажей, совершенно не гармонирующие с красотой всего остального. Овладеть этой областью предстояло очаровательному Андреа дель Сарто, у которого я нахожу ту же манеру, что у Гирландайо, но в развитом и улучшенном виде. Доменико, новатор в живописи, реформировал также и мозаику; он говорил, что живопись с ее недолговечными красками должна рассматриваться только как рисунок и что подлинно вечная живопись - это мозаика. Родившись в 1451 году, он умер в 1495 году.
Глава XXIX. Непосредственные предшественники великих художников
Очень трудно устоять перед соблазном... Рафаэль и Корреджо уже родились; но порядок, жестокий порядок, без которого невозможно проникнуть в столь обширную область, вынуждает нас покончить с Флоренцией прежде, чем перейти к этим божественным людям.
Ove voi me, di numerar gia lasso, Rapite?
* (Куда вы увлекаете меня, уже уставшего перечислять?
Тассо. Освобожденный Иерусалим, I, 56.)
Ради славы Гирландайо не надо его смешивать с его школой. Его братья и другие ученики* далеко не могут сравниться с ним, что, однако, не мешает во многих музеях приписывать ему разные "Святые семейства", принадлежащие в действительности лишь им. Росселли, самый посредственный из живописцев, приглашенных Сикстом IV, потеряв всякую надежду сравниться со своими товарищами красотой рисунка, отличавшей их картины, перегрузил свои картины золочеными орнаментами и яркими тонами. Он считал, подобно нашим художникам, что яркие краски - то же, что прекрасный колорит. Если он и оскорблял хороший вкус, зато он угождал папе. В результате никому из флорентийцев не выпало на долю столько похвал и подарков, как ему. Говорят, ему помогал Пьетро Козимо, еще один пачкун, имя которого сохранилось, так как это был учитель Андреа дель Сарто.
* (Вот имена его учеников: Давид и Бенедетто, его братья; последний много работал во Франции; Майнарди, Бальдинелли, Чеко, Якопо дель Тедеско, два Индаки.)
Называют еще Пьетро и Антонио Поллайоло, ваятелей и вместе с тем живописцев. Не подлежит сомнению, что последнему мы обязаны одной из лучших картин XV века; это "Мучение св. Себастиана" в капелле маркизов Пуччи, в монастыре сервитов во Флоренции. Колорит нехорош, но композиция выходит за пределы современной ему рутины, и то, что обнаженные части нарисованы хорошо, показывает, что Антонио был знаком с анатомией, он первый, быть может, из итальянцев решился изучать со скальпелем в руке строение мускулов.
Лука Синьорелли расписал фресками собор в Орвьето. Для его славы достаточно сказать, что Микеланджело не погнушался перенять позы некоторых из его фигур. Фигуры, которыми он наполнил этот собор, нарисованы превосходно, полны огня, экспрессии, знания анатомии, хотя рисунок еще суховат. Он чувствовал свою силу и был скуп на одежды. Благочестивые люди роптали, но без успеха. В наши дни проявили бы меньше терпимости*. В Сикстинской капелле можно увидеть его путешествие Моисея с Сопфорой. Из всех этих художников меня лично произведения Луки Синьорелли привлекают больше всего.
* (Сравните ордонансы Леопольда, этого распутного государя, против несчастной commedia dell'arte. Соблюдение приличий делает человека Тартюфом; но глупцы наказываются той скукой, которая уже не покидает их двора. (Примечание сэра В. И.))
Он работал в Вольтерре, в Урбино, во Флоренции. Я отлично знаю, что он не умеет выбирать формы и соединять тона; и тем не менее его "Причащение апостолов" в Кортоне, его родном городе, напоминая своим изяществом, колоритом и красотой следующий век, подтверждает мое мнение о нем.
Бартоломео делла Гатта* ничего не написал в Сикстинской капелле самостоятельно; он только помогал Синьорелли и Перуджино. Но у него хватило ума подольститься к папе и подцепить доходное аббатство. Разбогатев, наш аббат из монастыря св. Климента в Ареццо занялся одновременно архитектурой, музыкой и живописью. В 1794 году я присутствовал при перенесении его "Святого Иеронима", единственной дошедшей до нас его картины, которая, будучи написана как фреска в одной из капелл собора, была перенесена вместе со слоем штукатурки стены в ризницу. Одна из редкостей библиотеки Сан-Марко в Венеции - книжечка прелестных миниатюр работы Аттаванте, ученика аббата монастыря св. Климента**.
* (Стендаль не мог присутствовать на перенесении фрески Бартоломео делла Гатта в 1794 году, потому что он впервые приехал в Италию в 1800 году.)
** (Этот аббат давал уроки Пекори и Лапполи, дворянам из Ареццо. У первого фигуры напоминают манеру Франча. Джироламо и Ланчилао писали миниатюры почти не хуже, чем милейший Аттаванте. Лукка требует, чтобы уделили хоть строку двум ее художникам, Цаккье Старшему и Цаккье Младшему. Когда я дойду до Перуджино, я коснусь целого ряда его учеников, которых он дал Тоскане во время своего пребывания там. Вот их имена: Рохко, Убертини, его брат Баккьякка, которому принадлежит недурная картина "Мучение св. Аркадия", в Сан-Лоренцо; Соджи, обладающий большими познаниями и малым талантом, так же как и Джерино; Монтеварки и Бастьяно да Сан Галло; наконец тот самый Гиберти, который в то время, как Медичи, считая себя законными государями, завоевывали Флоренцию с помощью пушек, вел себя настолько непочтительно, что нарисовал папу Климента VII на виселице. Благородные писатели, всегда преданные власти, не преминули опорочить бедного Гиберти, расхвалив на той же странице Климента VII, который, взяв Флоренцию, не соблюл ни одного из условий капитуляции.)
Глава XXX. Состояние умов
В таком состоянии находилась живопись около 1500 года. Люди, еще ослепленные возрождением искусства, любовались, подобно Психее*, столь восхитительной вещью; но если они восторгались подобно Психее, то разделяли также и ее неведение. Сделано было уже немало - главным образом в том отношении, что научились точно воспроизводить натуру, и особенно человеческие лица, живость которых поражает еще сейчас. Но живописцы стремились быть лишь правдивыми зеркалами. Выбирали они редко.
* (На прелестной картине Жерара.)
Кто из них мог бы подумать об идеальной красоте?
Довольно смутное представление, которое мы связываем с этим словом, покажется ясным, как день, если сравнить его с соответствующим представлением у людей XV века. Когда читаешь книги того времени, глядишь на произведения, о которых идет в них речь, то понимаешь, что беспрестанно встречающееся в них слово прекрасное применяется к тому, что верно скопировано. Когда XV век хотел почтить художника, он называл его обезьяной природы*.
* (Стефано Фьоренташо, внук Джотто, который первый попытался применить ракурсы, получил за это прозвище scimia della natura**.)
** (Обезьяна природы (итал.).)
Если в каком-нибудь парижском салоне заходит речь о красоте, примеры Аполлона и Венеры не сходят у всех с языка. Это сравнение до того уже опошлилось, что попало в водевильные стишки. Печально для носителя столь царственного величия, как Аполлон, оказаться в подобном месте. Тем не менее это показывает, что даже народу известно, что хорошо сделанная статуя должна быть похожа на Аполлона. И если эта мысль не совсем правильна, она, тем не менее, верна настолько, насколько могут быть верны мысли у простонародья.
Светские люди постоянно упоминают головы детей Ниобеи, мадонн Рафаэля, сивилл Гвидо, а некоторые - даже греческие медали. Превосходные примеры. Следует только заметить, что здесь речь идет лишь об идеально прекрасных контурах. Это слово кажется пригодным для одной лишь скульптуры. Восторгаются святым Петром Тициана, но никто не упоминает при этом об идеальной красоте колорита; восторгаются "Ночью" Корреджо, но никогда не услышишь: "Это идеально прекрасная светотень". В отношении этих двух неотъемлемых и важнейших элементов живописи, выражающих ее сущность в большей степени, чем красота контуров, мы ничем не отличаемся от итальянцев 1500 года. Мы чувствуем прелесть картины, не доискиваясь причины этого*.
* (Сделать изображение, отбрасывая детали, более понятным, чем природа,- вот средство достигнуть идеала.)
Слишком ясно, что помощи от общественного мнения, находившегося на таком низком уровне, ни Гирландайо, ни его соперники иметь не могли.
Переходя теперь к менее значительным элементам искусства, относящимся к технике, заметим, что тут оставалось еще придать полноту контурам, достигнуть гармонии колорита, большей точности воздушной перспективы, большего разнообразия в композиции, а главное, большей легкости мазка, который все еще тяжеловат у всех перечисленных до сих пор живописцев. Ибо такова странность души человеческой: чтобы произведения искусства доставляли полное наслаждение, они должны казаться созданными легко, без труда. Наслаждаясь прелестью картины, душа испытывает то же, что испытывал сам художник. Как только она подметит усилие, божественное исчезает. Апеллес говорил: "Если некоторые признают известное мое превосходство над Протогеном, то это лишь потому, что он не может скрыть следов своего труда над картинами".
Некоторая показная небрежность увеличивает изящество. Флорентийские мастера сочли бы ее преступлением*.
* (Вот психологический закон: дружественная нам сила радует нас; поэтому все то, что выдает в художнике слабость, убивает очарование, а то, что выдает небрежность от избытка таланта, усиливает его. Один и тот же небрежный набросок может быть сделан бездарным художником или Ланфранко; большому художнику свойствен свободный размах кисти, sprezzatura, как говорят итальянцы.)
Рисунок Мазаччо и Гирландайо, хоть и немного сухой, был в высшей степени точен; это делало его превосходным образцом для следующего столетия; ибо, как справедливо было замечено, ученикам легче бывает придать мягкость линии, которая была строга у учителя, нежели уберечься от утрировки. Тощую мускулатуру Перуджино ученики усиливают, мускулатуру Рубенса не убавляют. Некоторые ценители искусства считают даже, что молодых людей, поступающих в мастерскую, необходимо приучать к строгой точности XV столетия. Нельзя отрицать, что вошедшая впоследствии в моду столь соблазнительная утрированность погубила не одну новейшую школу, и слава французской школы XIX века состоит в том, что в этом отношении она безупречна.
В Италии общие условия продолжали благоприятствовать развитию искусств. Ибо война вовсе не помеха им, как и всему, что есть высокого в душе человека. Тут наслаждались. И в то время как мрачные диспуты о религии и пуританский педантизм только усиливали тоску в сердцах холодных жителей Севера*, тут сооружали большую часть тех дворцов и храмов, которые украшают собой теперь Милан, Венецию, Мантую, Римини, Пезаро, Феррару, Флоренцию, Рим и все уголки Италии.
* (В 1505 году в Шотландии родился человек, жизнь которого проливает яркий свет на историю северных народов в ту же эпоху, когда Италия достигла такого расцвета; имя его - Джон Нокс**. В Шотландии, стране, ныне столь цветущей, ревностные учителя обучали юношество философии Аристотеля, схоластической теологии, гражданскому и церковному праву. Благодаря прекрасным этим наукам, играющим на руку всякого рода лицемерию, богатство и власть духовенства перешли все границы; половина всех земель в королевстве принадлежала ему, то есть небольшому числу прелатов, потому что приходские священники, как водится, умирали с голоду.
Епископы и аббаты состязались в роскоши с дворянством и пользовались гораздо большим, нежели оно, почетом в государстве.
Крупные должности стали их достоянием; об епископстве или аббатстве спорили как о княжестве; те же нравы и в денежных отношениях, а иногда даже кровавые тяжбы; менее крупные бенефиции продавались с торгов или раздавались епископами приятелям по карточной игре, певцам, льстецам. Приходы оставались без священников, и одни лишь монахи нищенствующих орденов утруждали себя проповедями, нетрудно угадать, почему. В Шотландии, как и всюду, теократия, убив гражданскую администрацию, не сумела занять ее место и всячески препятствовала ее возрождению.
Жизнь духовенства, неподсудного светской власти, отупелого от лености и развращенного богатством, служит ярким примером нравов той эпохи. Проповедуя целомудрие, не имея права вступать в брак под угрозой сурового наказания, епископы показывали своей пастве пример самого откровенного распутства; они открыто имели у себя на содержании самых красивых женщин, наделяли своих сыновей самыми доходными бенефициями и выдавали дочерей замуж за самых крупных вельмож: дворянская честь вполне допускала такие браки по расчету.
Монастыри, весьма многочисленные, были обычным обиталищем шлюх, и уменьшить богатство их считалось ужасным святотатством***.
Чтение библии мирянам было строжайше запрещено. Большинство священников не знало латыни, многие из них не умели читать; чтобы выйти из затруднения, они дошли до того, что запретили даже преподавание закона божьего в школах. Хорошо организованное гонение и запрет каких бы то ни было исследований охраняли процветание этой шутовской власти.
Патрик Гамильтон, молодой человек, происходивший от королевского рода (его дед был женат на сестре Иакова III), оказался достаточно умен, чтобы почувствовать всю ее нелепость. Родившись в 1504 году, он получил еще в колыбели Фернское аббатство; с годами фернский аббат стал обнаруживать признаки выдающихся душевных качеств и тонкого ума; начали бояться за него, когда увидели, что он страстно увлекается Горацием и Вергилием; и его нечестивость сделалась несомненной, когда он проявил пренебрежение к Аристотелю. Он покинул родные горы, чтобы посмотреть континент; дольше всего он пробыл в Марбурге, где Ламберт Авиньонский изъяснял ему священное писание.
Борьба христианства с Римской империей началась с того, что оно прельстило рабов и простонародье, ибо его первоначальное учение было резко враждебно всякой роскоши. Юный Гамильтон, пораженный этим противоречием, возвратился в Шотландию; но под предлогом совещания его заманили в Сент-Эндрьюз, где архиепископ Битоун отправил его погреться на костер в последний день февраля 1538 года, в возрасте двадцати четырех лет.
Он умер мужественно: слышали, как он воскликнул, уже объятый пламенем: "Боже мой, доколе это королевство будет пребывать во мраке? Иисусе, прими дух мой!"
Достойная смерть, среди таких мучений, юноши столь высокого происхождения пробудила шотландцев. Духовенство ответило кострами; этой знати нелегко было отказаться от своих привилегий. Форрест, Стрейтон, Горлей, Рассел и много других знаменитых людей погибли на костре в годы 1530-1540. Но забавно то, что шотландские поэты, окруженные со всех сторон кострами, сочиняли превосходные песни против священников.
Дважды духовенство давало на утверждение королю Иакову V список в несколько сот человек, более или менее богатых, которых оно объявляло подозрительными. Битоун сделался кардиналом. Опасность стала серьезной; к счастью, умер король; его дочь, прелестная Мария Стюарт, была ребенком; либералы, понуждаемые опасностью сгореть на костре, двинулись на Сент-Эндрыоз, взяли крепость и отправили кардинала вослед юному Гамильтону в лучший мир 29 мая 1546 г., восемь лет спустя после смерти этого славного юноши. Я избавлю читателя от неприятных рассказов о делах в Швеции, Франции и т п. Отсюда видно, к чему сводятся пламенные разглагольствования о развращенности прекрасной Италии. Что бы там ни говорили, лучшее средство для насаждения культуры - некоторое излишество в любовных наслаждениях, но до 1916 года известного сорта люди будут кричать, что лучше сжечь двадцать Гамильтонов, чем допустить беззаконную любовь, и из подлого чувства зависти к ним будут прислушиваться.
Если признать пороком то, что причиняет вред людям, а добродетелью - то, что приносит им пользу, все французские исторические труды, написанные до 1780 года, надо будет сдать в архив. Робертсон был священником, Юм домогался титула; но ученики у них превосходные.)
** (Его жизнь описал Thomas M. Crie, 2 v., in 8°, Edinburg, 1810. Эти два тома смущают немного их современника, "Дух христианства". )
*** (Я только перевожу, смягчая подлинник.)
Надо было украшать эти здания. Фламандские ковры стоили дорого, бумажных обоев не было; оставались только картины. Отсюда толпы художников, соревнующихся между собой. Скульптура, зодчество, поэзия, вообще все искусства быстро совершенствовались. Этому великому веку, единственному, который совмещал в себе ум и энергию*, недоставало только науки об идеях. Это его слабая сторона; в этом причина того, что великие эти художники оказывались бессильными, лишь только они устремлялись к возвышенному**.
* (Какая дивная страна - та, где жили одновременно Ариосто, Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Макьявелли, Корреджо, Браманте, Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Александр VI, Цезарь Борджа и Лоренцо Великолепный! Люди, читавшие подлинники, скажут, что она выше Греции.)
** (Надо подвигаться систематически, ибо каждый умный человек изобретает для себя способ рассуждать правильно, способ, остающийся несовершенным; это все равно, как если бы каждый из нас сам изготовлял для себя часы.
Чего бы только не достиг Микеланджело в искусстве ужасать чернь и пробуждать в великих сердцах чувство возвышенного, если бы он прочитал тридцать страниц "Логики"*** Траси? (Том III, стр. 533-560.)
Что касается Леонардо, он предугадывал эти истины, столь простые и столь плодотворные; для полноты его славы надо было только, чтобы он обнародовал их.
В XV веке живописцы ушли дальше, чем изобразители нравов; дело в том, что Мольер - это Колле, привитый к Макьявелли, ибо всякому Макьявелли нужна логика, чтобы достигнуть совершенства. Представьте себе флорентийца, чуждого мысли о двухпалатной системе. Слово нуждается в длинной цепи действий, чтобы изобразить характер, подобный изображенному в Madonna alia seggiola: живопись показывает его нашей душе в мгновение ока. Когда поэзия пускается в перечисления, она не в силах взволновать душу настолько, чтобы душа могла сама дописать картину.
Счастье живописи в том, что она обращается к людям восприимчивым, не проникшим в лабиринт человеческого сердца, к людям XV столетия, и обращается к ним на языке, еще не опошленном и доставляющем физическое наслаждение, ибо ничто так не доказывает правильность какого-нибудь рассуждения, как способность его вызывать физическое наслаждение: в этом состоит преимущество комического.
Люди обладали характером, а красота прежде всего внушает легкий страх****. Совершенство - но совершенство вне пределов искусства - состоит в том, что хорошие манеры смягчают идею страха, и тогда внезапно возникает возвышенная прелесть; ибо для вас делают исключение, и добродетель становится вашей защитой против всех других.
Логика менее необходима в живописи, чем в поэзии; нужно рассуждать с математической точностью об известных чувствах; но только надо этими чувствами обладать; каждый, кто не чувствует, что печаль внутренне присуща готической архитектуре, как жизнерадостность - греческой, должен заняться алгеброй.
Словом, XV век был первым, а свобода нашего полета обременена духом предыдущего века, который под видом науки уже отягчает наши крылья.)
*** (Страницы из "Логики" Дестюта де Траси, на которые ссылается Стендаль, представляют собою резюме этого произведения. Здесь Траси указывает читателю способ, как избежать заблуждений и прийти к некоторым несомненным истинам.)
**** ("И прелесть большая, чем даже красота"***** ******. )
***** (Красота прежде всего внушает легкий страх...- Это и дальнейшие рассуждения на первый взгляд могут показаться непонятными. Красота, именно античная красота, является, по мнению Стендаля, выражением большой физической силы и отваги. Эта физическая сила и отвага были добродетелью античного общества. Хорошие манеры сопряжены с любезностью, а улыбки и любезность обращения удаляют идею страха, внушаемого впечатлением большой физической силы. При любезных манерах красивого человека кажется, что физическая сила, страшная для всех остальных, по отношению к зрителю - дружественна, то есть "добродетель" делает исключение лишь для созерцающего субъекта. Созерцание этой дружественной силы и дает величайшее наслаждение.)
****** ("И прелесть большая, чем даже красота" - стих из поэмы Жана Лафонтена "Адонис".
Пример - странные идеи Микеланджело.)
Глава XXXI. Итоги
Окинем взором пройденную пустыню. Мы увидим в ней среди полчищ подражателей лишь несколько человек, возродивших живопись.
У Николо Пизано явилась мысль подражать античности. Чимабуэ и Джотто начали копировать природу. Брунеллески дал перспективу. Мазаччо воспользовался всем этим, как истинный гений, и внес в живопись экспрессию. После него внезапно появляются Леонардо да Винчи, Микеланджело, Фрате и Андреа дель Сарто. Это сноп фейерверка. И больше нет ничего.
Глава XXXII. Пять главных школ
Около 1500 года школы живописи в Италии начинают приобретать определенный характер. До тех пор, копируя греков или рабски копируя друг друга, они лишены были всякой самостоятельности.
Мы увидим, что рисунком знаменита флорентийская школа, а изображением страстей - римская.
Ломбардская школа славится нежной и меланхолической экспрессией произведений Леонардо да Винчи и Луини*, а также небесной грацией Корреджо.
* (Qualche cosa di flebile e di soave spirava in lei.
Tasso**.)
** (В ней чувствовалось что-то трогательное и нежное.
Тассо.***)
*** (Цитата из "Освобожденного Иерусалима" Тассо приведена Стендалем в очень измененном виде.)
Правдивость и яркость красок характерны для Венеции.
Болонская школа, развившаяся позже, с успехом подражает всем великим мастерам, причем у Гвидо Рени красота доведена до высшей, быть может, формы, в какой она когда-либо представала перед людьми.
Смысл главы XXXIII не совсем ясен. Очевидно, "мораль" приведенной Стендалем басни заключается в том, что художник должен любить прекрасное ради него самого, а не ради похвал своих современников. При таком понимании обнаруживается связь между этой главой и следующей.
Глава XXXIII. Испытания перед статуей Изиды
По улицам Александрии, в Египте, бродила женщина, босая с всклокоченной головой, держа в одной руке факел, а в другой - кувшин. Она говорила: "Я хочу этим факелом поджечь небо, а этой водой залить ад, чтобы человек любил своего бога бескорыстно".
Глава XXXIV. Художник
Каждый художник должен смотреть на природу по-своему. Что может быть нелепее взгляда на природу, заимствованного у другого человека, и притом иной раз у человека с совершенно противоположным характером? Что было бы с Караваджо, если бы он учился у Корреджо, или с Андреа дель Сарто, если бы он подражал Микеланджело? Так говорит строгий философ. Прекрасно. Но с другой стороны, нельзя требовать, чтобы каждый художник был гением. Печальная истина состоит в том, что до известной поры ученик вообще ничего не видит в природе. Прежде всего нужно, чтобы рука его повиновалась, а затем, чтобы он разобрал, что взял учитель у природы. Если повязка спадет с его глаз, если о" обладает каким-нибудь дарованием, он различит в природе вещи, которые он сам, в свою очередь, должен воспроизводить, чтобы доставлять удовольствие людям с такой же душой, как у него. Всего труднее то, что нужно иметь душу.
Множеством посредственных картин, не совсем все же скверных, мы обязаны людям с умом и выучкой, которые, однако, имели несчастье никогда не знавать грусти. Люди вроде Дюкло* в истории искусств нередки. Чего недоставало Аннибале и Лодовико Каррачи для того, чтобы сравняться с Рафаэлем или с Корреджо? Чего недостает еще и теперь стольким людям для того, чтобы стать хорошими второсортными живописцами?
* (Дюкло (1704-1772) - французский историк и моралист, типичный рационалист XVIII века, лишенный, как казалось Стендалю, какой-либо сердечности.)
Можно быть великим полководцем, великим законодателем, не отличаясь вовсе тонкостью чувств. Но в изящных искусствах, названных так потому, что наслаждение они доставляют посредством изящного, нужна душа, даже для того, чтобы передавать самые безразличные вещи.
Что может быть, казалось бы, безразличнее наблюдения, что ласточки вьют себе гнезда в местах, отличающихся чистотой воздуха?
И ничто так живо не напоминает человеку о его убожестве, ничто не повергает его в более глубокую, в более мрачную задумчивость, чем эти слова:
This guest of summer,
The temple-haunting martlet, does approve,
By his lov'd mansionry, that the heaven's breath
Smells wooingly here...
Where they most breed and haunt, I have observ'd,
The air is delicate*.
* (
Летний гость,
Храмовник-стриж, обосновавшись тут,
Доказывает нам, что это небо
Радушьем веет...
Где он живет, там воздух, я заметил,
Особо чист.
Шекспир. Макбет, д. I, явл. 6. Перевод М. Лозинского.)
Это искусство волновать при помощи таких деталей - счастливый удел высоких душ. Вот то, чего чернь никогда не поймет. В словах Банко она никогда не обнаружит ничего другого, кроме естественнонаучного наблюдения,- весьма неуместного, сказали бы эти люди, если бы у них хватило на то смелости.
Св. Цецилия, восхищенная небесными звуками, была в таком упоении, что орган, который она держала, выпал из ее рук и две трубки у него отломились.
Платье кучера или повара, в котором появляется Жак, всякий раз, как его призывает к себе Гарпагон;* голые и суровые, но все же не величественные скалы, среди которых живет в пустыне св. Иероним**, стараясь изгнать Рим из своих воспоминаний,- вот другие примеры.
* (Гарпагон, Жак - персонажи комедии Мольера "Скупой".)
** (Знаменитая картина Тициана в Эскуриале.)
Всякий человек, наделенный хоть малейшей любознательностью и живо испытавший на себе власть красоты, мог бы стать художником. Он изображал бы страсти, когда они оставляют его в покое, и приятный труд избавлял бы его от ужасающей пустоты; но ему недостает умения ваять для того, чтобы стать скульптором, умения рисовать, чтобы стать живописцем, умения писать стихи, чтобы стать поэтом; и потому рядом с людьми такого рода во всех этих искусствах с успехом подвизаются бездушные ремесленники. Какой поэт вышел бы из мадмуазель де Леспинас*, если бы она владела стихом, как Колардо**!
* (Мадмуазель де Леспинас (1732-1776) - известна своими письмами к своему возлюбленному Гиберу, полными выражений страстной любви.)
** (Колардо (1732-1776) - второстепенный поэт XVIII века, отличавшийся превосходной техникой стиха.)
В XV веке больше жили чувством; условности не подавляли жизни; и еще не появилось великих мастеров, достойных подражания. Глупость в литературе на знала еще иного способа скрывать себя, кроме подражания Петрарке*. Чрезмерная вежливость не угасила страстей. В общем, было меньше ремесла и больше естественности. Предмет страсти великих людей часто служил для торжества их искусства. Кое-кто и сейчас способен почувствовать, каково было блаженство Рафаэля, когда он писал Форнарину в образе своей дивной св. Цецилии**.
* (Зато она и погубила поэзию.)
** (The happy few***. В 1817 году среди той группы лиц, возраст которых не выше тридцати пяти лет, а годовой доход - не меньше ста луидоров, но не больше двадцати тысяч франков.)
*** (Немногие счастливцы (англ.).)
Все эти Джорджоне, Корреджо, Кантарини, все эти редкие люди, которых теперь стал бы душить великий принцип нашего века - быть такими же, как все,- перенесли в прославившее их искусство порождаемую любовью привычку чувствовать множество оттенков и ставить в зависимость от них свое счастье или несчастье*. Мало-помалу они нашли в этом живые радости. Они решили, что радости эти не могут быть у них отняты какой-либо случайностью или жестокой смертью; и так как к их мыслям, несомненно, примешивалась справедливая гордость, они свое счастье положили в том, чтобы блистать и в искусстве. Только потому, что они были самими собой, они стали велики. Почему люди не понимают, что, как только прибегаешь к помощи памяти, внутренний взор угасает? "Что сделал бы на моем месте Рафаэль?" Все, что угодно, только не задал бы этого глупого вопроса.
* (Человек с дарованием бывает гораздо чаще самим собой, чем таким, как все, и потому в Париже не может не быть смешон: это Шарет** в Кобленце.)
** (Шарет (1763-1796) - один из деятелей контрреволюционных восстаний в Вандее, из крестьян. В Кобленце, на границе Франции, в 1790-е годы был центр французской дворянской эмиграции, где Шарет подвергался насмешкам, так как не обладал великосветскими манерами и был недворянского происхождения.)
Я не говорю, что нельзя быть страстным любовником и вместе с тем очень плохим живописцем; я говорю лишь, что Моцарт не обладал душой Вашингтона.
Разве самое доступное утешение для человека, которого любовь сделала несчастным, не состоит почти целиком из воспоминаний об этой самой любви? Другая сторона дела - искусство трогать сердца, могущество которого всякий испытал.
Работать для художника при таких условиях - почти то же, что последовательно вызывать в памяти образы мучительные и дорогие, непрестанно повергающие его в грусть. Самолюбие, тоже принимающее в этом участие,- самая старая из привычек души. Оно не вносит нового стеснения и в памяти о былом помогает найти новое наслаждение. Мало-помалу эстетическое чувство присоединяется к вашим личным чувствам. С этого момента художник на правильном пути. Остается только посмотреть, дала ли ему судьба способности.
Молодой Саккини, подавленный изменою любовницы, целый день не выходит из дому. С сердцем, переполненным заглушённой яростью, он прохаживается большими шагами. Под вечер он слышит, как под его окном кто-то напевает; он прислушивается. Мелодия трогает его. Он повторяет ее на фортепьяно. Глаза его увлажняются и, обливаясь жаркими слезами, он пишет любовную арию, лучшую из всех, которые он нам оставил.
"Но,- скажет мне какой-нибудь Дюкло,- вам всюду мерещится любовь".
Я отвечу: "Я проехал Европу, от Неаполя до Москвы, имея у себя в коляске все первоисточники по истории данной страны".
Лишь только наскучит Форум или не нужна становится аркебуза, когда выходишь на прогулку, единственным движущим началом остается любовь. Но, само собой разумеется, климат Неаполя вносит в эту страсть такие оттенки, каких не почувствуешь среди туманов Мидделбурга. Рубенс, чтобы дать ощущение прекрасного, вынужден был выставлять напоказ такие приманки, которые в Италии нравятся только как странность.
В этой знойной и беспечной стране влюбляются до пятидесяти лет и приходят в отчаяние от измены возлюбленной. Даже судьи там отнюдь не педантичны; напротив, они весьма любезны.
В Италии установление твердых правительств около 1450 года дало обществу много досуга; если в первый момент безделье мучительно, то по прошествии некоторого времени занятия становятся тягостными*.
* (В этом - несчастье нынешней Италии, вернее, несчастье для ее славы. Один знаменитый человек сказал венецианскому патриарху: "Ваши молодые люди проводят свою жизнь у ног женщин". (Подлинное его выражение было еще энергичнее.))
Я рассчитываю на читателя только с нежной душой, который раскроет эту книгу, чтобы узнать о жизни Рафаэля, творца "Madonna alia seggiola", или Корреджо, написавшего голову "Madonna alia scodella".
Этот редчайший читатель - я хотел бы, чтобы он был редчайшим во всех отношениях,- приобретет несколько эстампов. Мало-помалу число картин, способных доставлять ему удовольствие, возрастет.
Он полюбит коленопреклоненного юношу в зеленой тунике в "Успении" Рафаэля*. Он полюбит бенедиктинца, играющего на фортепьяно в "Концерте" Джорджоне**. В этой картине он увидит смешную сторону восторженных душ: Вертера***, рассуждающего о страстях с холодным Альбертом*. Дорогой неизвестный друг,- потому и дорогой, что неизвестный,- отдайся искусству с доверием! Самые сухие на первый взгляд занятия принесут тебе в бездне твоих страданий великое утешение!
* (№ 1124)
** (№ 965.)
*** (Вертер и Альберт - персонажи романа Гете "Страдания юного Вертера".)
Мало-помалу этот читатель станет различать школы, узнавать отдельных мастеров. Его познания возрастут: у него появятся новые наслаждения. Он никогда раньше не предполагал, что мысль рождает чувство; да и я тоже; и я очень удивлялся, когда, занявшись изучением живописи единственно только от душевной тоски*, вдруг обнаружил, что она проливает бальзам на жестокие сердечные раны.
* (Ибо нервный флюид в состоянии израсходовать ежедневно, если можно так выразиться, лишь известную долю чувствительности; если вы затратите ее на рассматривание тридцати прекрасных картин, вам уж не придется затрачивать ее на оплакивание умершей, обожаемой вами любовницы.)
Мой читатель почувствует, что картины Фрате, прежде не привлекавшие его внимания, возвышают душу; что картины Доменикино трогают его. В конце концов он станет чувствителен даже к "Убийству инквизитора Пьетро" Тициана и картинам Микеланджело Караваджо.
Наступит день, когда, сожалея об итальянских художниках, вынужденных писать на столь плачевные темы, он станет чуток только к тем сторонам искусства, дарованию которых дан был полный простор подражать природе*. Он полюбит эти радости, которые глупцы не могут для него осквернить. Забыв о сюжете нелепом или отталкивающем, он полюбит светотень Гверчино, прекрасный колорит Париса Бордоне. Может быть, в этом и заключается высшее торжество искусства.
* (В светотени и в колорите.)
Глава XXXV. Характерные черты флорентийских художников
Если вы хотите, приехав во Флоренцию, составить себе представление о ее стиле, пойдите на площадь Сан-Лоренцо: посмотрите на барельеф, находящийся справа, если стать лицом к церкви.
Несчастье Флоренции в том, что в нее попадаешь только после Болоньи, города великих художников. Одна какая-нибудь головка Гвидо ужасно вредит всем этим Сальвиати, Чиголи, Понтормо, и т. д., и т. д. Нельзя особенно доверять всему, что говорит Вазари в похвалу своей флорентийской школе, слабейшей из всех, по крайней мере, на мой взгляд. Его герои рисуют довольно точно; но колорит у них резкий и жесткий, без всякого чувства. Вертер сказал бы: "Я ищу пожатия человеческой руки и сжимаю лишь деревянную руку".
Исключение составляют два-три гения.
Одежды у этой школы не блещут ни яркостью красок, ни величественной пышностью. Венеция, высмеивая флорентийцев за всем тогда известную их скупость, говорила, что одежду у них на картинах выбирают и кроят экономно. Эта школа не отличается рельефностью фигур или их красотой. Лица с крупными чертами, в которых мало, однако, идеального; это потому, что Флоренция долго не имела хороших греческих статуй. Она поздно увидела Венеру Медицейскую, и лишь в наши дни великий герцог Леопольд дал ей Аполлино и Ниобею. О флорентийцах в этом отношении можно только сказать, что они копировали природу довольно верно и что кое-кто из них умел заимствовать у нее с выбором.
Большой изъян этой школы - недостаток экспрессии; сильная ее сторона - фамильное, так сказать, достояние всех ее мастеров - рисунок. Их натолкнул на совершенствование в этой области национальный характер, в котором больше точности и внимания к деталям, нежели страстности. Благородство очертаний, правдоподобие, историческая точность наряду с знанием законов рисунка украшают собой их картины. Зто потому, что Флоренция издавна была столицею мысли. Данте, Боккаччо, Петрарка, Макьявелли и множество других славных умов, собранных при дворе Медичи или созданных политическими распрями, распространили там просвещение. Художники либо сами были людьми просвещенными, как Микеланджело, Леонардо, Фрате, Бронзино, либо принуждены были, боясь критики, советоваться с другими. На берегах Арно безнаказанно не могли бы изобразить гостей на брачном пиру в Дане Галилейской разодетыми по последней моде*.
* ("Брак в Кане" Паоло Веронезе.)
В Париже можно составить себе представление об основных недостатках флорентийской школы, посмотрев на картину Сальвиати "Иисус и св. Фома"* или довольствуясь замечанием, что, за исключением чувствительности, эта школа во всем противоположна голландцам.
* (Бывший Музей Наполеона, № 1154.)
Римская школа отличалась величественностью благодаря Колизею и другим руинам; Венеция сладострастна; Флоренция полна знаний. Корреджо нежен:
La terra molle e lieta e dilettosa, Simili a se gli abitator produce*.
* (Страна нежная, веселая и счастливая производит подобных себе жителей. Тассо "Освобожденный Иерусалим", I, 62.)
Глава XXXVI. Фресковая живопись во флоренции
Микеланджело сказал, сравнивая живопись фресковую и живопись маслом, что эта последняя - только игра. Это два разных дарования. Фресковая живопись стремится достигнуть больших результатов, чем живопись маслом, в меньшей степени следуя природе.
Штукатур подготовляет кусок потолка; его надо заполнить в тот же день; известка вбирает в себя краску; после этого на ней нельзя уже больше работать. Этот вид искусства не терпит ни промедления, ни поправок. Художник вынужден работать быстро и хорошо, что всегда представляет собой величайшую трудность*.
* (Примером в Париже может служить плафон галереи антиков. Названная способность - самое трудное на славном военном поприще.)
Храмы и дворцы во Флоренции показывают, что многие ее художники эту трудность великолепно преодолели.
Что касается тех колоссальных произведений, которые в XVII веке, когда искусство близилось уже к упадку, называли qnadri di machina (механические картины), то флорентийцев упрекали в том, что они недостаточно искусно группируют свои фигуры и изображают слишком много персонажей. Но эти огромные картины, которыми прославились Пьетро да Кортоне и Ланфранко*, образуют низший, по существу, вид искусства. Это примерно то же, что стилистические красоты в официальных документах. Звучная и туманная болтовня в них вполне уместна, а небесная чистота Вергилия показалась бы убогой.
* (Пьетро да Кортоне умер в 1669 г.; Ланфранко - в 1647 г. Эго то же, что в музыке Паэр.)
Глава XXXVII. Разница между Флоренцией и Венецией
Венецианская школа как будто возникла просто из внимательного наблюдения явлений природы и почти механического, отнюдь не продуманного воспроизведения тех ее образов, которые пленяют наш взор. Наоборот, оба светила флорентийской школы, Леонардо да Винчи и Микеланджело, любили доискиваться причин тех явлений, которые они переносили на полотно*. Их преемники следовали больше их предписаниям, чем природе. Это далеко не соответствовало мысли Леонардо, согласно которой наука состоит лишь в том, чтобы вникать в необходимые условия явлений.
* (Почему г. Г в Париже, рисуя целый пук сирени на портрете красавицы-герцогини де Б.*** **, не додумался прикрепить к своему холсту ветку сирени и отойти на десять шагов?)
** (Очевидно, Стендаль имеет в виду портрет г-жи Б., работы Полена Герена, выставленной в Салоне в 1817 году.)
Так как метод рассуждения, согласно которому преподавались правила, оказывался ложным, художники почти никогда не улавливали истинной мысли учителя. То немногое, что из нее было усвоено, привело к тому, что разные Вазари, вместо того, чтобы быть бездарными на свой собственный лад, стали отвратительны, доведя до предела недостатки учителя. Следует глубоко изучить человеческую природу вообще, а не особенности таланта какого-нибудь одного определенного человека. Правда, что первая из этих задач требует столько же ума, сколько вторая - терпения.
Несмотря на свою ученость, или, вернее, именно благодаря ей, флорентийская школа блистала лишь одно мгновение. Еще при жизни Микеланджело, около 1530 года, Вазари и его присные гордо заняли место великих людей*, но обратимся к эпохе расцвета**.
* (Совершенно такой же переворот совершается теперь в музыке. Разные Мейеры, Вейгли, Паэры гордо сменяют Чимароз и Буранелло.)
** (
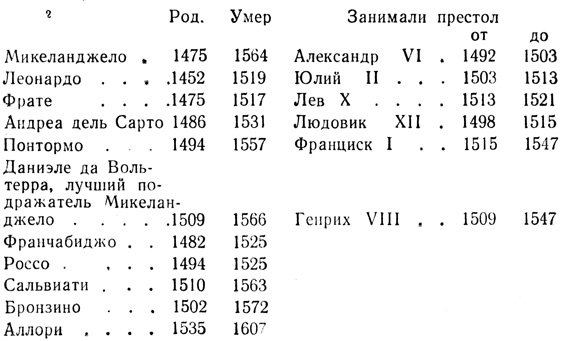
)
© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'