

Книга седьмая. Жизнь Микеланджело
...Е quel die al par sculpe e colora, Michel piu che mortal Angiol divino*.
* (И тот, кто одинаково хорошо ваяет и пишет красками, никель, скорее Ангел, чем Смертный (итал.).)
Глава CXXXIV. Первые годы
Эти мысли были нужны, чтобы правильно оценить Микеланджело; все теперь станет ясно.
Микеланджело Буонаротти родился в окрестностях Флоренции. Его семья, родовое имя которой было Симони-Каносса, известна была в средние века брачным союзом с знаменитой графиней Матильдой*.
* (Графиня Метильда.- См. примечания к стр. 49.)
Он явился на свет в 1475 г., в понедельник 6 мартa, за четыре часа до восхода солнца.
Рождение действительно примечательное, восклицает его историк, отлично предуказывающее, чем должен был стать со временем этот великий человек! Меркурий в сопровождении Венеры, принятый благосклонно Юпитером,- чего только не сулил в будущем этот миг, выбранный судьбой так удачно.
Потому ли, что отец, пожилой дворянин старого закала, разделял это воззрение, потому ли, что он просто хотел дать сыну образование, подобающее ему по рождению, только он рано отправил его к знаменитому тогда во Флоренции грамматику Франческо да Урбино. Но все минуты, которые ребенок мог украсть у грамматики, он посвящал рисованию. Случай дал ему в товарищи школьника одного с ним возраста, по имени Граначчи, состоявшего в учениках у художника Доменико Гирландайо. Он завидовал счастью Граначчи, который водил его иногда тайком в мастерскую учителя и давал ему на дом рисунки.
Эта помощь воспламенила зарождавшуюся склонность Микеланджело; и в порыве восторга он объявил родным, что решил совсем бросить грамматику.
Отец и дядья сочли это для себя позором и стали делать ему самые резкие внушения; а именно, часто по вечерам, когда он возвращался домой со своими рисунками под мышкой, его жестоко били. Но он уже тогда наделен был тем непреклонным характером, который так часто проявлял впоследствии. Все более озлобляемый этим домашним гонением, он, никогда раньше не учившийся как следует рисованию, решил попробовать писать красками. Все тот же приятель Граначчи снабдил его кистями и гравюрой голландца Мартина. На ней изображены были бесы, которые для того, чтобы св. Антоний впал поскорее в искушение, осыпают его палочными ударами*. Будучи вынужден поместить возле святого чудовищные фигуры демонов, Микеланджело не нарисовал ни одной из них до тех пор, пока не увидал сам в натуре те части, из которых потом их составил. Ежедневно отправлялся он на рыбный рынок и разглядывал там форму и цвет плавников, глаз, зубастых ртов, которые хотел изобразить на своей картине. Он покупал самых уродливых рыб и приносил их к себе в мастерскую. Говорят, Гирландайо немного завидовал такому глубокомыслию и, когда труд был закончен, всех уверял себе в утешение, что картина вышла из его мастерской. Он был прав: старый дворянин был беден и отдал сына к Гирландайо в ученики. Контракт, заключенный на три года, примечателен тем, что вопреки обычаю учитель обязывался выплатить ученику двадцать четыре флорина**.
* (Я видел эту гравюру Мартина Шена в коллекции Корсини, в Риме.)
** (Существует следующая собственноручная запись старика Буонаротти в книге Доменико Гирландайо: "1488. Ricordo questo di primo d'Aprile, come io Lodovico di Lionardo di Bonarrota acconcio Michelagnolo mio figluolo con Domenico e David di Tomrnaso di Currado per anni tre prossimi avvenire con questi patti e modi, che il detto Michelagnolo debba stare con i sopraddetti detto tempo a imparare a dipignere a fare detto essercizio e cid i sopraddetti gli comanderanno, e detti Domenico e David gli debbon dare in questi tre anni fiorini ven-tiquattro di suggello: in primo anno fiorini sei, il secondo anno fiorini otto, il terz fiorini dieci, in tutta la soma di lire 96".
И ниже: "Hanne avuto il sopraddetto Michelagnolo questo di 16 d'Aprile fiorini dua d'oro, ebbi io Lodovico di Lionardo suo padre "da lui contanti lire 12"*** (Вазари, X, 26).)
*** ("Удостоверяю сего первого апреля, что я, Лодовико ди Леонардо ди Буонаротти, отдаю сына моего Микеланджело, Доменико и Давиде ди Томмазо ди Куррадо на ближайшие три года с тем условием и уговором, что означенный Микеланджело обязуется находиться у вышеозначенных означенное время, обучаясь рисованию и упражняясь в означенном ремесле и во всем, что вышеназванные ему поручат, и что означенные Доменико и Давиде обязуются уплатить ему в течение трех лет двадцать четыре полноценных флорина; в первый год шесть флоринов, во второй год восемь флоринов, в третий - десять флоринов, а всего (96) девяносто шесть лир..." "Сего 16 апреля вышеназванным Микеланджело получено два золотых флорина золотом; получено мною, Лодовико ди Леонардо, его отцом, за его счет 12 лир".)
Шестьдесят лет спустя Вазари, будучи в Риме, показал старому Микеланджело один из его рисунков, сделанных в мастерской Гирландайо. На одном наброске пером, который кто-то из товарищей закончил по рисунку учителя, у него хватило дерзости придать телу новое положение. Это воспоминание о днях молодости развеселило великого человека, и он воскликнул, что отлично помнит эту фигуру и что в детстве он знал больше, чем знает теперь в старости.
Глава CXXXV. Он видит античные произведения
Один живописец, тронутый рвением Микеланджело и чинимыми ему препятствиями, дает ему срисовать какую-то голову; тот, сделав копию, возвращает ее живописцу вместо оригинала; этот последний догадывается о подмене только потому, что мальчик смеялся по поводу его ошибки с одним из своих товарищей. Этот случай наделал шуму во Флоренции; все хотели взглянуть на две столь похожие одна на другую картины; они сходны были во всем, потому что Микеланджело немного закоптил свою, чтобы придать ей вид старины. Он часто прибегал к такой хитрости, чтобы завладеть подлинниками. Теперь он уже достиг первой цели, которая стоит перед молодыми художниками на их долгом пути совершенствования в мастерстве: он научился копировать.
Он не был очень прилежен у Гирландайо; осуждаемый своей родовитой семьей, слывя в доме за непокорного шалуна, он блуждал чаще всего по Флоренции, не имея собственной мастерской, ничему как следует не учась, останавливаясь всюду, где только ни увидит художников. Однажды Граначчи привел его в сады Сан-Марко, где расставляли античные статуи,- те самые, которые Лоренцо Великолепный собрал с большим трудом. По-видимому, эти бессмертные творения сразу же поразили Микеланджело. Почувствовав отвращение к холодному и мелочному стилю, он перестал заходить в мастерскую Гирландайо и к другим художникам; целые дни проводил он теперь в садах. Он решил скопировать голову фавна, отличавшуюся веселым выражением лица. Трудность состояла в том, чтобы добыть мрамор. Рабочие, видевшие этого юношу изо дня в день подле себя, подарили ему кусок мрамора и одолжили даже резец. Это был первый резец, к которому он притронулся в своей жизни. В несколько дней голова была окончена; так как нижняя часть лица у античной статуи отсутствовала, он дополнил ее и изобразил своего фавна с широко разинутым ртом, как у человека, который хохочет.
Лоренцо Медичи, прогуливаясь в своих садах, встретил Микеланджело, когда тот шлифовал свой бюст*; его поразила работа, но еще больше молодость художника. "Тебе захотелось сделать этого фавна стариком,- сказал он ему, смеясь,- а между тем ты оставил ему все зубы. Разве ты не знаешь, что в этом возрасте нескольких зубов всегда недосчитываются?" Микеланджело не мог дождаться, когда повелитель уйдет; едва тот удалился, как он старательно убрал у своего фавна один зуб и стал ждать следующего дня. Лоренцо много смеялся над пылкостью молодого человека и, верный себе в стремлении покровительствовать всему, что незаурядно, уходя, сказал ему: "Скажи непременно своему отцу, что я хочу поговорить с ним".
* (Он находится теперь в Флорентийской галерее.)
Глава CXXXVI. Исключительно счастливые условия, в которых протекало воспитание Микеланджело
Больших усилий стоило уговорить старого дворянина: он клялся, что не допустит, чтобы сын его стал каменотесом. Тщетно друзья пытались объяснить ему разницу между каменщиком и скульптором. Однако, явившись к герцогу, он не посмел не отдать ему сына. Лоренцо предложил ему также и для себя подыскать какое-нибудь подходящее место. В тот же день Лоренцо отвел Микеланджело комнату в своем дворце, велел обращаться с ним как со своим сыном и допустил его к своему столу, за которым ежедневно собирались знатнейшие вельможи Италии и самые выдающиеся люди того времени (1489 г.). Микеланджело было тогда пятнадцать или шестнадцать лет; судите сами, как должно было повлиять подобное обращение на душу, высокую от природы.
Медичи часто приглашал к себе юного скульптора, чтобы порадоваться, глядя на его восторг, и показывал ему геммы, медали и всякого рода древности, которые он собирал.
Со своей стороны, Микеланджело каждый день преподносил ему какое-нибудь новое свое произведение. Полициано, в котором вся ученость той эпохи не могла все-таки убить до конца человека выдающегося, был также в числе гостей Лоренцо. Он любил смелый гений Микеланджело, непрестанно понуждал его к работе и всегда умел подсказать ему какой-нибудь новый замысел.
Однажды он ему заметил, что похищение Деяниры и битва кентавров могли бы дать превосходный сюжет для барельефа, и, развивая свою мысль, рассказал ему эту историю со всеми подробностями; на другой день юноша показал ему ее в виде наброска. Этот прямоугольный барельеф, фигуры которого размерами приблизительно в одну пядь*, можно видеть в доме Буонаротти во Флоренции. Не знаю, почему Вазари называет его "Битвой кентавров": это - голые люди, которые дерутся, нанося друг другу удары камнями и палицами, и при этом видна лишь половина одного конского туловища, едва законченная. Мы видим схватку человеческих тел в самых необычайных и трудных позах; но у каждой фигуры есть своя особенная экспрессия. Тут есть очаровательные находки гения: например, тот человек, который стоит к нам спиною и тянет другого за волосы; или другой, изображенный лицом к зрителю, который наносит удар палицей; есть, впрочем и кое-какие неточности. Микеланджело говорил впоследствии, что всякий раз, как снова попадалась ему на глаза эта работа, он испытывал смертельную печаль, сожалея о том, что не всецело отдался одной скульптуре. Он имел при этом в виду те очень значительные перерывы, иногда в десять-двенадцать лет, когда он совершенно переставал работать, печальное следствие его отношений с сильными мира сего. Лоренцо имел обыкновение выдавать скромное содержание всем художникам и крупные награды тем из них, кому удавалось выдвинуться. Микеланджело назначено было месячное жалованье в пять дукатов, которые Лоренцо посоветовал ему отдавать отцу; а ему самому - так как Микеланджело был в ту пору еще ребенком - он подарил прекрасный фиолетовый плащ.
* (Двести двадцать три миллиметра.)
Старик Буонаротти, ободренный вниманием Медичи, явился однажды к нему и сказал: "Я умею только читать и писать; есть свободная должность в таможне, которую можно дать только гражданину; я явился просить ее у вас, так как мне думается, что смогу занимать ее с честью". "Ты всегда останешься бедняком,- сказал ему, смеясь, Медичи, ожидавший от него совсем иной просьбы.- Впрочем, если эта должность вас привлекает, она за вами до тех пор, пока мы подыщем вам что-нибудь получше". Эта должность приносила в год сто скуди.
Микеланджело затратил несколько месяцев на роспись в церкви Дель-Кармине, капеллы Мазаччо. Тут, как и всюду, он превзошел других, за что все платили ему, разумеется, ненавистью. Торриджани, один из его товарищей, нанес ему такой сильный удар по носу, что переломил хрящ, и этот случай усугубил еще более уродство лица Микеланджело, в чем он сходен с Тюренном. Бог покарал завистника: Торриджани уехал в Испанию, где святая инквизиция поджарила его на костре*.
* ("Ora torniamo a Piero Torrigiani che con quel mio disegno in mano disse cosi: "Questo Buonarroti ed io andavamo a imparare da fanciulletti nella chiesa del Carmine dalla cappella di Masaccio; e poi il Buonarroti aveva per usanza di uccellare tutti quelli che disegnavano. Un giorno infra gli altri dandomi noja il detto, mi venne assai piu stizza del solito; e stretto la mano gli detti si gran pugno nel naso ch'io mi sentii fiaccare sotto il pugno quell'osso e tenerume del naso come se fosse stato un cialdone; e cosi segnato da me ne restera infinche vive". Queste parole generarono in me tanto odio, perche vedevo i fatti del divino Michelagnolo, che non tanto che a me venisse voglia di andarmene seco in Inghilterra, ma non potevo patire di vederlo". (Cellini, an. 1518 I, 31-32.)**)
** (Теперь вернемся к Пьеро Торриджани, который с этим моим рисунком в руке сказал: "Этот Буонаротти и я маленькими детьми работали в церкви дель Кармине, в капелле Мазаччо: а Буонаротти имел привычку насмехаться над всеми, кто там рисовал. Однажды, когда он мне надоедал, я рассердился больше, чем когда-либо, и, сжав кулак, я ударил его по носу с такой силой, что почувствовал, как под кулаком у меня треснули кость и хрящ, как будто это было сухое печенье; и так он останется отмеченным мною до конца жизни". Но так как я видел произведения божественного Микеланджело, то слова эти вызывали во не столь сильное негодование, что несмотря на мое желание отправиться с ним в Англию, я не мог его больше видеть. (Итал.))
Между тем Микеланджело принимал участие в благородных развлечениях самого изысканного общества на свете со времени Августа. Друзья Лоренцо по очереди приезжали погостить у него в загородных дворцах, которые он любил строить между очаровательными холмами, давшими основание назвать Флоренцию городом цветов. Роскошные сады Кареджи оглашались философскими спорами, облеченными фантазией в изящные формы, и философия вновь обрела тот чарующий стиль, который некогда придал ей в Афинах Платон. Иногда все общество отправлялось на самые жаркие месяцы в очаровательную долину Ашано, где, как казалось Полициано, природа старалась подражать усилиям искусства, или отправлялись посмотреть, как достраивают прелестную виллу Кайано, которую Лоренцо воздвигал по собственному плану и которая получила от Полициано поэтическое название Амбра. Среди необычайной роскоши и утонченных наслаждений, сосредоточенных в этом доме богатейшего в мире человека, сам он непрестанно был озабочен лишь тем, как бы заставить своих друзей позабыть, что он здесь хозяин.
Унаследовав от своих предков склонность покровительствовать искусствам, он живо чувствовал красоту во всех ее формах и по влечению сердца делал то, что предки его делали по соображениям политики.
Уступая Козимо только в умении торговать, он превосходил его, как и всех вообще Медичи, в качествах, необходимых для государя, и потомство поступило несправедливо по отношению к самому выдающемуся человеку, избрав самое ничтожное из его свойств, когда дало ему прозвище Великолепный.
Восхищение классической древностью могло бы выродиться, как это мы наблюдали в наши дни, в косное и тупое обожание. Но тонкая и пылкая восприимчивость Лоренцо, острые словечки его, вызывавшиеся малейшим проявлением смешного в людях, и обычная в тоне его бесед ирония совершенно устранили этот недостаток глупцов.
Его стихи обнаруживают в нем высокую душу, знавшую, что такое любовь, и любившую бога, как любят любовницу,- сочетание, допускаемое природой лишь в тех душах, которые предназначаются ею для людей гениальных. Он имел обыкновение говорить: "Кто не верит в будущую жизнь, мертв уже в нынешней". В одинаково пламенном стиле он то слагал гимн творцу, то обожествлял предмет своих любовных восторгов.
Превосходя по своим государственным способностям Августа и Людовика XIV, он покровительствовал изящной словесности, как человек, который предназначен был занять в ней одно из первых мест, если бы самим своим рождением не был уж предназначен руководить Италией; и одна из ошибок истории состоит в том, что век, всем обязанный ему, назван по имени его сына.
Но счастливые для Микеланджело и для поэзии дни, промелькнув быстро, близились уж к концу. Едва достигнув сорока четырех лет, Лоренцо сведен был в могилу смертельной болезнью; излишне говорить, что он сумел умереть, как подобает великому человеку. Сын его, впоследствии Лев X, получил кардинальскую шапку. Пышность, с которой Флоренция отпраздновала это событие, искренний восторг граждан, порыв их любви - все это составило заключительную сцену в прекрасной жизни Лоренцо.
Он приказал перенести себя на виллу Кареджи; друзья, плача, сопровождали его туда; он шутил с ними в те минуты, когда страдания давали ему короткую передышку. Он угас, наконец, 9 апреля 1492 г., и вместе с этой утратой мировая цивилизация, казалось, шагнула на сто лет назад.
Вполне понятно, что у этого великодушного государя Микеланджело научился всему, кроме ремесла царедворца. Напротив, весьма вероятно, что, видя обращение с собой как с равным со стороны лучших людей эпохи, он рано утвердился в той римской гордости, которая не склонит головы ни перед какой низостью и которую он обессмертил тем, что сумел придать столь поразительную экспрессию "Пророкам" Сикстинской капеллы.
Глава CXXXVII. Превратности судьбы при монархическом строе
Вместе с Лоренцо Великолепным окончилась единственная светлая полоса в воспитании Микеланджело; ему было восемнадцать лет (1492). На другой же день он печально возвратился к отцу, где горе мешало ему работать. Выпал большой снег - редкость во Флоренции; у Пьетро Медичи явилась фантазия сделать у себя на дворе колоссальную фигуру из снега, и он вспомнил о Микеланджело; он велел позвать его, очень остался доволен статуей и приказал вернуть художнику его комнату и содержание, которое он получал при отце.
Старик Буонаротти, видя, каким успехом продолжает пользоваться его сын у самых сильных людей в городе, начал склоняться к мысли, что скульптура не такое уж низкое занятие, и снабдил сына более приличной одеждой.
Флоренцию возмущала глупость нового правителя, который начал с того, что засадил в подземную темницу врача своего отца. Что касается его сношений с учеными и художниками, то история передает, что Пьетро особенно был доволен, что имеет при себе двух выдающихся людей: Микеланджело, которого он считал великим скульптором, и еще одного скорохода-испанца, на редкость красивого и столь проворного, что как бы быстро Пьетро ни пускал своего коня, скороход все равно его обгонял.
По возвращении во дворец Микеланджело сделал деревянное распятие, почти натуральной величины, для приора Сан-Спирито; монах оказался человеком неглупым и захотел поощрить молодого гения. Он предоставил Микеланджело одну из потайных комнат в монастыре и велел доставлять ему трупы, при помощи которых Микеланджело мог удовлетворить свою страсть к изучению анатомии.
Глава CXXXVIII. Поездка в Венецию, арест в Болонье
Некий Кардьер, музыкант Лоренцо Медичи, прекрасно импровизировавший, аккомпанируя самому себе на лире, и, пока был жив Лоренцо, являвшийся к нему петь каждый вечер, пришел однажды утром смертельно бледный к Микеланджело. Он рассказал, что минувшей ночью ему явился Лоренцо, облаченный в безобразную, изодранную черную мантию, и ужасным голосом велел ему передать Пьетро, что вскоре он будет изгнан из Флоренции. Микеланджело заклинал друга исполнить волю их благодетеля. Бедняга Кардьер поплелся на виллу Кареджи, чтобы исполнить приказание призрака. На полдороге ему встретился Пьетро, возвращавшийся в город со всем своим двором, и Кардьер остановил его, чтобы передать ему свою весть; можно себе представить, как она была принята.
Увидев такую закоснелость Медичи, Микеланджело тотчас уехал в Венецию. В наши дни, когда политические перемены влияют лишь на судьбу правительств, это бегство было бы смешным. Иначе обстояло дело во Флоренции; там уже хорошо было известно изречение, что не возвращаются только мертвые и переходы от монархии к республике или от республики к монархии всегда сопровождались многочисленными убийствами. Итальянский характер, столь гордый от природы, но в те времена еще более мрачный, мстительный страстный, чем теперь, не упускал случая предаться мщению. По водворении же порядка новое правительство отыскивало не виновных, а их сторонников.
В Венеции у Микеланджело скоро вышли все деньги, тем более что он взял с собой двух приятелей, и вот он двинулся в обратный путь через Болонью. В этом городе в то время действовало полицейское распоряжение, согласно которому все иностранцы, вступавшие в город, обязаны были иметь на ногте большого пальца отпечаток из красного сургуча; так как Микеланджело не знал этого правила, он приведен был к судье и присужден к штрафу в пятьдесят ливров, которых уплатить не мог. Один из Альдрованди - этой благородной фамилии, в которой любовь к искусству передается по наследству,- присутствовал на суде; он потребовал освобождения Микеланджело и увел его в свой дворец. Каждый вечер он заставлял его декламировать, на прекрасном его флорентийском наречии, какой-нибудь отрывок из Петрарки, Боккаччо или анте.
Как-то раз, прогуливаясь вдвоем, они вошли в церковь св. Доминика. У алтаря или у гробницы, над которой трудились некогда Джовани Пизано и Николо делл'Урна, недоставало двух небольших мраморных статуй - св. Петрония, в верхней части памятника, и коленопреклоненного ангела с факелом в руке.
Выразив свое восхищение старыми ваятелями, Альдрованди спросил у Микеланджело, чувствует ли он в себе достаточно смелости, чтобы сделать эти две фигуры. "Конечно",- сказал молодой человек; и его друг приказал поручить ему эту работу, которая дала ему тридцать дукатов.
Эти фигуры весьма любопытны; они ясно показывают, что великий художник начал с тщательного воспроизведения природы и сумел передать всю ее грацию и morbidezza*.
* (Томное изящество (итал.).)
Если позже от этой манеры он сильно уклонился, то сделал это вполне преднамеренно, стремясь достичь идеальной красоты. Его. грозный, величественный стиль порожден этим замыслом, его страстью к анатомии и случайно представившейся ему возможностью выполнить на своде Сикстинской капеллы в Риме работу, требовавшую, по понятиям тогдашнего времени о божестве, именно того стиля, к которому влекло его самого.
Глава CXXXIX. Хотел ли он подражать античным произведениям?
Прожив в Болонье год с небольшим, Микеланджело, когда его пригрозил убить один местный скульптор, возвратился во Флоренцию. Медичи уже давно были оттуда изгнаны*, и спокойствие начинало там восстанавливаться.
* (Изгнанные вторично в 1494 г., они возвратились во Флоренцию лишь в 1512 г. (Varchi, lib. I).)
Он сделал небольших размеров "Святого Иоанна", затем "Спящего Амура". Один из Медичи, принадлежавший к республиканской их ветви, купил первую статую и, придя в восторг от второй, заявил Микеланджело: "Если бы ты придал ей такой вид, словно она только что вырыта из-под земли, я отослал бы ее в Рим; ее приняли бы за античную, и ты продал бы ее гораздо выгоднее".
Буонаротти, которому очень пришлось по душе такое испытание его таланта, придал белизне мрамора тусклый оттенок; статуя была отправлена в Рим, и Рафаэль Риарио, кардинал Сан-Джорджо, приняв ее за античную, дал за нее двести дукатов. Некоторое время спустя, когда правда дошла до его высокопреосвященства, он почувствовал себя сильно задетым тем оскорблением, которое нанесено было верности его вкуса. Один из его приближенных спешно был послан во Флоренцию, будто бы для того, чтобы приискать там скульптора для какой-то большой работы. Он осмотрел все мастерские и, наконец, зашел к Микеланджело, которого попросил показать что-нибудь из его работ; молодой художник ответил, что в данный момент у него нет ничего законченного; он взял перо, так как карандашами тогда еще не пользовались, и, продолжая беседовать с дворянином, нарисовал руку,- вероятно, ту, которая теперь в Парижском музее*. Посланный пришел в восторг от великолепия его стиля, весьма похвалил его и спросил, какая была его последняя работа. Микеланджело, забыв об античной статуе, ответил, что он сделал из мрамора "Спящего Амура" лет шести или семи, такой-то величины, в такой-то позе - словом, описал ему статую, которую купил кардинал; после чего дворянин открыл ему цель своей поездки и стал всячески уговаривать его переселиться в Рим, где он сможет проявить и умножить свои редкие дарования. Он сообщил Микеланджело, что хотя его посредник и уплатил ему за статую всего лишь тридцать дукатов, на деле он получил за нее от кардинала двести дукатов и что кардинал заставит плута доплатить ему, что следует. Кардинал, действительно, приказал арестовать продавца, но только для того, чтобы отобрать него деньги и отдать ему статую, впоследствии она была куплена Цезарем Борджа, который подарил ее маркизе Мантуанской. Интересно было бы узнать, в самом ли деле кардинал был знатоком. Я тщетно пытался выяснить это. Для человека с кипучим оригинальным дарованием подражание - вещь немыслимая: Микеланджело должен был выдавать себя на каждом шагу.
* (По крайней мере рука, нарисованная для кардинала, находилась в собрании Мариетта.)
В Болонье он был зеркалом природы. Прежде чем устремиться навстречу великому своему открытию, искусству идеализации, может быть, он пытался подражать античности.
Он сгорал от нетерпения увидеть Рим и отправился туда вслед за дворянином, который поселил его у себя; но в кардинале он нашел только оскорбленное честолюбие. Встретив пренебрежение со стороны того, в ком надеялся найти себе покровителя, он изваял для одного знатного римлянина, по имени Джакомо Галли, "Вакха" Флорентийской галереи. Ему хотелось дать почувствовать, говорит Кондиви, переданный нам античностью образ мирного завоевателя Индии. В его замысел входило придать ему это смеющееся лицо, эти слегка косящие, сладострастные глаза, которые иногда можно видеть у только что охмелевшего человека. На голове у бога - венок из виноградных листьев, в правой руке он держит чашу, на которую нежно поглядывает, а левая покрыта тигровой шкурой.
Микеланджело изобразил шкуру тигра вместо живого зверя, чтобы дать понять, что чрезмерное пристрастие к напитку, изобретенному Вакхом, сводит в могилу. В левой руке у бога виноградная гроздь, которую ест тайком хитрый маленький сатир.
Глава CXL. Он не стремится вызывать к своим образам симпатию, но делает их внушительными
Микеланджело родился, чтобы осуществить в искусстве именно то, что он сам хотел сделать, а не что-либо иное. Он был не такой человек, чтобы довольствоваться сделанным кое-как. Если он ошибался, то виной этому был его вкус, а не его мастерство. Если он в природе брал не те вещи, которые указывал ему античный идеал красоты, насколько он в те времена был известен, так это потому, что он их не чувствовал. Я готов сказать, что у него была душа великого полководца*. Всегда погруженный в мысли, непосредственно относящиеся к искусству, он вел очень замкнутый, отшельнический образ жизни. Он не воспитывал в себе эту чувствительность, потому что не подвергал ее обычным житейским случайностям; ему показалась бы смешной меланхолия, в которой черпал вдохновение. Моцарт.
* (Леди Макбет не сказала бы ему:
I fear thy nature; It is too full o'the milk of human kindness To catch the nearest way.**
"Макбет", сцена V.)
**
(
"Но я боюсь, что нрав твой Чрезмерно полон благостного млека, Чтоб взять кратчайший путь"...
Шекспир "Макбет", действие I, явл. 5.
Перев. М. Лозинского.)
Я основываюсь на его жизнеописании, появившемся в печати у него самого на глазах, в Риме, в 1553 г., за десять лет до его смерти. Кондиви, его ученик, с которым Микеланджело был очень откровенен, смотрит на все глазами учителя, помнит все его наставления и недостаточно умен, чтобы лгать. Небольшая книжка, которую он опубликовал, может поэтому рассматриваться как сотканная почти из одних только мыслей Микеланджело.
Если было что на свете, наименее доступное таланту великого скульптора, так это, конечно, сладострастное выражение античного Вакха. Во всех видах искусства необходимо самому испытать те ощущения, которые хочешь вызвать в других. Без своего особенного религиозного чувства Микеланджело, быть может, создал бы "Аполлона Бельведерского", но ни в коем случае не Madonna alia scodella, и я хорошо понимаю милейшего Льва X, отказавшегося от его услуг.
Это задуманное им выражение Вакха запечатлено в одной несравненной мраморной статуе, находящейся теперь в Париже*. Человек восприимчивый при взгляде на нее не может не быть растроган: это картина Корреджо, только из мрамора. При виде образа, в котором так мало суровости этого древнейшего из завоевателей, вы как будто слышите, на языке небесной гармонии, которой не осквернили еще уста профанов, прекрасную октаву Тассо:
...Amiamo or quando Esser si puote riamato amando,
*(В 1811 г. в Музее античного искусства, в зале Аполлона, направо от входа.)
** (Будем любить сегодня, пока возможно, любя, быть любимым..
Тассо. Освобожденный Иерусалим, песнь XVII.)
воспевающую торжество чувственных радостей над утехами гордости.
Я много раз смотрел на статую Микеланджело; она очень далека от этого сочетания сладострастия, беспечности и божественности, которое излучает из себя античный Вакх. Флорентийская статуя всегда мне казалась идиллией, написанной в стиле Уголино*.
* (Стиль Уголино - стиль 33-й песни "Ада", где рассказывается история Уголино. Уголино в поэме Данте грызет голову своего врага епископа Руджери, мстя ему за свою смерть и смерть своих сыновей.)
Грудь Вакха у Микеланджело очень выпуклая; художник угадывал, что в античном искусстве главное - выражение силы; но лицо - сухое и неприятное: он не мог угадать, каковы должны быть выражения античных добродетелей. Очевидно, достигнув превосходства над всеми современными ему скульпторами, он устремился в поиски идеала, отвергнув рабское подражание, но не зная, с чего начать, чтобы достигнуть великого.
Таким-то образом этот человек, одаренный от природы не меньше, чем любой из тех, чью память хранит история, сбросил путы, которые со времени возрождения цивилизации удерживали художников в стеснительных пределах узкого и мелочного стиля.
Но люди нового времени, воспитанные на рыцарских романах и на религии, которые во всем ищут души, скажут, что по возвращении из Болоньи во Флоренцию ему недоставало увидать "Аполлона" или "Геркулеса Фарнезского". Его вкус развился бы до умения выражать высокие свойства души, вместо того, чтобы ограничиться выражением физической силы и силы характера; ведь наша жадная душа требует от искусства изображения страстей, а вовсе не порождаемых страстями поступков.
Глава CXLI. Трогательное зрелище
После "Вакха" Буонаротти изваял для кардинала Сан-Дионисио знаменитую группу, по имени которой названа капелла della Pieta* в соборе св. Петра. Мария держит у себя на коленях тело сына, которое только что несколько преданных друзей сняли с креста.
* (На прекрасном итальянском языке una pieta означает чаще о воспроизведение самого трогательного в христианской религии зрелища.)
Очень досадно, что красноречие проповедников и рисунки одинакового с ним достоинства, украшающие церковные скамьи, притупили в нас восприимчивость к этому душераздирающему зрелищу. Наши крестьяне, более счастливые, чем мы, не задумываясь над смехотворностью исполнения, испытывают впечатление непосредственно от самого зрелища, которое им предлагают.
Факт этот поразил меня однажды в прекрасном соборе богоматери в Лоретто, на берегу Адриатического моря. Одна молодая женщина обливалась слезами во время проповеди*, глядя на дрянную картину с изображением Pieta, как в знаменитой группе Микеланджело.
* (16 октября 1802 г.)
Я, человек образованный, находил, что проповедь смешна, а картина отвратительна; я зевал и оставался там, только исполняя долг путешественника.
Когда Людовик XI, приказав отрубить голову герцогу Немурскому, велел поставить его малолетних детей около самого эшафота, так, чтобы на них упали брызги отцовской крови,- мы содрогаемся, читая об этом в истории; но дети были тогда еще очень малы, и их, может быть, не столько потрясло, сколько удивило исполнение этого бесчеловечного приказания; они слишком мало еще знали, что такое человеческое горе, чтобы почувствовать весь ужас совершавшегося.
Если один из них, постарше других, и почувствовал тот ужас, то мысль о мщении, не менее жестоком, чем оскорбление, наполнила, конечно, его душу, придав ей жизнь и силы. Но престарелая мать, не испытавшая супружеской любви,- мать, вся нежность которой устремлена была лишь на сына, юного, прекрасного, одаренного, как никто, и отличавшегося притом такой душевной отзывчивостью, как если бы он был самый обыкновенный человек! Ей не на что больше надеяться, не на кого больше опереться; она далека от того, чтобы жить надеждой на мщение: что она может, бедная и слабая женщина, против разъяренного народа? У нее нет больше этого сына, самого ласкового и нежного из людей, наделенного именно теми качествами, которые особенно любят женщины,- чарующим красноречием, к которому он непрестанно прибегал, чтобы развивать философию, в которой слово любовь и самое это чувство встречались на каждом шагу.
После того как видела она его позорную казнь, она держит теперь у себя на коленях безжизненную его голову. Вот, без сомнения, высшая скорбь, какую может испытать материнское сердце.
Глава CXLII. Противоречие
Но религия в одно мгновение уничтожает все то трогательное, что могло бы быть в этом событии, если бы оно происходило в смиренной хижине*. Если Мария верит, что ее сын бог - а сомневаться в этом она не может,- она верит и в то, что он всемогущ. Теперь читателю нужно лишь проникнуть к ней в душу, и если ему хоть сколько-нибудь доступно истинное чувство, он поймет, что Мария не в состоянии любить Иисуса материнской любовью, той кроткой любовью, которая состоит из воспоминаний о былых заботах друг о друге и надежд на поддержку в будущем.
* (См. примечание в конце Вступления. Излишне повторять, что мы говорим с точки зрения художников, будучи вынуждены, к сожалению, исследовать произведения искусства с чисто человеческой стороны: ибо, повторяем, на картинах мы видим всего лишь поступки и страсти слабых смертных. Какой художник решится святотатственно утверждать, что он изобразил божество? Такое притязание было бы к лицу лишь язычникам, а эти язычники, при всей их отсталости, восхитились бы "Святой Цецили" ей" Рафаэля. Мало ли еретиков испытало в Музее то же наслаждение, что и истинно верующие! Р. Ш.)
Если он умер, то, очевидно, это было в его намерениях, и тогда эта смерть, далеко уж не трогательная, ненавистна для Марии, полюбившей его, пока он носил смертную оболочку. Ему следовало - будь у него к ней простое чувство признательности - по крайней мере скрыть от нее это зрелище.
Излишне говорить, что эта смерть для Марии непонятна. Бог, всемогущий и всеблагой, терпит человеческие смертные муки, чтобы утолить месть другого, равно всеблагого бога!
Смерть Иисуса, не будучи скрыта от взоров Марии, по отношению к ней могла быть лишь ненужной жестокостью. И вот уже мы бесконечно далеки от умиления и материнских чувств.
Глава CXLIII. Разъяснения
Всемогущему существу можно поклоняться, но любить его невозможно. Перед лицом сильных мира сего мы испытываем минуты опьянения, когда, например, король берет нас под руку, чтобы пройтись по саду.
Наш ум уже предвкушает счастье, которое воспоследует за столь высокой милостью. Кроме того, как бы могущественны ни были земные цари, они тоже ведь люди; и, подобно нам, у них есть свои горести.
Если мы были в походе с тем, кто говорит с нами, мы видели, как он, улыбаясь, дернул лошадь за повод, чтобы уклониться от ядра, прыгавшего рикошетом. Однажды он отказался от куска хлеба, когда нам недоставало его, чтобы отдать этот кусок несчастному раненому. В другой раз он помиловал шпионов, обвиненных в покушении на его жизнь. Вот поступки человека, и притом привлекательного,- случаи, которые показывают, что во многих отношениях этот государь был создан, как и мы, из плоти и крови; вот, словом, черты, которые могут подчас вызвать в юном сердце мимолетное чувство, похожее на приязнь.
Но вообразим на мгновение, что государь, так хорошо обходившийся с нами, действительно всемогущ, в точном смысле этого слова.
Ему незачем было стараться избегнуть ядра, прыгавшего рикошетом: ему стоило только приказать ядру остановиться.
Ему не надо было делать усилий над собой, чтобы простить жалких убийц, потому что он бессмертен.
Не могло быть жертвой с его стороны и то, что он отдал последний кусок хлеба несчастному раненому. Раненого надо было сейчас же исцелить или, еще лучше, сделать так, чтобы не было ни раненых, ни несчастных; мы видим, что нравственная красота сразу же исчезает вместе с человеческими чертами.
Больше того, если этот чудесный король исцеляет раненого прикосновением волшебной палочки, он делает очень легкую вещь, гораздо менее значительную, чем поступок государя, простого смертного, отдающего последний кусок хлеба.
Одним словом, этот всемогущий царь, это существо, главным свойством которого является сила, к счастью которого мы ничего не могли бы прибавить, не может быть несчастным. Тщетно ищу я на его челе роковую печать человечности. И сразу же я вижу в своем сердце, что в какое бы положение ни поставили меня по отношению к подобному существу, любить его я не способен.
Таково наслаждение, доставляемое нам рассматриванием произведений великих художников: они сразу же приводят к вопросам о человеческой природе*.
* (Записано в соборе св. Петра, в Ватикане, 1 июля, в пять часов утра В этот час удобнее всего осматривать римские церкви; позже толпа молящихся вам мешает. Надо только предупредить сторожа накануне.)
Глава CXLIV. О том, что нет истинного величия без жертвы
Какие-нибудь академические философы не упустят случая заметить, что нет ничего легче для искусства, как выражать чувства божества. Это тем легче, что мы совершенно не в состоянии представить себе даже простейшее из тех чувств, которые может испытывать божество по отношению к человеку. Если кто-нибудь придерживается противоположного мнения, дайте ему чернила и бумагу и попросите изложить письменно то, что он так хорошо понимает.
Искусство не может трогать сердца иначе, как только изображая человеческие страсти, в чем мы имели случай убедиться на примере самого трогательного зрелища, какое может предложить нам религия; как только при созерцании чудесных картин в наших церквах у нас возникает какая-нибудь религиозная мысль, слезы сейчас же останавливаются. Религия Фенелона - не более, как сентиментальный эгоизм.
Молодая женщина в Лоретто видела убитым, со склоненной на колени головой, своего сына или любовника или, может быть, верила, что любящая и скорбная мать имеет власть открыть ей доступ в рай,- и вот она горько каялась в том, что прогневала ее своими грехами.
Зритель, достаточно размышлявший, чтобы убедиться, что не это следует себе представлять, не знал, что ему сделать, чтобы умилиться.
Изображение события, в котором сам бог выступает в качестве действующего лица, может быть оригинальным, любопытным, необычайным, но только не трогательным. Сам Канова напрасно взялся бы за сюжет Микеланджело. Он умножил бы число крестьянок из Лоретто, но не заставил бы нас пережить ничего нового. Бог может быть щедр на благодеяния; но так как, осыпая нас ими, он ничего не отнимает у себя, моя благодарность - если только я исключу расчет на получение новых выгод путем пылкого ее проявления - неизбежно будет менее живой, чем та, которую я испытывал бы по отношению к человеку*.
* (Именно поэтому наш божественный спаситель стал человеком, когда захотел испытать человеческие слабости. Возвышение чувство душевного умиления, благодаря которому приход мессии умерил в наших сердцах благоговение к богу Израиля, есть не что иное, как сладостная эманация этой волнующей и непостижимой тайны.)
А японец, спросят меня, который на картине Тьярини в капелле св. Доминика в Болонье видит, как его ребенка воскрешает св. Франциск-Ксаверий? Если он испытывает живейшее чувство благодарности, отвечу я, так это потому, что это чувство внушает ему человек. Если бог совершил это чудо, то почему же, спрашивается, он, будучи всемогущим, допустил, что этот несчастный ребенок умер? Но и сам св. Франциск - Ксаверий,- чем он жертвует, воскрешая его? Это Геркулес, выводящий Алкесту из царства мертвых, но не Алкеста, жертвующая собою, чтобы сохранить жизнь своему супругу.
Единственное чувство, которое божество может внушать слабым смертным,- это страх, и Микеланджело для этого, казалось, и родился, чтобы запечатлеть этот страх в сердцах посредством красок и мрамора.
Выяснив, таким образом, как далеко простирается власть искусства, перейдем к тому, что касается исключительно лишь художника.
Глава CXLV. Микеланджело - сын своего века
Угодно вам действительно познакомиться с Микеланджело? Надо стать гражданином Флоренции 11499 года. Но ведь мы не заставляем иностранцев, которые приезжают в Париж, иметь отпечаток красного воска на ногте большого пальца: мы не верим ни в привидения, ни в астрологию, ни в чудеса*. Английская конституция показала миру настоящее правосудие, и атрибуты божества изменились**. Что касается просвещения, у нас есть античные статуи и все, что по поводу них сказано умными людьми, а также опыт трех столетий.
* (Мы говорим о чудесах нашего времени, но исполнены благоговения и веры в отношении тех чудес, которые господь счел необходимыми, чтобы утвердить истинную религию.)
** (Это означает, что люди составили себе о нем более правильное представление (см. "Человек желания").)
Если бы во Флоренции большинство людей уже достигло этого уровня, до чего бы только не дошел гений Буонаротти! Но простейшие понятия нашего времени показались бы тогда сверхъестественными. Только своим сердцем, внутренним своим порывом люди того времени оставляют нас далеко позади. Мы теперь различаем путь, по которому надлежит идти, но от старости колени наши отвердели; и, подобно очарованным принцам арабских сказок, мы напрасно расточаем силы на бесполезные движения: идти мы не в состоянии. В течение двух столетий так называемая вежливость осуждала сильные страсти и, подавив, уничтожила их: только в деревнях можно было их еще встретить**. Девятнадцатый век вернет им их права. Если бы в наше просвещенное время у нас явился новый Микеланджело, чего бы только он не достиг! Какой поток новых ощущений и радостей излился бы от него на общество, так хорошо подготовленное театром и романами! Может быть, он стал бы творцом новой скульптуры; может быть, он принудил бы ее выражать страсти, если только страсти вообще ей к лицу. Но выражать душевные состояния - к этому Микеланджело уж принудил бы ее обязательно. Голова Танкреда* после смерти Клоринды; Имогена, узнающая, что Постум ей изменил; кроткое лицо Эрминии, когда она приходит к пастухам; искаженные черты Макдуфа, требующего, чтобы ему рассказали об убийстве его малолетних детей; Отелло после убийства Дездемоны; Ромео и Джульетта, пробуждающиеся в склепе; Уго и Паризина, выслушивающие себе приговор из уст Николо,- вот что появилось бы в изображениях из мрамора, и античная скульптура отошла бы на задний план.
* (Танкред, Клоринда. Эрминия - герои "Освобожденного Иерусалима" Тассо; Имогена, Постум - герои драмы Шекспира "Цимбелин"; Макдуф - герой "Макбета"; Уго, Паризина, Николо - герои поэмы Байрона "Паризина" (вышедшей в свет в феврале 1816 года).)
** (История Маино, замечательного вора, убитого в 1806 году, около Александрии (В.И.))
Флорентийский художник ничего этого не видал, а знал лишь, что страх - первое чувство в человеке, что он сильнее всего, что ему, Микеланджело, блестяще удавалось пробуждать его в сердцах. Несравненное знание анатомии придало ему новый пыл; и он на этом остановился.
Как мог бы он догадаться, что существует иная красота? Античная красота в его время нравилась только своими контурами. Чтобы любоваться "Аполлоном", нужна учтивость древних Афин; Микеланджело постоянно был занят, помимо своей воли, религиозными или военными сюжетами: мрачная жестокость составляла религию его века.
Сладострастие, к которому в Италии предрасполагает климат, и ее богатства устранили там фанатизм. Савонарола со своими мыслями о реформе вдохнул было на минуту во все сердца Флоренции эту мрачную страсть. Новатор этот произвел впечатление, особенно на людей сильных, и история передает, что Микеланджело всю жизнь преследовал ужасный образ этого монаха, умирающего в огне. Он был близким другом несчастного. Его душа - не столько чувствительная, сколько сильная - навсегда была поражена ужасами ада, а умы его современников гораздо больше, чем наши, были подготовлены к тому, чтобы подчиниться этому чувству. Несколько государей и кардиналов были, правда, деистами, но воспоминания раннего детства все же сохранялись. А мы уже в двенадцать лет читали Вольтера*.
* (Автор отнюдь не оправдывает того, о чем он сообщает в качестве историка.)
Вся обстановка XV века удаляла таким образом Микеланджело от благородных и бодрых чувств, выражение которых составляет красоту XIX века.
Он был более чем кто-либо представителем своей эпохи и не предугадывал, как Леонардо да Винчи, мягкости нравов следующей эпохи. Доказательство этому - в следующем характерном различии: глядя на какой-нибудь персонаж Микеланджело, мы думаем о том, что он делает, а не о том, что он чувствует.
Мадонна в Pieta для нас, конечно, отнюдь не образец красоты; а между тем, когда Микеланджело закончил ее, ему ставили в упрек, что он придал так много красоты матери тридцатилетнего человека.
"Эта мать была девой,- гордо ответил художник,- а ведь вы знаете, что душевная чистота сохраняет свежими и черты лица. Возможно даже, что небо, чтобы засвидетельствовать небесную чистоту Марии, позволило ей сохранить всю нежную свежесть молодости, тогда как, чтобы подчеркнуть, что спаситель действительно приобщился всем человеческим страданиям, необходимо было, чтобы божественная его природа не укрыла от нас ни одного из его человеческих свойств. Вот почему мадонна моложе своего возраста, а спасителю, наоборот, я придал его возраст"*.
* (Condivi, стр. 32**. Микеланджело как художник, подобно нам, полагал, что бог может вызвать нашу симпатию только в том случае, если он оказывается подвержен человеческим слабостям, как мы уже говорили в примечании к стр. 321.)
** (Ссылка на стр. 32 сочинения Кондиви не соответствует ни первому, ни второму изданию его, которые появились до "Истории живописи" Стендаля.)
Перед вами богослов, а вовсе не страстный человек, пользующийся своими воспоминаниями с непоколебимой смелостью строгой логики; его эпоха была далека от того, чтобы делать ему какие-нибудь возражения по поводу слишком подчеркнутой мускулатуры Христа. Он сделал из него лишь атлета, ибо, следуя своим принципам идеальной красоты, он не мог передать его душевных качеств*. Чтобы вам не приходилось все время верить мне на слово, приведу некоторые из рассуждений Вазари**: он восхваляет красоту этого Христа, которого он находит прекрасным вследствие замечательной точности, с которою переданы мускулы, жилы, сухожилия. Вы знаете лучше, чем я, что, именно опуская все эти подробности и смягчая резкость мускулатуры, греческий художник сумел нас заставить при виде "Аполлона" сказать: "Это бог".
* (Надо сказать, что эта "Pieta" Микеланджело, находящаяся в первой капелле направо от входа, помещена слишком высоко и плохо освещена. Это - несчастье трех четвертей художественных произведений, находящихся в церквах. Эту "Pieta" испросил у Микеланджело французский посол, кардинал де Вилье, поместивший ее в Французской капелле, в старом соборе св. Петра. Когда Браманте разрушил старинную постройку, "Pieta" Буонаротти была перенесена и поставлена на алтарь на хорах, а затем - на алтарь в крестовой капелле***. Существует копия с нее из мрамора, сделанная Нанни, в церкви дель Анима, и другая копия, из бронзы, в церкви cв Андрея. В церкви Сан-Спирито во Флоренции, в той самой, где находится деревянное "Распятие" Микеланджело, имеется копия из мрамора В Марчалле, расположенной на пути в Пизу, показывают копию в виде фрески, которую приписывают Микеланджело.)
** (Alia quale opera поп pensi mai scultore ne artifice raro Pptere aggiugnere di disegno ne di grazia, ne con fatica poter mai ai nnezza, pulitezza, e di straforare il marmo con tanto d'arte quanto Micnelagnolo vi fece, perche si scorge in quella tutto il valore ed il potere de1l' arte. Fra le cose belle che vi sono, oltra i panni si scorge il morto Cristo; e поп si pensi alcuno di belezza di membra e d' artificio di corpo vedere uno ignudo tanto ben ricerco di muscoli, vene, nervi, sopra l'ossatura di quel corpo, ne ancora un morto piu simile al morto di quelle Quivi e dolcissima aria di testa, ed una concordanza nelle appiccature e congiunture delle braccia, ed in quelle del corpo e delle gambe, i polsi e le vene lavorate, che in vero si maraviglia lo stupore, etc., etc., etc. (Vasari, X, pag. 30)****.)
*** (Кардинал де Вилье, аббат Сен-Дени, посланник Карла VIII при Александре VI, умер в Риме в 1199. Чакконио говорит об этом кардинале: "Romae agens curavit fabricari a Michaele Angelo Bonnarrota, adhuc adolescente, excellentissimam iconem marmoream D. Mariae, et Filii morui inter brachia materna jacentis, quam posuit in capella regia Fransiae in D. Petri ad Vaticanum templo"*****.)
**** (Да не помыслит скульптор, ни самый искусный художник что-либо прибавить к этому произведению в отношении рисунка или изящества; несмотря ни на какие свои усилия, он не сможет превзойти Микеланджело в тонкости, изяществе и не сможет ваять мрамор с таким искусством, как то сделал он, так как здесь можно увидеть все превосходство и силу искусства. Среди красивых вещей, здесь находящихся, кроме божественной одежды, изображен мертвый Христос; и пусть никто не надеется когда-либо увидеть тело столь совершенное по красоте частей его и знанию анатомии,- тело, у которою мускулы, вены и жилы так хорошо выделяются на костяке, или мертвого, более похожего на мертвеца, чем этот. Это выражение головы, столь полное нежности, такая гармония в суставах и связках рук, в соединениях туловища и ног, пульс, вены - так хорошо разработаны, что поистине в восхищении изумляешься, и т. д.)
***** (Римский посланник заказал Микеланджело Буонаротти, в то время юноше, превосходнейшее мраморное изображение ев Марин и мертвого сына ее, лежащего на руках матери, которое и поставил во Французской королевской капелле храма cв Петра в Ватикане.)
Однажды в соборе св. Петра Микеланджело увидел толпу иностранцев, любующихся его группой. Один из них осведомился об имени художника. Ему ответили: "Гоббо из Милана". Вечером Микеланджело заперся в соборе. Он захватил с собой лампу и резец; и в течение ночи он вырезал свое имя на поясе у Мадонны.
Глава CXLVI. Колоссальный Давид
После того как закончена была группа "Pieta", семейные дела заставили Буонаротти вернуться во Флоренцию (1501). Он изваял колоссальную статую "Давида", которая находится на площади Палаццо Веккьо.
Отыскался нотариальный договор на эту работу. Микеланджело обязывался перед цехом купцов, собиравшихся в Санта-Мария-дель-Фиоре, высечь статую высотою приблизительно в десять брассов (пять метров двадцать два сантиметра) из глыбы мрамора, попорченной за много лет до того одним неумелым ваятелем. Он должен был начать работу 1 сентября 1501 года. Ему назначалось каждый месяц в течение десяти лет по шести флоринов larghi*; кроме того, в его распоряжение обязывались предоставить необходимых ему рабочих. Микеланджело приготовил модель из воска, соорудил совершенно закрытый барак вокруг мраморной глыбы и приступил к работе 13 сентября 1501 года. Он очень удачно разрешил задачу: имея уже обтесанный вчерне кусок мрамора, найти возможную при этих условиях позу. "Давид" изображен во весь рост. Это очень молодой человек, в руке у которого праща. Первоначальная обтеска видна еще на темени и на одном плече, которое оставалось немного вдавленным.
* (Широких (итал.).)
Стоит проследить, как совершенствовался стиль Микеланджело. В барельефе с изображением "Битвы" он еще очень скуп на выпуклые очертания; здесь меньше силы и есть даже известная мягкость линий.
"Вакх", больше чем все другие его работы,- произведение греческое.
Есть еще немного мягкости в "Pieta", в храме св. Петра.
Эта мягкость совсем исчезает в колоссальном "Давиде"; отныне художник становится грозным Микеланджело.
Подражание ли это античности или подражание природе, как в Болонье?
Содерини, который пришел посмотреть на статую, заявил, что находит в ней большой недостаток: нос чересчур велик. Скульптор берет немного мраморной пыли и резец; он делает для виду несколько ударов молотком, не прикасаясь при этом к статуе, и при каждом ударе на землю падает немного пыли. "Вы придали ему жизнь!" - восклицает гонфалоньер. У Вазари мы находим следующее рассуждение*: "Поистине, с тех пор как этот "Давид" водружен на площади (1504), он совершенно затмил славу всех статуй новейших и античных художников, римских и греческих. Можно смело сказать, что ни "Марфорио" в Риме, ни "Тибр" или "Нил" в Бельведере, ни "Гиганты" в Монтекавалло не идут с ним в сравнение,- столько красоты сумел придать ему Микеланджело. Никто никогда не видел более грациозной позы, более изящных контуров ног. Нет сомнения, что, раз посмотрев на эту статую, всякий утратит охоту смотреть что-либо из произведений как новых, так и античных, какому бы скульптору они ни принадлежали"**. Содерини дал Микеланджело четыреста скудо. Он заказал ему группу из бронзы, изображающую "Давида и Голиафа", которая увезена была во Францию, где с ней неизвестно что стало. Так же обстоит дело со статуей "Геркулеса", высеченной Микеланджело еще до его поездки в Венецию***.
* (Том X, стр. 52 по сьеннскому изданию.)
** (Напротив, этот "Давид" весьма посредствен, и как раз тяжеловаты в нем ноги.)
*** (Высотою в два метра тридцать два сантиметра.)
Фламандские купцы отослали к себе на родину бронзовый барельеф, изображающий "Мадонну с младенцем Иисусом". Микеланджело сделал эскиз статуи "Святого Матфея", которую и сейчас еще можно видеть на переднем дворе церкви Санта-Мария-дель-Фиоре; он ее не закончил, может быть, потому, что поза у нее слишком вычурна.
Чтобы не забросить окончательно живописи, Микеланджело написал для Анджело Дони "Мадонну", которая находится в Трибуне Флорентийской галереи, рядом с замечательными по грации произведениями Леонардо и Рафаэля. Это Геркулес с прялкой в руках. В отдалении видны другие фигуры; некоторые из них изображены нагими, причем Микеланджело разработал их мускулатуру до мельчайших подробностей, совершенно не считаясь с воздушной перспективой.
Глава CXLVII. Через пятнадцать веков снова обретают искусство идеализации
Содерини, все больше и больше ценивший его дарование, поручил ему расписать фресками часть Залы Совета во дворце Синьории (1504). Леонардо да Винчи занялся другой ее частью.
Он изобразил там победу, одержанную при Ангьяри над знаменитым Пиччинино, полководцем миланского герцога, и решил поместить на переднем плане кавалерийскую стычку с захватом знамени.
Буонаротти должен был изобразить пизанскую войну, и главным сюжетом он избрал один эпизод, содержащийся в рассказе о битве. В день битвы стояла ужасная жара, и часть пехоты спокойно купалась в Арно, когда внезапно раздался призыв к оружию; один из флорентийских военачальников заметил неприятеля, быстро приближавшегося с целью атаковать войска республики.
Микеланджело уловил именно это первое движение тревоги и готовности сражаться у солдат, застигнутых врасплох криком "К оружию!".
Бенвенуто Челлини, столь скупой на похвалы, писал в 1559 году: "Эти нагие пехотинцы хватаются за оружие, и движения их так прекрасны, что никогда еще древние и нынешние художники не создавали произведения, столь превосходного. Как я уже сказал, картон великого Леонардо также отличался замечательной красотой. Оба эти картона были выставлены, один - в Папском зале, другой - во дворце Медичи. И пока они существовали, они были школой для всех. Хотя впоследствии божественный Микеланджело и соорудил большую капеллу для папы Юлия, ни разу больше он не проявил и половины того дарования, которое обнаружил в "Пизанской битве". Ни разу больше за всю свою жизнь он не возносился до совершенства первых порывов своего гения"*.
* (Том I, стр 31, изд. классиков.)
Вазари особенно отмечает выразительную фигуру одного старого солдата, который, чтобы предохранить себя во время купания от солнца, надел на голову венок из плюща; он присел, чтобы одеться, но одежда с трудом натягивается на мокрое тело, а он уже слышит барабанный бой и приближающиеся крики. Игра мускулов у этого человека и особенно нервное выражение рта никогда не были превзойдены. Можно себе представить, какие пылкие движения, какие изумительные ракурсы сумел найти Микеланджело среди такого количества обнаженных или полураздетых солдат. Охваченный порывом вдохновения, он едва успевал, чтобы не позабыть своих замыслов, набрасывать фигуры. На некоторые из них им положены были блики и тени, у других обозначены только контуры, иные, наконец, наспех намечены были углем.
Художники онемели от восторга при виде такого произведения. Искусство идеализации проявилось впервые; живопись навсегда освободилась от мелочного стиля. Художникам и в голову не приходило, что можно было с такой силой воздействовать на других посредством рисунка.
Живописцы наперебой стали изучать этот картон. Аристотиле де Сангалло, друг Микеланджело, Ридольфо Гирландайо, Рафаэль из Урбино*, Граначчи, Бандинелли, Альфонсо Беругетта, Спаньолетто, Андреа дель Сарто, Франчабиджо, Сансовино, Россо, Понтормо, Пьерино дель Вага - все явились сюда учиться новому восприятию природы, более пламенному и мощному.
* (Этот гений явился во Флоренцию в 1504 году.)
Чтобы избежать такого стечения художников и любопытных в том месте, где собиралось правительство, картон перенесли в высокую залу, что и явилось причиной его гибели. Во время революции 1512 года, когда была упразднена республика и вновь призваны были Медичи, все позабыли о творении Микеланджело; Баччо Бандинелли, у которого были поддельные ключи от залы, изрезал его в куски и унес с собой. Им руководила зависть товарищей, а, быть может, также приязнь к Леонардо, который благодаря этому картону стал казаться холодным, и ненависть к Микеланджело. Куски эти рассеялись по всей Италии;
Вазари упоминает о тех из них, которые в его время можно было видеть в Мантуе, в доме Умберто Строцци. Б феврале 1575 года их собирались продать великому герцогу Тосканскому. Позже о них нет больше упоминаний.
Все, что уцелело теперь от этого великого усилия искусства, направленного к тому, чтобы освободиться от холодного, точного подражания природе,- это фигура старого солдата, выгравированная Марк-Антонио и затем уже, вторично, Агостино Венециано, эстамп, известный во Франции под именем "Ползунов". Марк-Антонио выгравировал также фигуру солдата, обращенного спиной к зрителям.
Люди пошлые обычно находят, что у Микеланджело отсутствует идеальное*, а между тем из всех художников нового времени именно он создал идеальное. Напряженно работая над этим великим произведением, Микеланджело иногда в виде отдыха читал поэтов, которых в те времена называли народными**. Он и сам писал итальянские стихи***.
* (Люди пошлые обычно находят, что у Микеланджело отсутствует идеальное.- Стендаль имел в виду художественного критика и живописца Рафаэля Менгса.)
** (Народный - так назывались в то время поэты, писавшие не на "литературном" (латинском) языке, а на "народном" итальянском.)
*** (Они были изданы во Флоренции в 1623 и 1726 годах. Рукопись находится в Ватиканской библиотеке. На полях много рисунков.)
Глава CXLVIII. Юлий II
Смерть похитила Александра VI, единственного человека, не считая Цезаря Борджа, сочетавшего в себе большой ум с крайним распутством и самыми грязными пороками.
Юлий II отличался не столько пороками, сколько неуместными добродетелями (1504). Увлекаемый неутолимой жаждой славы, непреклонный в своих намерениях, неутомимый в их осуществлении, великодушный, властный, страстно любивший власть, он проявлял свой могучий характер, нарушая приличия своего возраста и духовного сана.
Едва вступив на престол, он тотчас призвал к себе Микеланджело; но прошло несколько месяцев, прежде чем он придумал для него работу. Наконец он решил воздвигнуть себе гробницу. Микеланджело представил чертеж, который привел папу в восторг. Он спешно отправил его в Каррару добывать мрамор.
Прохаживаясь там по обрывистому склону, который, будучи расположен в глубине полукруга, одинаково служит самой заметной точкой для кораблей, плывущих как из Генуи, так и из Ливорно, Микеланджело обнаружил одинокую, выступающую в море скалу. У него явилась мысль обтесать ее в виде колосса, который виден был бы издали мореплавателям. Древним, говорят, эта мысль приходила уж в голову; по крайней мере местные жители указывают на скале следы каких-то работ, которые они считают начатой было обтеской. Колосс, изображающий св. Карла Борромео, около Ароны, велик только своими размерами, и, тем не менее, воспоминание о нем, подобно воспоминанию о храме св. Петра в Риме, всплывает над всем, что выносишь из путешествия по Италии. Каково же было бы впечатление от колосса работы Микеланджело!
После восьми месяцев усилий мрамор был наконец отправлен. Его доставили вверх по Тибру и выгрузили на площади св. Петра, которая почти вся завалена была этими огромными глыбами. Юлий II увидел, что его поняли. Микеланджело, как никогда, был в чести.
Надо вспомнить, чем были папы в предшествующие времена и еще в ту пору для верующих: не государями, но наместниками божьими, всемогущими существами, от которых зависело вечное спасение.
Юлий II, суровый и гордый характер которого был создан для того, чтобы еще усиливать такое почитание, смешанное со страхом, не раз удостаивал Микеланджело своими посещениями. Он любил его смелый дух, который ничуть не смущали, но лишь раззадоривали препятствия.
Этот государь приказал даже соорудить подъемный мост, по которому он мог тайно в любой час проникать в комнату художника. Он осыпал его безграничными милостями. Таковы подлинные выражения историков.
Глава CXLIX. Гробница Юлия II
Если бы Микеланджело лучше знал двор и свой собственный характер, он почувствовал бы, что опала близилась. Брамаите, этот великий зодчий, которому мы обязаны частью собора св. Петра, был очень любим папой, но очень был расточителен. Он употреблял на постройки плохие материалы и получал огромные барыши*. Он боялся, что его выдадут. Он стал поговаривать - да и других подучил делать то же - в присутствии его святейшества, что забота о своей могиле всегда считалась дурным предзнаменованием. Друзья архитектора объединились с врагами Микеланджело, которых у него было много, так как высочайшая милость не изменила его характера. Вечно погруженный в мысли об искусстве, он жил одиноко и не говорил ни с кем. До благоволения папы это объясняли талантом, после же - оскорбительным высокомерием. Весь двор объединился против него, а он и не подозревал об этом; папа тоже, сам того не подозревая, изменил, как оказалось, свои намерения.
* (Гварна издал в 1517 г, в Милане диалог, происходивший у врат рая между св. Петром, Браманте и одним римским адвокатом. Диалог этот, очень жигой и забавный, показывает, что в Италии в 1517 г. было гораздо больше ума и свободы, чем три столетия спустя. Браманте показан тут человеком умным, которого не проведешь и который прекрасно разбирается в жизни и в людях Он должен был быть очень предприимчивым и опасным врагом. Часть этого диалога, отлично переведенная, составляет единственные занимательные страницы, от 246-й и до 249-й, в толстой книге Босси о Леонардо да Винчи. Нынешняя итальянская проза стоит французской музыки.)
Эта интрига была несчастьем для искусства. Гробница Юлия II должна была представлять собою отдельно стоящий памятник в форме прямоугольника, такой же приблизительно, как гробница Марии-Терезы в Вене, но гораздо больших размеров. В нем было бы восемнадцать брассов в длину и двенадцать в ширину*; сорок статуй, не считая барельефов, покрывали бы собою четыре его стороны. Конечно, статуй было бы больше, чем надо; они утомляли бы глаз, но зато статуи эти были бы сделаны Микеланджело со всем пылом его молодости, перед взором могущественных врагов, отличных ценителей.
* (Десять метров сорок четыре миллиметра на семь метров девяносто шесть миллиметров.)
Более чем вероятно, что, если бы проект гробницы был осуществлен, Микеланджело навсегда посвятил бы себя скульптуре и не затратил бы части своей драгоценной жизни на вторичное обучение живописи. Правда, этот великий человек и тут занял одно из первых мест; но так или иначе первая статуя для гигантского памятника, который он вынужден был оставить,- "Моисей". Такова первая! И какие только дивные шедевры не создал бы он в этом колоссальном грозном жанре!
Впрочем, гений его охладел, испытав такое огорчение и будучи вынужден из-за подлой интриги оставить высокий замысел, которым долго пылала его душа.
План гробницы отличается странностями в духе времени. Некоторые статуи должны были изображать свободные искусства: поэзию, живопись, зодчество и т. д.; и эти статуи должны были быть представлены в цепях, чтобы обозначить, что вследствие смерти папы все дарования оказались в плену у смерти.
Для плана Микеланджело все церкви оказались малы. Подыскивая в Риме место для могилы папы, он набрел на мысль возобновить работы над собором св. Петра. Микеланджело почти не сомневался, что со временем, после смерти его врага, эта церковь благодаря своему дивному куполу станет памятником бессмертной его славы в третьем из изобразительных искусств*.
* (Собор св. Петра был начат при Николае V. Стены оставь лены были незаконченными, на уровне пяти футов над землей. Старая церковь св. Петра разрушена была только при Юлии II; это сделал Браманте.)
Глава CL. Немилость
Юлий II велел Микеланджело, всякий раз как для гробницы понадобятся деньги, обращаться прямо к нему (1506). Когда последняя партия мрамора, оставленная в Карраре, прибыла на Тибрскую набережную, Буонаротти приказал его выгрузить и перевезти на площадь св. Петра, а сам отправился в Ватикан попросить денег, чтобы заплатить матросам. Ему сказали, что его святейшество видеть нельзя. Он не настаивал. Несколько дней спустя он снова явился во дворец. В передней слуга преградил ему путь и сказал, что он не может быть допущен к папе. Епископ, случайно там оказавшийся, поспешил разбранить этого человека и спросил, знает ли он, с кем говорит. "Именно потому я и не впускаю его,- ответил слуга.- Я делаю то, что мне приказано". "Ну, так скажите папе,- заявил Микеланджело,- что когда ему самому захочется меня видеть, ему придется меня поискать".
Он возвращается к себе и приказывает двум слугам, составляющим всю его челядь, распродать его имущество. Он вызывает почтовых лошадей, скачет во весь опор и в тот же день добирается до Поджибонци, деревни, расположенной за чертою папских владений, в нескольких милях от Флоренции.
Несколько минут спустя он видит, как тоже вскачь подъезжают пять папских гонцов, которым был дан приказ доставить его по доброй воле или силой обратно, где бы они ни нашли его. Микеланджело ответил на этот приказ лишь угрозой, что прикажет убить их, если они немедленно же не уберутся. Они стали его упрашивать. Видя, что все бесполезно, они попросили его хоть ответить на письмо папы, которое они ему привезли, и пометить свой ответ Флоренцией, чтобы его святейшество убедился, что вернуть его было уже не в их силах.
Микеланджело удовлетворил их просьбу и продолжал путь, хорошо вооруженный.
Глава CLI. Примирение. Колоссальная статуя в Болонье
Едва прибыл он во Флоренцию, как гонфалоньер получил от папы послание, полное угроз. Но Содерини рад был опять увидеть Микеланджело во Флоренции и намеревался поручить ему расписать Залу Совета согласно знаменитому его картону, Микеланджело начал снова работать над этим замечательным рисунком. Тем временем приходит второе послание, вслед за ним - третье*. Содерини призывает к себе Микеланджело. "Ты поступил с папой так, как не решился бы поступить с ним французский король. Мы не хотим затевать с ним из-за тебя войну, поэтому собирайся в дорогу".
* (Julius pp. II, dilectis filiis prioribus libertatis et vexilliiero justitiae populi Florentini.
Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Michael Angelus sculptor, qui a nobis leviter et inconsulte discessit, redire, ut acceptimus, ad nos timet, cui nos non succensemus novimus hujusmodi hominum ingenia. Ut tamen omnem suspicionetn deponat, devotionem vestram hortamur, velit ei nomine nostro promittere, quod si ad nos redierit, illaesus inviolatusque erit, et in ea gratia apostolica nos habituros, qua habebatur ante discessum. Datum Romae, 8 julii 1506, Pontificatus nostri anno III**.)
** (Папа Юлий II - любимым сынам, приорам свободы и гонфалоньеру справедливости флорентийского народа.
Возлюбленные дети мои, привет вам и апостольское благословение. Микеланджело, скульптор, уехавший от нас легкомысленно и безрассудно, боится, как мы слышали, возвратиться к нам, но мы не сердимся на него: мы знаем дарование людей подобного рода. Но, чтобы он отбросил всякое подозрение, мы взываем к вашей покорности, чтобы она обещала ему от нашего имени, что если он вернется к нам, то останется цел и невредим, и мы сохраним к нему такое же апостольское благоволение, каким он пользовался до своего отъезда Дано в Риме 8 июля 1506 года, в год понтификата нашего третий, (лат.))
Микеланджело хотел было уехать к турецкому султану. Этот государь, намереваясь соединить мостом Константинополь с Перой, поручил каким-то французским монахам передать Микеланджело самые выгодные предложения.
Содерини пустил в ход все средства, чтобы удержать его в Италии. Он стал ему доказывать, что у султана гораздо худший деспотизм, чем в Риме, и что в конце концов если он опасается за свою жизнь, республика готова дать ему звание своего посла.
Тем временем папа, который вел войну, одержал несколько побед. Его армия взяла Болонью, и он лично приехал туда, очень обрадованный завоеванием такого большого города. Это обстоятельство придало Микеланджело храбрости, и он решил явиться к папе.
Он отправился в Болонью. Придя в собор, чтобы послушать мессу, он был замечен и узнан теми самыми папскими гонцами, которых прогнал за несколько месяцев перед тем. Они весьма вежливо подходят к нему, но лишь для того, чтобы тотчас отвести к папе, который в это время обедал во Дворце Шестнадцати, где он остановился. При виде Микеланджело Юлий II гневно вскричал: "Тебе следовало самому явиться к нам, а не ждать, пока мы пошлем за тобой!"
Микеланджело опустился на колени и громко попросил прощения: "Мой поступок вызван не дурным моим характером, а охватившим меня негодованием: я не мог перенести того, как со мной обращались во дворце вашего святейшества". Юлий молча размышлял про себя, опустив голову и, видимо, борясь с собой, когда вдруг какой-то епископ, посланный кардиналом Содерини, братом гонфалоньера, с тем, чтобы наладить примирение, принялся доказывать, что Микеланджело согрешил по неведению, что художники, когда дело не касается их искусства, все таковы... Вспыльчивый Юлий прервал его ударом трости*. "Ты оскорбляешь его так, как не оскорбляли его даже мы; сам ты невежда; ступай вон"; и, так как перепуганный прелат замешкался, слуги вытолкали его в шею**. Сорвав, таким образом, гнев на другом, Юлий дал Микеланджело свое благословение, велел ему приблизиться к своему креслу и сказал, чтобы он не уезжал из Болоньи, не получив его распоряжений.
* (Vasari, X, стр. 70.)
** ("Con matti frugoni, diceva Michelaguolo"***, (Condivi, стр. 22.))
*** ("Сильными ударами, говорил Микеланджело" (итал.).)
Через несколько дней Юлий велит призвать его. "Я приказываю тебе сделать мое изображение. Ты должен отлить из бронзы колоссальную статую и поставить ее у входа в церковь св. Петрония". При этом папа вручил ему сумму в тысячу дукатов.
Так как Микеланджело еще до отъезда папы закончил глиняную модель, Юлий зашел к Микеланджело в мастерскую. Правая рука статуи была протянута для благословения. Микеланджело спросил папу, что ему вложить в левую руку, не книгу ли? "Книгу! - вскричал Юлий II.- Не книгу, а меч! До всяких писаний мне мало дела". Потом он пошутил по поводу движения правой руки, очень решительного. "А скажи-ка: твоя статуя благословляет или отлучает?" "Она угрожает отлучением жителям Болоньи, если они не будут благоразумны",- отвечал художник. Микеланджело затратил на эту статую, в три раза превышавшую натуральные размеры, более шестнадцати месяцев (1508); но тот народ, которому она грозила, не был благоразумен, ибо, прогнав сторонников папы, он дерзнул разбить его статую (1511). Только голова уцелела от его ярости; ее показывали еще сто лет спустя; она весила шестьсот фунтов. Памятник этот обошелся в пять тысяч дукатов золотом*.
* (Альфонс, герцог Феррарский, купил эту бронзу и перелил ее в отличную пушку, которую он назвал "Юлией". А голову он поместил в своем музее.)
Глава CLII. Интрига. Величайшее несчастье
Едва была окончена статуя, как к Буонаротти явился гонец с приглашением ехать в Рим. Браманте оказался бессилен: он натолкнулся на непреклонное желание Юлия II воспользоваться услугами этого гения. Только теперь он не думал уже о гробнице. Партия Браманте призвала ко двору его родственника, Рафаэля. Царедворцы противопоставляли его Микеланджело. Они не теряли времени даром, пока Микеланджело работал в Болонье. Они внушили папе, человеку все же умному и с характером, странную мысль: поручить великому скульптору расписать свод капеллы Сикста IV в Ватикане.
Расчет был неплохой: или Микеланджело откажется, и в таком случае он навсегда лишится расположения вспыльчивого папы; или он возьмется за эти огромные фрески и тогда неизбежно окажется ниже Рафаэля. Этот великий живописец в ту пору работал над росписью знаменитых ватиканских stanze, в двадцати шагах от Сикстинской капеллы.
Ловушка была расставлена очень искусно, и Микеланджело решил, что дело его пропало. Переменить область деятельности, когда талант определился уже окончательно, взяться за фресковую живопись ему, незнакомому даже с приемами этого искусства, да еще для росписи огромного свода, на котором фигуры должны были быть видны сразу, на огромном расстоянии! Он так растерялся, что не знал даже, что ответить на такую нелепость. Как доказывать то, что так очевидно?
Он попробовал указать его святейшеству, что за всю свою жизнь не создал в живописи ни одного сколько-нибудь значительного произведения и что данная работа, конечно, должна быть поручена Рафаэлю, но наконец он понял, в какое попал положение.
Полный ярости и гнева против людей, он принялся за работу, призвал из Флоренции лучших мастеров фресковой живописи* и заставил их работать около себя. Присмотревшись к их технике, он соскоблил все, что они сделали, расплатился с ними, заперся в капелле один и больше уже их не видел; те, очень недовольные, уехали назад во Флоренцию.
* (Якопо ди Сандро, Аньоло ди Доннино, Индако, Буджардини, своего друга Граначи, Аристотеле ди Сан Галло. См. Vasari, X, 77.)
Микеланджело сам приготовлял штукатурку, растирал краски - словом, выполнял все те тяжелые работы, которыми гнушаются самые заурядные живописцы.
В довершение всего, едва закончил он свой "Потоп", одну из главных картин, как увидел, что она покрывается плесенью и разрушается. Он прекратил работу и решил, что наконец освободился. Он отправился к папе, рассказал ему, что произошло, и прибавил: "Я ведь уж говорил вашему святейшеству, что этот род искусства мне чужд. Если не верите мне, велите расследовать"*. Папа послал архитектора Сангалло, который разъяснил Микеланджело, что он лил слишком много воды в известку для штукатурки, и Микеланджело пришлось снова приняться за работу.
* (Condivi, 28.)
В этом душевном состоянии он один в двадцать месяцев закончил свод Сикстинской капеллы; ему было тогда тридцать семь лет.
Случай единственный в истории человеческого духа: заставляют художника в расцвете его сил оставить тот род искусства, которому он всегда отдавал свои силы, принуждают его работать в другой области, требуют от него в качестве первого опыта труднейшей и обширнейшей по размерам работы, какую только можно себе представить в этом роде искусства, и он разрешает свою задачу в столь краткий срок, никому не подражая, создав сам нечто навеки неподражаемое и заняв первое место в той области искусства, которую он отнюдь не выбирал!
Не было с тех пор, за все три столетия, ничего, что хотя бы отдаленно напоминало этот подвиг Микеланджело. Стоит только представить себе, что должно было происходить в душе человека, столь бережно относившегося к своей славе и столь строгого к самому себе, когда он взялся, не зная даже технических приемов фресковой живописи, за огромное это произведение, чтобы признать в нем силу характера, равную, если это возможно, грандиозности его гения.
Иностранец, попадая в первый раз в Сикстинскую капеллу, которая размерами не уступает целой церкви, поражен бывает количеством человеческих фигур и всякого рода предметов, покрывающих собой ее свод.
Правду сказать, живописи тут слишком много. Каждая из картин производила бы в сто раз большее впечатление, если бы она одна помещалась посреди темного плафона. Это первый порыв страсти. Тот же недостаток бросается в глаза в рафаэлевских "Loggie" и "Stanze" Ватикана*.
* (Своды и "Страшный суд" в глубине капеллы принадлежат Микеланджело; остальные же изображения по стенам написаны были Сандро, Перуджино и другими художниками, прибывшими из Флоренции. Там есть одна прекрасная вещь Перуджино.)
Глава СLIII. Сикстинская капелла
(Глава СLIII была написана в 1817 (а не в 1807) году в Риме и исправлена в Париже 13 января. "Я посылаю тебе "Сикстинскую капеллу", списанную с натуры",- писал Стендаль Луи Крозе из Рима.)
Люди, лишенные всякой склонности к живописи, се же с удовольствием смотрят на портреты-миниатюры. Они находят тут приятные краски и контуры, которые глаз улавливает без труда. Живопись масляными красками кажется им чем-то грубым и тяжеловесным; особенно краски представляются им не столь красными. Так же обстоит дело с молодыми ценителями в отношении фресковой живописи. Этот род искусства не сем доступен: глазу нужна выучка, и выучку эту нельзя нигде приобрести, как только в Риме.
Тут чувствительной душе в ее поисках живописности угрожает одна очень серьезная опасность: принять за красоту то, что в действительности не доставляет никакого наслаждения.
Рим - город статуй и фресок. Приехав сюда, надо пойти посмотреть сцены из истории Психеи, изображенные Рафаэлем в вестибюле палаццо Фарнезины. В этих божественных группах бросится в глаза жесткость, в которой Рафаэль совсем неповинен, но которая чрезвычайно полезна для молодых любителей живописи и делает образы очень ясными.
Надо удержаться от искушения и пройти с зарытыми глазами мимо картин, написанных маслом. Побывав два или три раза на вилле Фарнезина, можно отправиться в галерею Фарнезе с фресками Аннибале Каррачи.
Можно осмотреть залу Папирусов в Ватиканской библиотеке, расписанную Рафаэлем Менгсом. Если тот плафон своей свежестью и нарядностью доставит больше удовольствия, чем галерея Каррачи, надо будет остановиться. Такое нерасположение зависит не от разницы в душевном складе, а от несовершенства наших органов чувств. Недели через две можно позволить себе посещение рафаэлевских "Stanze" в Ватикане. При виде этих почерневших стен неопытный еще взор поражен будет недоумением: "Raphael, ubi es?"*. Недели изучения едва будет достаточно, чтобы почувствовать фрески Рафаэля. Но все будет потеряно, если на масляную живопись истратить весь тот запас восприимчивости к искусству, который еще уцелел после всяческих невзгод путешествия.
* (Рафаэль, где ты? (лат))
Пробыв в Риме месяц, в течение которого внимание только и будет направлено на статуи, загородные дома, архитектуру или же фрески, можно наконец в какой-нибудь яркий, солнечный день отважиться на посещение Сикстинской капеллы; и все еще весьма сомнительно, удастся ли получить от этого наслаждение.
Душа у итальянцев, для которых писал Микеланджело, была воспитана теми счастливыми случайностями, которые придали XV веку почти все свойства, необходимые для понимания искусства; больше того: даже у жителей современного Рима, столь подавленных теократией, глаз с детства приучен к самым разнообразным произведениям искусства. И какие бы преимущества ни приписывал себе житель Севера, во-первых, более чем вероятно, что душа у него холодна; во-вторых, глаз у него не умеет смотреть, а между тем он сам уже в таком возрасте, когда всякое физическое усовершенствование более чем сомнительно.
Допустим, однако, что глаз умеет видеть, а душа - чувствовать. Подняв взор к своду Сикстинской капеллы, вы замечаете, что он расчленен на поля разной формы и что всюду воспроизведен под любым предлогом человеческий образ.
Свод гладкий, и Микеланджело предположил существование ребер, поддерживаемых кариатидами; эти кариатиды, само собой разумеется, видны в ракурсах. По краям свода и между окон находятся изображения пророков и сивилл. Над алтарем, где папа служит мессу, видно изображение Ионы, а вся середина свода, начиная от Ионы и до пространства над входной дверью, занята сценами из книги Бытия, которые заполняют прямоугольники разных размеров. Эти поля надо мысленно отделить от всего, что их окружает, и рассматривать как самостоятельные картины. Прав был Юлий II: эта живопись сильно бы выиграла, если бы картины выступали на золотом фоне, как в зале Папирусов. На таком расстоянии глаз нуждается в чем-нибудь ярком.
Греческая скульптура избегала изображать все неприятное: людям довольно было действительных бедствий. Поэтому в области искусства нет ничего, с чем можно было бы сравнить изображение Предвечного, извлекающего человека из небытия*.
* (Четвертый прямоугольник.)
Поза, рисунок, складки одежды - все поражает зрителя; душа взволнована впечатлениями, которые она не привыкла воспринимать глазами. Когда во время злосчастного отступления из России посреди темной ночи нас будила упорная канонада, которая, казалось, с каждой минутой к нам приближалась, все силы человека стягивались к его сердцу, он был перед лицом рока, мелкая корысть уже не привлекала его внимания, он готовился оспаривать у судьбы свою жизнь. При виде картин Микеланджело мне припоминалось это совсем забытое ощущение. Сильные духом испытывают наслаждение от своей собственной силы, а остальные трепещут и впадают в безумие.
Не стоит и пытаться описывать картины Микеланджело. Фантастические чудовища слагаются из различных собранных вместе частей, встречающихся в природе. Но так как ни один читатель, не видевший сам фресок Микеланджело, никогда не видел также ни одной из составных частей сверхъестественных и все же верных природе существ, которые художник нам показывает, приходится отказаться от всякой попытки дать какое-либо о них представление. Почитайте Апокалипсис и потом вечером, в поздний час, когда воображением овладевают гигантские образы этой поэмы, посмотрите отлично выполненные гравюры Сикстинской капеллы. Но чем возвышеннее сюжет, тем тщательнее должны быть выполнены гравюры, чтобы привлечь к себе взор.
Картины этого свода, будь они написаны на холсте, образовали бы сотню картин такого же размера, как "Преображение". Тут можно найти совершеннейший образец для любой области живописи, даже для светотени. В небольших треугольниках над окнами - группы фигур, почти все отличающиеся изумительной грацией*.
* (Этих треугольников, которых большинство путешественников даже не замечает, всего счетом шестьдесят восемь Нужно немало мужества, чтобы обойти капеллу кругом, по галерее, идущей вдоль окон. (Написана эта глава в этой самой галерее, 13 января 1807 г.).)
Глава CLIV. Сикстинская капелла (продолжение)
На картине, изображающей "Потоп", есть лодка, наполненная несчастными, которые тщетно пытаются причалить к ковчегу. Захлестываемая огромными волнами, лодка потеряла парус, и ей уже не спастись; вода проникает внутрь, видно, что лодка идет ко дну.
Поблизости - вершина горы, которая вследствие подъема воды превратилась в остров. Взволнованная толпа мужчин и женщин, совершающих разнообразные движения, но одинаково ужасных на вид, пытается хоть как-нибудь приютиться в палатке, но гнев божий распаляется с новой силой и добивает несчастных молниями и ливнем*.
* (Католический бог мог уничтожить их мгновенно, без всяких страданий. Страдания без свидетелей бесцельны. См. Бентама**.)
** (Бентам считал, что кара за преступления имеет смысл лишь как мера предупреждения преступлений со стороны других членов общества, поведение которых регулируется страхом наказания.)
Зритель, смущенный такой массой страданий, опускает глаза и уходит. Однажды я не в состоянии был удержать в Сикстинской капелле посетителей, попавших туда впервые. В следующие дни я уж не мог заставить их остановиться ни перед одной вещью Микеланджело в римских церквах. Тщетно твердил я им: "Выше сил человеческих - каковы бы они ни были - угадать не какую-нибудь отдельную истину, но будущее состояние человеческого рода в целом. Мог ли Микеланджело предвидеть, какой путь изберет человеческая мысль: например, подчинится ли она влиянию свободы слова или свободы инквизиции?"
Ясно, что совершенно невозможно было обрести или признать красоту богов, то есть идеальную красоту античности, при безраздельном господстве жестокого предрассудка, согласно которому бог был существом в высшей степени злым. Религия, способная допустить, что ее бог ведает будущее, и прибавляющая: Multisunt vocati, pauci vero electi*,- навеки лишала своих Микеланджело возможности стать Фидиями**. Она, правда, тоже творила своего бога по образцу человеческому, но, идеализируя его в обратном направлении, она отнимала у него доброту, правосудие и другие привлекательные чувства, оставляя ему лишь яростную мстительность и самую мрачную жестокость.
* (Много званых, но мало избранных.)
** (Сравните мифологию с библией.)
Как выглядели бы в "Страшном суде" и на плафоне Сикстинской капеллы Jupiter Mansuetus или Аполлон Бельведерский? Они казались бы тут простачками. Друг Савонаролы не видел доброты в жестоком этом судье, который за проходящие проступки краткой нашей жизни ввергает в вечные муки.
Основою всякого большого дарования всегда является логика. В этом только и состоит вина Микеланджело. Уподобляясь тем несчастным, которых можно видеть время от времени на скамье подсудимых, тем, кто убивает маленьких детей, чтобы из них делать ангелов,
он развивал последовательно жестокие принципы. Высшее обладание тем, чего недостает большинству великих людей, было единственным несчастьем этого поразительного человека. Природа наделила его гением, железным здоровьем, долголетием; чтобы довершить свое дело, ей следовало бы заставить его родиться при господстве разумных верований, среди народа, у которого боги были бы, как в Греции, всего лишь богатыми и счастливыми людьми, или в стране, где верховное существо было бы в наивысшей мере справедливым, как, например, в учении некоторых английских сект.
Глава CLV. В чем, собственно, заключается отличие его от античности?
Развивая эти мысли перед вновь прибывшими, я повел их в музей Пио-Клементино; ведь в Риме тот, кто приехал раньше, становится чичероне.
Как возбудить в душе чувство страха, придав ту или иную форму руке?
Я показал им античное изображение руки, к которому Микеланджело присоединил голову, правую руку с урной и несколько мелких деталей. "Вглядитесь хорошенько в левую руку, в торс и в голени - все это античное - и вообразите существо, которому должно принадлежать это тело, а затем сразу обратитесь к руке и голове, которые сделал Микеланджело. Вы найдете в них какое-то преувеличение и принужденность". Часто здесь находили только физические различия. В этот день мы покинули музей очень скоро и вечер провели в обществе.
Границы обоих стилей еще резче бросаются в глаза, если сравнить ноги античной работы "Геркулеса Фарнезского" с ногами, которые сделал Гульельмо делла Порта по эскизу, может быть, Микеланджело. Через двадцать лет после того, как открыли и реставрировали эту статую, нашли ее собственные ноги (1560); но Микеланджело будто бы посоветовал оставить ей новые*.
* (Carlo Dati, "Vite de'Pittori", стр. 117.)
Этому великому человеку во всяком случае недоставало чувства общей гармонии. Впрочем, он, вероятно, принимал античную мягкость очертаний за условную красоту.
Если бы Корнель переработал роль Баязета в трагедии Расина, может быть, мы имели бы основание предпочесть эту роль подлинной. Вот что чувствовал, как казалось ему, Микеланджело.
Однажды утром я вышел из музея Климентино вместе с одним герцогом, очень богатым и очень либеральным, но для которого малодоступное* всегда синоним красоты. Он высокомерно осуждал Микеланджело, и это бесило меня. "Но согласитесь же,- сказал я ему,- что вы вносите в искусство тщеславие, вкладываемое людьми вашего ранга в ордена. Вам доставляет больше радости обладание какой-нибудь неизвестной и никому не нужной старой рукописью или старинной картиной Кривелли**, чем возможность увидеть новую мадонну Рафаэля; и при всей проницательности и силе вашего ума вы не являетесь компетентным судьей в искусстве. Я прошу у вас внимания к слову идеализация. Античное искусство искажает природу, преуменьшая рельеф мускулов, а Микеланджело - преувеличивая его. Вот две противоположные школы. Античная школа, господствующая последние пятьдесят лет, осуждает Микеланджело с яростью, напоминающей ультрамонархистов. Она может похвалиться большим благородством, и на вашей стороне, надо сознаться, численный перевес. На пятьдесят человек, которые ценят малодоступное, найдется лишь один чуткий человек, любящий красоту. Но через сто лет даже люди насквозь тщеславные будут повторять суждения людей чутких, ибо в конце концов должно стать ясно, что слепым не дано судить о цвете. Довольствуйтесь же глумлением над этими бедными чуткими людьми, которые выставляют себя в столь смешном свете: царство их не от мира сего. Одерживайте над ними победы в салонах, но на другой день утром не пытайтесь сравнивать вашу черствость и деловую озабоченность при пробуждении с тем блаженством, которое им доставляет воспоминание о "Teresa e Claudio"***.
* (Пение г-жи Каталани****.)
** (Венецианской школы.)
*** (Прелестная опера Фаринелли, которая шла в го время в театре Алиберти.)
**** (Пение г-жи Каталани.- Стендаль невысоко ценил музыкальный талант знаменитой итальянской певицы Каталани (1779-1849): "Нужно слышать ее хоть раз, чтобы вечно жалеть о том, что природа не присоединила немного души к этому изумительному голосу" ("Рим, Неаполь и Флоренция").)
Посмотрите на один из прекрасных ландшафтов в окрестностях Рима, так божественно переданных нежной кистью Лоррена, в камеру-обскуру; вы увидите в камеру-обскуру пейзаж. Вот стиль флорентийской школы до появления Микеланджело. Тот же ландшафт передан и на картине художника, но только, идеализируя, он присоединил к тонам природы тона своего сердца. Сердца людей, сходных с ним, он чарует, а остальных оттолкнет. Правда, пейзаж в камере-обскуре доставит наслаждение всякому, но наслаждение не очень сильное". "Мы увидим это завтра",- сказал любитель, задетый за живое тем одобрением, которое две или три женщины выражали школе.
На другой день мы взяли с собой двух лучших в Риме пейзажистов и камеру-обскуру. Мы выбрали красивую местность*, мы попросили, чтобы художники изобразили ее, один - в спокойном и радостном стиле Лоррена, другой - со всей строгостью и пылом Сальватора Розы.
* (Около могилы Горациев и Куриациев.)
Опыт удался вполне и дал нам возможность составить представление о холодном и точном стиле старинной школы, о благородном и спокойном стиле древних греков и о грозном и мощном стиле Микеланджело. Нас это занимало целых две недели; было много споров, и каждый оставался при своем мнении.
Что касается лично меня, я часто сожалел о том, что зала монастыря св. Павла* и Сикстинская капелла находятся в разных городах. Осмотрев их одновременно, в один из тех дней, когда все в искусстве открывается взору, можно было бы узнать о Микеланджело, о Корреджо и о древних гораздо больше, чем из тысячи книг. Книги могут лишь привлечь внимание к второстепенным деталям, связанным с теми или иными фактами, самые же факты любителям недоступны почти никогда.
* (В Парме.)
Глава CLVI. Холодность искусства до Микеланджело
Впрочем, если бы в течение шести месяцев мы рассматривали только картины и статуи, наводнявшие собою Флоренцию в дни молодости Микеланджело, его головы показались бы нам восхитительными. В них нет, по крайней мере, той худобы и того выражения страдания, которое неотступно преследует нас в ранних произведениях этой школы.
Живопись, как легко убедиться, делает очевидным тот моральный закон, что первым условием всех добродетелей является сила*; если образы Микеланджело и не обладают теми приятными свойствами, которые привлекают нас к себе в Юпитере или в Аполлоне, то во всяком случае их нельзя забыть, и это есть причина их бессмертия. В них столько силы, что мы вынуждены с ними считаться.
* (Если бы я обращался к геометрам, я решился бы выразить свою мысль так: живопись не что иное, как начертательная мораль.)
Нет ничего пошлее образа, стремящегося подражать античной красоте и не достигающего возвышенности*. Это все равно что долготерпение слабых людей, которое они между собой называют мужеством. Надо быть "Аполлоном", чтобы осмелиться противостоять "Моисею"; да еще к тому же все, кто лишен душевного благородства, найдут, что "Моисей" больше внушает страх, чем "Аполлон".
* (К чему мне знаки внимания и проявления доброты со стороны существа слабого? Если бы оно пришло в ярость, оно произвело бы на меня более сильное впечатление; если бы оно выражало страдание, оно могло бы тронуть меня.)
Характерное в живописи - то же, что пение в музыке; это запоминаешь навсегда и вспоминаешь только сто одно*.
* (Тальма сделал в своей жизни только одну плохую вещь - породил наши картины: см. "Леонида", "Сабинянок", "Св. Стефана" и т. д.)
В каждом рисунке, в каждом эскизе, в каждой плохонькой гравюре, где только вы найдете выражение силы - и притом силы крайне непривлекательной,- скажите смело: вот это от Микеланджело.
Его религия не позволяла ему выражать благородные душевные качества, а потому он идеализировал природу только для того, чтобы выразить силу. Когда он желал придать красоту женским образам, он оглядывался кругом и копировал головы самых красивых девушек, но при этом невольно наделял их выражением илы, без которого ничто не выходило из-под его резца.
Такова его "Ева" в своде Сикстинской капеллы, Сивилла Эритрейская", "Сивилла Персидская"*. Главный недостаток Микеланджело по сравнению с эпичным искусством - в изображении голов. Его тела выражают огромную силу, но силу немного тяжеловесную.
* ("Zeuxis plus membris corporis dedit, id amplius atque augu-stius ratus; atque, ut existimant, Homerum secutus, cui validissima quaeque forma etiam in feminis placet" (Quint, Inst, or., XII, 10)**. Марк Антонио выгравировал "Адама и Еву" и фигуру "Юдифи" (Королевская библиотека).)
** ("Зевксис увеличил размеры конечностей тела, а корпус изображал в более величественных размерах, следуя, как полагают, Гомеру, в поэмах которого могучие формы кажутся привлекательными даже у женщин" Квинтилиан. (лат.).)
Глава CLVII. Сикстинская капелла (продолжение)
Итак, именно в Сикстинской капелле можно найти эти так часто упоминаемые образцы грозного в живописи; и лучшее доказательство того, что для этого стиля, как и для стиля грациозного, нужна душа, что все эти
Вазари, Сальвиати, Санти ди Тито и множество других посредственных представителей флорентийской школы, в течение шестидесяти лет исключительно копировавшие Микеланджело, неизменно достигали лишь сухости и уродства, стремясь к величественному и грозному. Как в скульптуре спокойствие страстей может быть передано только тем, кто сам испытал всю их ярость, точно так же и для того, чтобы внушить ужас, художник должен притупить в нас все стороны души, способные ощущать очарование грации, и после этого создать впечатление угрозы нашей безопасности.
Во Франции мы смешиваем величественный вид с барским видом*; но они почти противоположны друг другу. Первый проистекает из склонности к возвышенным мыслям; второй - из склонности к мыслям,. которыми заняты обычно люди знатные. Так как вельмож в Италии никогда не было, редко можно встретить француза, который понимал бы Микеланджело.
* (Duclos "Considerations".)
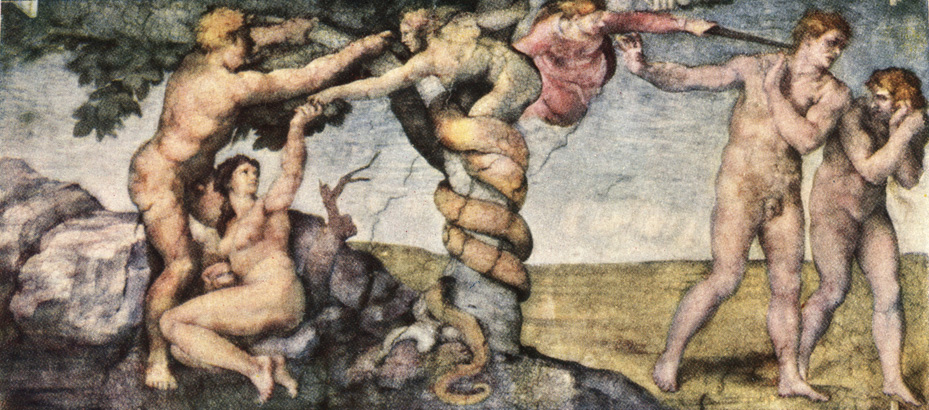
Микеланджело. Изгнание из рая. (Сикстинская капелла. Рим.)
Величие фигур Сикстинской капеллы; отвага и сила, сквозящие в каждой их черте; медлительность и важность движений; одеяния, облекающие их странным и необычным образом; их явное презрение ко всему просто человеческому - все в них изобличает существа, с которыми говорит Иегова и устами которых он изрекает свои приговоры.
Этим характером грозного величия особенно отличается фигура "Пророка Исайи", который, погрузившись в глубокое раздумье во время чтения священной книги, вложил в нее руку, чтобы отметить то место, на котором остановился, другой же рукой подпер себе голову и весь отдался высоким мыслям, когда внезапно услышал призыв ангела. Не сделав ни малейшего неожиданного движения и даже не изменив позы при звуке голоса небожителя, пророк медленно поворачивает к нему голову и словно нехотя прислушивается*.
* (В пророках Микеланджело есть нечто, напоминающее античную сосредоточенность внимания и тем самым античные очертания губ.)
Фигур этих общим числом двенадцать; среди них - фигура Ионы, весьма замечательная преодолением в ней больших трудностей; пророк Иеремия, грубая одежда которого говорит о безразличии к внешнему, присущем людям в несчастии, хотя в то же время ее большие складки создают впечатление величественности; Сивилла Эритрейская, прекрасная, несмотря на грозное выражение*. Все они воплощают для человека впечатлительного новый идеал красоты. Потому-то Аннибале Каррачи и ставил свод Сикстинской капеллы намного выше "Страшного суда". Он находил здесь меньше учености.
* (Это враг, внушающий к себе уважение.)
Все ново и вместе с тем разнообразно в этих одеждах, в этих ракурсах, в этих полных силы движениях.
Надо сделать одно замечание по поводу величественности. Один великий поэт, воспевший Фридриха II*, как-то раз сказал мне: "Король, узнав, что иностранные государи осуждают его склонность к литературе, сказал дипломатическому корпусу, собравшемуся на аудиенции: - Передайте вашим государям, что если я меньше король, чем они, то этим я обязан своим занятиям литературой".
* (Великий поэт, воспевший Фридриха II.- Андрие, автор стихотворения "Мельник из Сан-Суси". Выражение это в устах Стендаля имеет, конечно, иронический смысл, так как он никогда высоко не ценил этого поэта.)
Я тотчас подумал: "Ну, а ты, великий поэт, когда воспевал величие Фридриха, ты, значит, чувствовал, что лгал; значит, думал лишь об эффекте; ты, значит, был лицемером?"
Большой недостаток для серьезной поэзии, которого у Микеланджело не было: он простодушно верил в своих пророков.
Нетерпеливый Юлий II, несмотря на преклонный свой возраст, несколько раз порывался подняться на самый верх мостков. Он говорил, что такая манера рисунка и композиции нигде никогда еще не встречалась. Когда работа была закончена наполовину, то есть от двери до середины свода, Юлий потребовал, чтобы Микеланджело ее показал: весь Рим изумился.
Рассказывают, что Браманте попросил папу предоставить роспись остальной части свода Рафаэлю и что душа Буонаротти возмутилась такой новой несправедливостью. Рафаэля обвиняют в том, что он воспользовался властью своего дяди, чтобы проникнуть в капеллу и изучить стиль Микеланджело до публичного осмотра. Это один из тех вопросов, которые навсегда останутся неразрешенными; я вернусь к нему в "Жизни Рафаэля". Впрочем, слава мастера из Урбино вовсе не в том, что он ничему не учился, а в том, что он многого достиг. Достоверно только то, что Микеланджело потерял терпение, раскрыл папе глаза на бесчестные поступки Браманте и, как никогда прежде, вошел в силу. Он сам уже в преклонные годы рассказывал тем, кто говорил ему, что вторая половина свода - лучшее из всего, что он в своей жизни создал в живописи, как по окончании этого частичного осмотра он запер двери капеллы и снова принялся за работу, но, понуждаемый неистовым Юлием II, был не в состоянии закончить свои фрески так, как ему хотелось бы*. Однажды, когда на вопрос папы, скоро ли он кончит, последовал обычный ответ художника: "Когда буду доволен собой",- папа ему заявил: "Я вижу, ты хочешь, чтобы тебя сбросили с твоих мостков". "Ну-ка, попробуй",- подумал художник; и, тотчас отправившись в Сикстинскую капеллу, он приказал разобрать мостки. На следующее утро, в день всех святых 1511 года, папа получил наконец удовольствие, о котором так долго мечтал: отслужил мессу в Сикстинской капелле.
* (Например, престолы пророков остались невызолоченными во второй половине капеллы.)
Едва дождавшись окончания связанных с этим днем торжеств и обрядов, Юлий II тотчас позвал к себе Микеланджело, чтобы сказать, что картинам на своде необходимо придать более роскошный вид, добавив золота и ультрамарина (1511). Микеланджело, не желая снова сооружать мостки, ответил, что то, чего недостает, не представляет никакой важности. "Ты можешь говорить, что тебе угодно, а только золота добавить необходимо". "Я не видал, чтобы люди носили позолоченные одежды",- отвечал Микеланджело. "Капелла будет бедно выглядеть". "И люди, которых я изобразил, были тоже бедны".
Папа был прав. Ремесло священника сделало его проницательным. Пышность алтарей и богатство одеяний усиливают пыл верующих, слушающих торжественную мессу.
Микеланджело получил за эту работу три тысячи дукатов, из которых приблизительно двадцать пять истратил на краски*. Глаза его до такой степени приучились смотреть вверх, что к концу работы он стал замечать с некоторой тревогой, что когда он устремлял свой взор вниз, то почти ничего не видел: чтобы прочесть письмо, ему надо было высоко поднять его; это расстройство зрения длилось несколько месяцев.
* (Помножив на десять суммы, относящиеся к XVI веку, мы получим суммы, на которые можно теперь купить то же самое, Микеланджело получил пятнадцать тысяч франков, которые равняются нынешним ста пятидесяти тысячам.)

Микеланджело. Эритреиская сивилла. (Сикстинская капелла. Рим.)
По окончании плафона Сикстинской капеллы расположение к Микеланджело со стороны папы настолько упрочилось, что уже никакие посягательства не могли ему грозить; Юлий осыпал его подарками. Этот государь чувствовал к нему живейшую симпатию, и Микеланджело в Риме слыл за самого любимого его царедворца.
Глава CLVIII. Впечатление от Сикстинской капеллы
Мне кажется, что зритель, если он католик, вглядываясь в "Пророков" Микеланджело, старается привыкнуть к грозному виду этих существ, перед которыми он когда-нибудь должен будет предстать. Чтобы как следует почувствовать эти фрески, надо, входя в Сикстинскую капеллу, быть до глубины души подавленным теми кровавыми историями, которых так много в Ветхом завете. Это там исполняется знаменитое Miserere в страстную пятницу. Во время пения этого покаянного псалма постепенно гасят свечи; служители гнева божия становятся видны лишь наполовину, и мне случилось наблюдать, что человек очень твердый, даже со слабо развитым воображением, способен испытать при этом нечто похожее на страх. Женщинам становится дурно, по мере того как ослабевают и замирают голоса и все как будто исчезает под десницей предвечного. Никто не Удивился бы в это мгновение, услышав трубный глас, зовущий на Страшный суд, и мысль о милосердии никому не приходит в голову.
Вы видите, как было бы нелепо искать античную красоту с ее бодрящей экспрессией в изображении различных проявлений религиозного страха.
Как случается со всеми гениями в любой области, все великие эти достоинства Микеланджело были поставлены ему в упрек; но коль скоро со смертью для великого человека начинается будущность, что ему у себя в могиле до всей этой лжи, до всех человеческих упреков? Из глубины ужасного своего жилища бессмертные гении не отзываются ни на что, кроме голоса истины. Все, что имеет лишь кратковременное существование, для них уже ничто. Является в Сикстинскую капеллу глупец - и ничтожный его голос нарушает царственное молчание звуком суетных слов; что с ними станется, что станется с ним самим через сто лет? Он исчезнет, как прах, а бессмертные творения искусства безмолвно переходят в грядущие столетия.
Глава CLIX. При Льве X Микеллнджело бездействует девять лет
Рассказывают, что в то время как Микеланджело трудился в Сикстинской капелле, он захотел однажды съездить во Флоренцию на праздник Иванова дня, причем на вопрос папы: "Когда же ты кончишь?" - по обыкновению ответил: "Когда смогу"; тут нетерпеливый Юлий II, стоявший поблизости от художника, ударил его небольшой тростью, на которую опирался, гневно повторив его слова: "Когда смогу! Когда смогу!"
Едва Микеланджело вышел, как первосвященник, боясь потерять его навсегда, послал за ним Аккорсо, молодого своего фаворита, который принес ему самые горячие извинения и умолял простить бедного старика, у которого были все основания бояться, что он не увидит окончания трудов, начатых по его приказанию. Аккорсо прибавил, что папа желает ему удачно съездить и посылает пятьсот дукатов на развлечения во Флоренции.
Умирая (в 1513 году), Юлий II поручил двум кардиналам позаботиться об окончании его гробницы. Художник, по соглашению с ним, составил новый, менее сложный план; но Лев X, будучи первым папой из Флоренции, захотел создать себе там памятник. Он приказал Микеланджело, поехать туда и соорудить перистиль в Сан-Лоренцо, прекрасной церкви, фасадом которой, как вам известно, все еще служит безобразная кирпичная стена. Микеланджело покинул Рим со слезами на глазах. Новый папа заставил обоих кардиналов удовольствоваться его обещанием изготовить во Флоренции необходимые статуи. Едва он прибыл во Флоренцию, а оттуда в Каррару, как Льву X успели нашептать, что ради личной выгоды Микеланджело предпочитает каррарский мрамор - из чужой области - мрамору, который можно было добывать из каменоломни в Пьетресанта в Тоскане. Художник представил доказательства, что этот мрамор для скульптуры не пригоден. Папа настаивал на своем. Микеланджело отправился в горы Пьетресанта; после того как мрамор с неисчислимыми трудностями был добыт, он приказал проложить дорогу для его доставки к морю. Вернувшись во Флоренцию после нескольких лет трудов, он узнал, что папа перестал думать о Сан-Лоренцо и что мрамор остался лежать на морском берегу. Буонаротти, обиженный тем, что Лев X постоянно был в этом деле не на его стороне и принимал его за корыстного человека, долго ничего не делал. Люди рассудительные, без сомнения, заявят, что ему следовало воспользоваться моментом и довести до конца гробницу Юлия II. Но когда наконец рассудительные люди поймут, что есть такие вещи, о которых им в их же интересах никогда не следовало бы заводить речь?*
* (Если у художника нет перед глазами созданной его воображением идеальной модели, что может он сделать?)
Флорентийская академия отправила к Льву X депутацию просить его вернуть родине останки великого флорентийского поэта, которые все еще пребывали в Равенне, где он умер в изгнании. Сохранился подлинник этого воззвания*; вот подпись нашего художника: "Я, Микеланджело, скульптор, обращаюсь к вашему святейшеству с той же просьбой, предлагая сделать для божественного поэта гробницу, достойную его".
* (В архивах госпиталя Санта-Мария-Нуова во Флоренции.)
Вот все, что сообщает история относительно Микеланджело за целых девять лет. Известно, что он жил во Флоренции в качестве одного из самых уважаемых, родовитых граждан и что блеск его славы падал и на семью, так как мы уже видели, что отец его был беден, а между тем в 1515 году, когда Лев X навестил свой родной город и блеснул там своим величием, Пьетро Буонаротти, брат Микеланджело, был в числе девяти главных должностных лиц.
Проникшийся отвращением ко всякой работе, Микеланджело все же из благоразумия снова принялся за статуи для памятника Юлию II, когда внезапно яд похитил у искусства одного из величайших его покровителей.
Этот привлекательный и достойный своей прекрасной родины государь имел преемником фламандца. Варвар этот хотел уничтожить плафон Сикстинской капеллы, который, по его словам, больше напоминал общественные бани, чем свод церкви*. Ему пожаловались на Микеланджело за то, что он позабыл о гробнице для Юлия, хотя и получил уже за нее шестнадцать тысяч скудо. Буонаротти хотел уже поспешить в Рим (1523). Кардинал Медичи, сделавшийся через несколько месяцев Климентом VII, удержал его во Флоренции, чтобы поручить ему постройку библиотеки, ризницы и фамильных гробниц в Сан-Лоренцо. Это единственные гробницы нового времени, отличающиеся величием. Этот род искусства особенно зависит от формы правления. Античные гробницы были величественны благодаря тому, что напоминали о погребенных в них людях. Гробницы нового времени в лучшем случае роскошны, ибо трогательно только воспоминание о доблести, тогда как воспоминание о почитании всего лишь занимательно. Базилика Сен-Дени** ничтожна и приятна для взора. Церковь капуцинов в Вене напоминает кабинет древностей; Микеланджело возвысился над всем этим.
* (Когда Вьянезио, болонский посланник, обратил его внимание в Бельведере на группу "Лаокоона", он отвернулся, воскликнув: "Sunt idola antiquorum!"*** ("Lettere de'principi", I, 96).)
** (Базилика Сен-Дени в девяти километрах от Парижа была усыпальницей французских королей, как венская церковь капуцинов была усыпальницей австрийских императоров.)
*** ("Это идолы древних!" (лат.).)
Папа-фламандец имел преемником Климента VII, государя лицемерного и слабого, которому суждено было казаться достойным престола лишь до тех пор, пока он не вступил на него. Микеланджело продолжал во Флоренции выполнять порученные ему работы.
Герцог Урбинский, племянник Юлия II, велел передать ему, чтобы он позаботился о спасении своей жизни, если он не закончит гробницу дяди. Буонаротти приехал в Рим. Климент, не колеблясь, посоветовал ему самому вступить в переговоры с агентами герцога, нисколько не сомневаясь, что ввиду высокой цены, которую Микеланджело назначал за прежние свои работы, наследники Юлия окажутся у него в долгу. Нет никаких доказательств тому, чтобы Микеланджело последовал этому неблагородному совету. Приехав, он увидел, к чему может его привести политика папы, и только и помышлял о том, как бы поскорей возвратиться во Флоренцию. Вскоре затем несчастный Рим предан был огню и мечу армией коннетабля Бурбона* **.
* (Коннетабль Бурбон взял Рим в 1527 году. Сам коннетабль был убит во время приступа, а войска его грабили город в продолжение двух месяцев.)
** (Простодушное и яркое описание этого крупного события мы находим у Челлини, который оказался в замке св. Ангела вместе с папой и выполнял там обязанности артиллерийского офицера.)
Глава CLX. Величие и свобода Флоренции при последнем издыхании
Флоренция воспользовалась случаем и избавилась от Медичи*. Надо было выбрать форму правления, Гонфалоньер был ханжой, а монахи Савонаролы, как всегда,- честолюбцами. Гонфалоньер предложил провозгласить королем Иисуса Христа; приступили к голосованию, и он был избран - при двадцати, однако, голосах, поданных против**. Имя этого короля не остановило его наместника Климента VII, бросившего против собственной родины всех немецких солдат, каких мог только он нанять в Италии. Эти варвары, опьянев от радости, воскликнули, увидев Флоренцию с высоты Апеннин: "Готовь для нас золотую парчу, Флоренция! Мы купим ее, отмерив копьями"***. Армия Медичи насчитывала тридцать четыре тысячи человек; у флорентийцев было лишь тринадцать тысяч****.
* (Народные ораторы доказали, что за несколько лет Медичи истратили себе на пользу из городских средств колоссальную сумму в миллион девятьсот тысяч дукатов.)
** (Официальный титул нового короля был: "Jesus Christus Rex florentini populi S. P. decreto electtis*****" Segni. lib. 1.)
*** (24 октября 1529 г. (Varchi, 10).)
**** (По-видимому, не обошлось без патриотических пожертвований: Микеланджело ссудил родному городу тысячу скудо (пятьдесят тысяч нынешних франков).)
***** (Иисус Христос, царь флорентийского народа, избранный постановлением Сената и народа (лат).)
Правительство Иисуса Христа, которое фактически было республиканским, назначило Микеланджело членом комитета Девяти, который руководил военными действиями, и, кроме того, начальником и главным прокуратором фортификационных работ. Этот великий человек, предпочтя республиканскую доблесть ложному почету монархий, не колеблясь, взялся защищать отечество от семьи своего благодетеля. После первого же осмотра городских укреплений он указал, что при данном положении вещей враг может проникнуть в город. Он предвидел опасность - глупцы обвинили его в трусости. То же самое пришлось нам наблюдать в Париже в марте 1814 года. Но забавно, что как раз тот, кто в государственном совете обвинил его в малодушии за высказанное им опасение, что Медичи могут проникнуть в город, первый же поплатился головой после их возвращения*.
* (Varchi, X, 293.)
Микеланджело окружил город превосходными укреплениями*. Началась осада; молодежь рвалась в бой; но Буонаротти скоро убедился, что дворяне предали Флоренцию. Он вышел через городские ворота и уехал в Венецию вместе с несколькими друзьями, взяв с собой двенадцать тысяч флоринов золотом. Там, чтобы избежать посетителей и зажить снова в желанном одиночестве, он поселился на самой глухой улице в квартале Джудекка. Но бдительная синьория узнала о его прибытии, отправила к нему с приветствиями двух своих savi** и сделала ему самые выгодные предложения. Вскоре прибыли по его следам посланцы из Флоренции. В нем заговорило чувство долга; он подумал, что можно будет прогнать подлого Малатесту, и возвратился в родной свой город.
* (Vauban, Nardi, 338; Varchi, lib. VIII, Ammirato, lib. XXX.)
** (Мудрецов, государственных чиновников (тал.).)
Первым его делом было защитить колокольню Сан-Миньято, важнейший пункт, сильно пострадавший от неприятельской артиллерии. За одну ночь он всю ее, сверху донизу, покрыл тюфяками, и ядра не причиняли ей больше вреда.
Все чудеса, какие только может совершить умирающая свобода, несмотря на измену вождей, были проявлены во время этой осады. Чтобы спастись, Флоренции недоставало лишь одного: террора. В течение одиннадцати месяцев среди ужасов голода граждане защищались так, как защищаются люди, знающие, что такое самодержавная власть. Они убили четырнадцать тысяч папских солдат и потеряли восемь тысяч своих. Под конец, прежде чем капитулировать, они хотели, по крайней мере, дать битву. Малатеста тайно сговорился с неприятельским полководцем. Биться не пришлось.
Первым пунктом капитуляции, открывшей Медичи ворота, было забвение обид. Вначале только и говорили, что о милосердии и доброте. Вдруг 31 октября отрубили головы шести самым храбрым из граждан. Число брошенных в тюрьмы и изгнанных было огромно*. Тотчас послали схватить Микеланджело. Обшарили весь его дом, вплоть до дымоходов; но не такой он был человек, чтобы дать поймать себя. Он исчез, к великой досаде полиции Медичи, потратившей на его поиски несколько месяцев**. Медичи требовали его головы, так как приписывали ему одну фразу, вследствие ее грубоватости распространившуюся в народе. "Надо,- говорили,- снести до основания дворец Медичи и на его месте устроить ярмарку для торговли мулами" (намек на незаконнорожденность Климента VII***).
* (Паоло Джовио хорошо говорит об этом: "Caeterum pontifex, quod suae existimationis pietatisque fore existimabat tueri nomen quod sibi desumpserat, moderata utens ultione, paucissimorum poena contentus fuit"****.)
** (Varchi, 448. Генеральный прокурор, уполномоченный папой совершать юридические убийства, назывался Баччо Валори (Вазари, X, 115).)
*** (Намек на незаконнорожденность Климента VII.- Папа Климент VII был незаконным сыном Джулиано Медичи.
По-итальянски "незаконный сын" - bastardo, от basto - "вьючное седло", которое обычно надевают на мулов. Отсюда - намек, заключенный в словах Микеланджело.)
**** (Впрочем, папа, ради своей доброй славы и ради благочестия, считая нужным оправдать имя, которое он избрал, ограничил свое возмездие и удовольствовался казнью очень немногих (лат.).
"Никого не презирал я так, как ничтожных краснобаев и бесчестную знать",- сказал Монтескье (Oeuvres posthumes. Стереотипн. изд., стр. 120).)
Этот лицемерный государь любил скульптуру; он написал из Рима, что если удастся разыскать Буонаротти и если он пообещает закончить гробницы в Сан-Лоренцо,- чтоб ему не делали никакого зла. Микеланджело надоело скрываться, и он спустился вниз с колокольни Сан-Николо-ольтре-Арно и под занесенным над головой лезвием террора в несколько месяцев окончил статую в Сан-Лоренцо. Много уж лет не видел он ни молотка, ни резца. Как и надо было ожидать, начал он с небольшой статуи Аполлона, для Валори.
За год перед тем, когда обсуждался вопрос об укреплении Флоренции, дворяне заявили, что как бы ни был искусен Микеланджело, ему все же полезно было бы побывать в Ферраре, славившейся фортификационным искусством и дарованиями герцога Альфонса.
Герцог Альфонс принял Микеланджело так же, как все принимали в Италии этого знаменитого человека. Он рад был показывать Микеланджело свои сооружения и беседовать об их достоинствах с таким знатоком; но когда Микеланджело собрался уезжать, герцог сказал ему: "Я объявляю вас своим пленником; я слишком бы погрешил против той самой тактики, о которой мы так много с вами беседовали, если бы, случайно захватив в свои руки такого великого человека, отпустил его, ничего не взяв с него. Вы не получите обратно свободы, пока не поклянетесь, что сделаете для меня что-нибудь - статую или картину, мне безразлично, лишь бы это было творением Микеланджело".
Буонаротти пообещал; и в виде отдыха от трудов за время осады он написал картину, изображающую любовь Леды. Дочь Фестия отдается объятиям лебедя, а в углу картины вылупливаются из яйца Кастор и Поллукс. Когда Флоренция пала, Альфонс поспешил послать одного из своих адъютантов, который был настолько ловок, что отыскал Микеланджело, но настолько глуп, что при виде картины сказал: "Только-то всего?" "Какого вы сословия?" - спросил в ответ Микеланджело. Обиженный царедворец, желая посмеяться над Флоренцией, крупным торговым центром, ответил: "Я купец". "Ну, так плохо же обделываете вы здесь дела своего хозяина. С чем приехали, с тем и уезжайте!" Вскоре после этого Антонио Мини, один из учеников Буонаротти, имевший двух сестер на выданье, обратился к нему за помощью и получил в подарок эту "Леду" вместе с двумя ящиками эскизов и рисунков. Мини все это увез во Францию. Франциск I купил "Леду", которая, как все картины этого рода, погибла, став, без сомнения, жертвою какого-нибудь духовника*.
* (Мне стало известно, что эта честь выпала на долю духовника министра Денуайе при Людовике XIII. Министр отдал приказ сжечь картину, хотя она и принадлежала казне. Его приказ в точности выполнен не был, так как в 1740 году картина, по свидетельству Мариетта, была снова обнаружена, хотя и в плачевном состоянии. Она была реставрирована и продана в Англию, где теперь ей только не хватает еще попасть в руки к какому-нибудь пуританину. И мы смеем еще требовать от наших художников греческой красоты! Деспотизм и иудейский закон нужен этим канальям!
Картина написана была клеевыми красками. Лучше всего передан этот прелестный сюжет, если не считать картину Корреджо, в Венецианской античной группе. Не решаюсь привести описание де Броса, который, однако, нисколько не преувеличивает. Рисунки, доставшиеся Мини, попали в кабинет короля и в собрания Кроза и Мариетта.)
Картон находится в Лондоне, в кабинете господина Локка. Говорят, что Микеланджело, оставив величественный свой стиль, столь не соответствующий сюжету, приблизился к манере Тициана; сильно в этом сомневаюсь.
В Ферраре он имел случай видеть портрет герцога кисти великого венецианца и очень его хвалил. Возможно, что в этом мелком жанре он считал Тициана одним из первых.
Не буду скрывать, что Буонаротти, пока пользовался властью во Флоренции, сделал одну маленькую несправедливость. Он оспаривал у Бандинелли прекрасную глыбу мрамора размерами в девять брасов (пять метров двадцать два миллиметра). Климент VII присудил ее раньше Бандинелли. Буонаротти, всемогущий тогда, заставил отдать ее ему, хоть соперник его начал уже делать статую. Микеланджело сделал модель "Самсона, который душит филистимлянина"; но Медичи вернули мрамор Бандинелли.
Глава CLXI. Статуи в Сан-Лоренцо
Не все статуи в Сан-Лоренцо были закончены. В произведениях ужасного жанра этот пробел почти приятен. Войдя, вы видите две гробницы: одну направо, другую налево, вдоль стен капеллы. В нишах над гробницами - статуи государей. На каждой из гробниц изображены лежащими аллегорические фигуры.
Именно: спящая женщина изображает Ночь*, а лежащий в странной позе мужчина - День. Эти две статуи помещены тут в качестве символов всепожирающего времени. Сразу видно, что эти статуи изображают День и Ночь, наподобие Гнева и Милости или каких-нибудь других двух духовных существ разного пола. Почти всегда можно быть уверенным, что будешь зевать со скуки, когда перед тобой Добродетели или Музы. Для их характеристики существуют лишь несколько условных атрибутов. Это то же, что описание в музыке.
* (Вазари восклицает: "Chi e quegH che abbia per alcun secolo in tale arte veduto mai statue antiche о moderne cosi fatte?"** (X, 109).)
** ("Кто в каком-либо веке видел в этом роде искусства древние или современные статуи, созданные подобно этим?" (итал.).)
Мне все же нравится "Ночь", несмотря на ее вычурную позу, при которой сон невозможен; это потому, что она послужила для Микеланджело поводом написать стихи, полные глубокого чувства.
Однажды он увидел следующую прикрепленную к статуе надпись:
La Notte, che tu vedi in si dole! atti Dormire, fu da un angelo scolpita In questo sasso; e perche dorme, ha vita; Destala, se no'l credi, e parliratti*.
* ("Ночь, которую ты видишь погруженною в сладкий сон, извлечена из мрамора рукою ангела, и так как она спит, значит - она жива. Если сомневаешься в том, разбуди ее".
Ответ:
"Мне отрадно спать, и еще отраднее - быть из мрамора. Пока длится царство пошлости и тирании, не видеть и не чувствовать - высшее для меня счастье. Поэтому не буди меня; прошу тебя, говори тихо".
Первое четверостишие принадлежит Дж. Б. Строцци**.)
** (В своем переводе четверостишия Строцци Стендаль опустил, вероятно, по рассеянности последние слова: "...разбуди ее, и она заговорит с тобою".)
Микеланджело на том же листе приписал:
Grato m'e il sonno, e piu l'esser di sasso. Mentre che il danno e la vergogna dura, Non veder non sentir m'e gran ventura. Pero nen mi destar; deh parla basso.
Счастлива была бы Италия, будь у нее больше таких поэтов!
Глава CLXII. Верность принципу ужаса
В этой ризнице всего семь статуй Микеланджело*. Слева - "Заря" и "Сумерки", а в нише сверху - "Герцог Лоренцо"; это Лоренцо, герцог Урбинский, умерший в 1518 году, подлейший человек**. Его статуя - самое возвышенное, какое я только знаю, выражение глубокой мысли и гениальности***. Это единственный случай, когда Микеланджело позволил себе насмешку.
* (Кроме двух подсвечников.)
** ("Il piu vil di quell' infame schiatta de Medici"****,- говорит о нем Альфьери. После Льва X эта выродившаяся семья порождала лишь глупцов и злодеев.)
*** (Статуя эта поразительно напоминает молчание знаменитого Тальма*****.)
**** (Самый подлый из этой гнусной породы Медичи (тал.).)
***** (Тальма (1763-1826) - французский трагик, считавшийся одним из величайших актеров своего времени.)
Тут нет ни одного преувеличенного движения, ни малейшего выставления напоказ силы: все - восхитительная естественность. Особенно хорошо движение правой руки; она небрежно опускается к бедру; голова как живая.
Направо - "День", "Ночь" и "Джулиано Медичи". В двух фигурах пожилых мужчин над гробницами усматривают близкое подражание бельведерскому "Торсу"; но подражание, отмеченное гением Микеланджело. "Торс" этот,- вероятно, Геркулес, причисленный к сонму богов и принимающий Гебу из рук Юпитера. Чтобы подчеркнуть оттенок божественности, греческий художник уменьшил рельеф всех мускулов и второстепенных частей. Переходам от выпуклых частей к вогнутым он придал особую мягкость. Все это для того, чтобы достигнуть эффекта, обратного тому, какой ставил себе целью Микеланджело*.
* (Хронологические данные относительно статуй:
"Торс" был найден в Кампофьоре, при Юлии II**.
"Геркулес Фарнезский", находящийся в Неаполе,- в термах Антония, при Павле III.
"Лаокоон" - в конце понтификата Юлия II, в пристройках к термам Тита***.
"Спящая Ариадна" - при Льве X.
Микеланджело, свидетель этих открытий и того восторга, который они вызывали, сам мог бы почувствовать все обаяние новизны, если бы его властный гений самыми корнями своими не был связан с потребностью внушать людям страх, чтобы руководить ими.
Самые ранние сведения об открытии памятников античности в Риме содержатся в своего рода путеводителях, издававшихся для путешественников. Эти книжечки, озаглавленные "Mirabilia Romae"****, выпускались в свет Адамом Ротом между 1471 и 1474 гг. Их продавали иностранцам вместе со "Справочниками об индульгенциях" - самой пустой и бесполезной книжонкой на свете.
Первые точные сведения даны в книге F. Albertino, изданной в 1510 г.: "Opusculum de mirabilibus novae et veteris Romae"*****. Он отмечает следующие произведения как уже известные за десять лет до смерти Рафаэля и более чем за пятьдесят - до смерти Микеланджело:
Два "Колосса" в Мойте Кавалло,
"Аполлон Бельведерский",
"Венера" с надписью: Veneri felici sacrum******,
"Лаокоон",
"Торс",
"Геркулес с ребенком",
Статуя "Коммода" в виде Геркулеса,
Другой "Геркулес", бронзовый,
"Капитолийская Волчица", в которую ударила в Сенате молния,
"Конь Марка Аврелия".)
** ("Metalloteca de' Mercati", стр. 367, примечание Ассальти.)
*** (Феличе де Фреди, нашедшему его, была назначена крупная пожизненная пенсия. В те времена достаточно было отыскать античный памятник, чтобы обеспечить благосостояние семьи.)
****(Достопримечательности Рима (лат.).)
***** (Книга о достопримечательностях нового и древнего Рима (лат.).)
****** (Дар счастливой Венеры (лат.).)
Его мысль о том, что искусство должно внушать ужас, нигде не бросается так в глаза, как в "Мадонне с младенцем", помещенной между двумя гробницами. Своим телосложением спаситель напоминает Геркулеса в детстве. В том, как стремительно повернулся он к матери, чувствуется уже сила и нетерпение. Очень естественна поза Марии, наклонившейся к сыну, В складках одежды нет греческой простоты, и они отнимают слишком много внимания. Тем не менее то, что тут доведено до конца, восхитительно.
Идеальный тип младенца Иисуса еще не найден. Я продолжаю исходить из двух допущений: что Мария не знает о его всемогуществе и что Иисус не желает обнаруживать в себе божество. Иисус в Madonna alia Seggiola изображен чересчур сильным и лишен грации; это ребенок из народа. Корреджо божественно передал глаза спасителя, как передавал он все, в чем видна любовь; но черты лица лишены благородства. Доменикино, так мастерски писавший детей, всегда изображал их застенчивыми. Гвидо, с его умением передавать небесную красоту, мог бы передать выражение божественной доброты, если бы он умел изображать глаза, как Корреджо.
В ризнице Сан-Лоренцо все: и скульптура и архитектура- принадлежит Микеланджело, за исключением двух статуй. Капелла не велика, хорошо содержится, достаточно освещена. Тут скорее, чем где бы то ни было, можно почувствовать гений Буонаротти. Но в тот день, когда вы полюбите эту капеллу, вы разлюбите музыку.
Микеланджело дрожал от страха, живя во Флоренции. Он чувствовал над собой руку герцога Алессандро - молодого тирана, который неплохо начал в стиле Филиппа II, но имел глупость позволить себя убить, отправившись на мнимое свидание с одной из городских красавиц.
Люди, подобные Филиппу II, питают смертельную ненависть к авторам четверостиший, и Микеланджело никогда не выходил ночью из дому. Когда герцог послал за ним однажды, чтобы поехать с ним вместе верхом осматривать фортификационные сооружения, Буонаротти вспомнил, против кого эти сооружения были возведены, и ответил, что имеет от Климента VII приказ все свое время отдавать статуям. Счастье его, что он не был во Флоренции, когда папа умер.
Неприятности, которые так удачно отвлекли его оттуда, заключались в следующем.
Поверенные герцога Урбинского снова возбудили против него преследование; он явился к ответу в Рим. Климент, желая удержать его во Флоренции, оказывал ему всяческую поддержку. Для того, чтобы выиграть процесс, Микеланджело в ней не нуждался, но главной заботой его было не попасть снова во власть Алессандро. Он тайно уладил дело с поверенным герцога. Его задолженность сводилась в действительности к нескольким сотням дукатов, так как он получил всего лишь четыре тысячи дукатов и оплатил из них все побочные расходы. Он признал за собой внушительный долг; папа, не выразивший никакого желания уплатить его, не мог воспрепятствовать подписанию Микеланджело договора, которым он обязывался проводить ежегодно восемь месяцев в Риме.
Глава CLXIII. Опасность дружбы с государями
План гробницы свелся к простому мраморному фасаду, примкнутому к стене, как это можно видеть теперь в Сан-Пьетро-ин-Винколи. Но Климент VII, вместо того, чтобы дать Микеланджело возможность выполнить свои обязательства, пожелал, чтоб он написал еще для Сикстинской капеллы две огромные картины: над дверью - "Свержение с неба Люцифера и его ангелов" и на противоположной стене за алтарем - "Страшный суд"*. Буонаротти, все еще страшась папы, только и занят был, казалось, картоном для "Страшного суда", на самом же деле трудился втайне над статуями.
* (Микеланджело нарисовал, говорят, "Падение Сатаны". Один сицилийский художник, который растирал ему краски, написал с этого картона фреску в капелле св. Георгия церкви Тринита-ин-Монте***. Несмотря на слабое исполнение, любители все же склонялись признать рисунок Буонаротти в изображениях нагих тел, которые сыплются с неба, по выражению Вазари**, X, 119.)
** (Вазари сообщает, что фреска "Падение Сатаны" в Тринита-дель-Монте находилась в капелле Сан-Грегорио (а не в капелле св. Георгия, как пишет Стендаль).)
*** (В одной из капелл этой церкви, реставрированной е. в. Людовиком XVIII. находится сейчас, в 1817 г., "Снятие со креста" Даниэле да Вольтерра, по рисунку Микеланджело: хоть и испорченная до последней степени, эта трехсотлетняя картина все же во много раз превосходит яркостью своих красок изображения святых, написанные в той же капелле, в 1816 г., учениками Французской школы.)
Климент умер*. Едва Павел III (Фарнезе) вступил на престол, как он уже послал за Микеланджело и заявил ему: "Я хочу, чтоб все твое время принадлежало мне". Микеланджело сослался на договор, который он подписал с герцогом Урбинским. "Как! - вскричал Павел III.- Вот уже тридцать лет, как я мечтаю об этом, и теперь, сделавшись папой, чтоб я от этого отказался? Где этот договор? Дай, я его разорву!"
* (Хронология пап:
Николай V, предшественник Медичи, 1447-1455.
Каликст III, 1455-1458.
Пий II, Эней-Сильвий, знаменитый писатель, 1458-1464.
Павел II, 1464-1471.
Сикст IV, 1471-1484.
Иннокентий VIII, 1484-1492.
Александр VI, 1492-1503.
Пий III, от 22 сентября 1503 г. до 18 октября 1503 г.
Юлий II, 1503-1513.
Лев X, 1513-1521.
Адриан VI, считавший "Лаокоона" идолом, 1522 -1523.
Климент VII, 1523-1534, лицемерный и слабый, навлек на Рим величайшие бедствия.
Павел III, 1534-1549, обожал своего сына, редкого наглеца, совершившего насилие над епископом и убитого в Пьянченце.
Юлий III, 1550-1555.
Маркел II, занимавший престол двадцать один день, в 1555 г.
Павел IV, 1555-1559.
Пий IV, 1559-1565.)
Буонаротти был уже стар и не хотел умирать, не выполнив долга по отношению к великому человеку, который его любил. Он готов уже был уехать во владения Генуэзской республики, в аббатство епископа Алерии, своего друга, и посвятить там остаток дней окончанию гробницы.
За несколько месяцев до того у него было намерение поселиться в Урбино, под покровительством герцога. Он даже отправил туда своего слугу с тем, чтобы тот купил для него дом и землю. В Италии одного покровительства законов было далеко не достаточно, чем объясняется то, что и сейчас еще приличия не возобладали над энергией.
Тем не менее, побаиваясь папы* и рассчитывая отделаться обещаниями, он остался в Риме.
* (Челлини был все это время в Риме; см. о нравах общества при папе Фарнезе. Сила, которая на каждом шагу оказывалась необходимой, делала невозможным новый идеал красоты.
Челлини прекрасно переведен на английский язык.)
Павел III, желая покорить Микеланджело ласкою, оказал ему великую честь, лично посетив его; он явился к нему в сопровождении десяти кардиналов: ему хотелось посмотреть на картон для "Страшного суда" и на законченные уже статуи для гробницы.
Кардинал Мантуи, увидев "Моисея", вскричал, что одной этой статуи за глаза довольно для прославления памяти папы Юлия. Уходя, Павел сказал Микеланджело: "Я берусь устроить так, что герцог Урбинский удовольствуется тремя статуями твоей работы; а другие скульпторы сделают три остальные".
В самом деле, с поверенными герцога заключен был новый договор. Микеланджело вовсе не желал, однако, пользоваться таким насильственным разрешением вопроса, и из полученных им четырех тысяч дукатов он отдал тысячу пятьсот восемьдесят на оплату трех других статуй. Так закончилось это дело, много лет лишавшее его покоя*.
* (См. два письма Аннибале Каро, знаменитого переводчика "Энеиды", в которых он просит одного друга герцога Урбинского простить Микеланджело ("Lettere Pittoriche", том III, стр. 133 и 145).)
Художник в своих сношениях с государями должен строго ограничиваться ролью поставщика-мастера, а мастерскую свою он должен стараться основать в свободной стране; тогда власть имущие вместо того, чтобы им помыкать, сами будут у его ног. Особенно должен он стараться избегать всяких частных сношений с государем, при дворе которого он живет. Царедворцы дорого заставят его заплатить за удовлетворение его честолюбия. Наблюдая современные нравы, скуку, в которую погружены покровители, и безмерную низость тех, кто покровительством этим пользуется, я готов поверить, что отныне художники будут выходить только из состоятельных классов*.
* (Grimm et Colle, passim. Единственный ныне живущий большой поэт** - пэр Англии. Я отлично знаю, что энергия нашла себе теперь приют только в том классе общества, который лишен воспитанности***; но двухпалатная система вернет энергию всем, даже высшей аристократии, которая всюду состоит из людей, утративших собственное лицо и столь же вежливых, сколь ничтожных. Страх перед презрением делает из английских пэров ученых.)
** (Единственный ныне живущий большой поэт - Байрон. Стендаль ссылается на "Correspondance litteraire" Гримма и на "Дневник" Коле, изданный после смерти автора в 1807 году.)
*** (Вспомните, из какого сословия происходили национальные гвардейцы, пожертвовавшие жизнью во время событий 1814 и 1815 гг. В Париже сильные страсти и героическую верность можно встретить только среди рабочих. Генералы, разбогатев, перестают сражаться.)
Глава CLXIV. "Моисей" В Сан-Пьетро-ин-Винколи
Юлий II избрал местом своего погребения церковь Сан-Пьетро-ин-Винколи, потому что он любил этот кардинальский титул: его носил раньше его дядя и покровитель, Сикст IV, затем он носил его сам в течение тридцати двух лет, а сделавшись папой, он последовательно наделял им своих самых любимых племянников.
"Моисей" оказал сильнейшее влияние на искусство. Приливы и отливы, которые так забавно наблюдать в человеческих мнениях,- причина тому, что никто уж давно его не копирует, но XIX век вернет ему признание ценителей.
Установления Ликурга просуществовали недолго. Моисеев закон, спустя много веков и несмотря на враждебное к нему отношение со стороны множества людей, сохранился и поныне. Из глубины своей могилы еврейский законодатель до сих пор управляет народом, насчитывающим девять миллионов; но святость, которой его облекли, вредит его славе великого человека.
Микеланджело оказался на должной высоте, принимаясь за этот сюжет. Статуя изображает сидящего человека, одеяние его варварское, руки и одна нога обнажены, размеры втрое превышают натуральные.
Если вы не видели этой статуи, вы не имеете понятия о возможностях скульптуры. Новая скульптура - не бог весть что. Мне думается, что, если бы ей пришлось состязаться с греками, она могла бы выставить "Танцовщицу" Кановы и "Моисея". Греки были бы поражены при виде столь новых и столь сильно действующих на человеческую душу произведений.
Несмотря на позднейшее пренебрежительное отношение к этой статуе с козлиным лицом*, Англия первая захотела иметь ее копию. В конце 1816 года принц-регент приказал сделать с нее слепок. Для того чтобы рабочие могли изготовить его, пришлось немного выдвинуть статую из ниши. Художники нашли, что от перемены своего положения она выиграла, и ее так оставили.
* (Асара**, Фальконе, Милициа, и т. д., и т. д.)
** (Мнения кавалера д'Асары и Фальконе о "Моисее" Стендаль приводит дальше. Работа Милициа была переведена на французский язык под заглавием "Искусство видеть в изящных искусствах", 1798.)
Глава CLXV. "Моисей" (продолжение)
Статуе этой посчастливилось в том смысле, что случаю было угодно установить странное соответствие между характерами художника и государя. Подобная гармония, сказавшаяся также в надгробном памятнике Марии-Христины в Вене*, отсутствует в надгробии Альфьери. Италия, оплакивающая его останки, не та Италия, в которой желал он пробудить негодование.
* (Надгробный памятник Марии-Христины в Вене и Альфьери во Флоренции - работы Кановы. Стендаль видел первый в 1809 году, второй - в 1811.)
Направо от "Моисея" - женская фигура, больше натуральной величины, с глазами и руками, поднятыми к небу и с преклоненным коленом, изображающая жизнь созерцательную.
Налево - фигура, символически изображающая жизнь деятельную, внимательно смотрится в зеркало, которое держит в правой руке.
Странный образ для деятельной жизни. Впрочем, в Италии уже отказались от всех этих эмблем, посредством которых старались придать статуе тот или иной иносказательный смысл. Этот отвратительный стиль господствует теперь только в Англии*,
* (Статуи в Гилдхолле**.)
** (Гилдхолл - лондонская ратуша. Статуи Гилдхолла - памятники Нельсону и лорду Чатаму.)
Глава CLXVI. Христос в Санта-Мария-сопра-Минерва. Флорентийская Vittoria
Незадолго до взятия и разгрома Рима Микеланджело послал туда своего ученика Пьетро Урбано, который поставил в церкви Санта-Мария-сопра-Минерва "Христа", выходящего из гробницы и торжествующего победу над смертью.
Тут был повод для подражания грекам; евангельские слова "Speciosus forma prae filiis hominum"* должны бы были привести Микеланджело к радующей взор красоте, если вообще что-нибудь могло руководить этим великим человеком. Этот "Христос", сделанный для Метелло да Поркари, римского дворянина, все еще только атлет.
* (Иисус, красивейший из сынов человеческих.)
Трогательное благочестие верующих заставило снабдить эту статую сандалиями из позолоченного металла. Но уже в наши дни одна из этих сандалий почти целиком исчезла под нежными поцелуями богомольцев.
По приезде во Флоренцию надо посетить большой зал в Палаццо Веккьо; там находится статуя, прозванная della Vittoria*. Это статный юноша, совершенно нагой. Он типичен для манеры Микеланджело. Скульптор высек его во Флоренции для гробницы Юлия II; смелые и величественные формы статуи вполне здесь уместны; они говорят о силе, которая ведет к победе. Голова мала и незначительна.
* (Победы (итал.).)
Этот юный воин попирает ногами закованного в цепи раба. Статуя эта оттеняет "Моисея", вследствие разительного с ним контраста. "Моисей" - гений, который замышляет, Vittoria - сила, которая исполняет*.
* (Есть люди, дерзающие произносить по поводу Микеланджело слово погрешности. См. главу о "Погрешностях" в "Жизни Корреджо", т. IV**.)
** (Стендаль имеет в виду том IV своей "Истории живописи в Италии", оставшийся ненаписанным, как и "Жизнь Корреджо", которая должна была составить часть этого тома.)
Две фигуры рабов, также предназначавшиеся для гробницы Юлия, служат наилучшим украшением зал новой скульптуры, присоединенных е. в. Людовиком XVIII к Луврскому музею*. Этот государь, любитель искусств, предполагает, по слухам, собрать в Лувре четыреста гипсовых слепков самых знаменитых статуй, античных и новых**.
* (Эти статуи принадлежали раньше герцогу Ришелье; они соответствуют тем, которые указаны в плане гробницы. В саду Боболи во Флоренции показывают несколько эскизов статуй, приписываемых Микеланджело.
В Брюгге, в церкви Богоматери, есть "Мадонна с младенцем" из мрамора, которую молва приписывает Микеланджело. Она, вероятно, принадлежит художнику его школы. Это - добыча одного фламандского корсара, плывшего из Чивита-Веккьи в Геную.)
** (Можно было бы поручить Камуччини**** скопировать в Риме прекрасные картины Рафаэля и Доменикино. Г-на Жироде хорошо было бы послать копировать "Страшный суд" и "Сикстинскую капеллу", а г-на Прюдона - в Дрезден, раздобывать для нас "Ночь" Корреджо, "Святого Георгия" и другие шедевры, получился бы таким образом зал, которым глупцы, быть может, стали бы чванно пренебрегать. Но их принудили бы восторгаться хотя бы количеством скопированных картин.
Это, может быть, единственное средство спасти нашу школу. Для народа, хорошим тоном у которого считается - отсутствие жестов, необходимы Микеланджело, чтобы помешать художникам копировать Тальма****. См. выставку 1817 года.)
*** (Камуччини (1775-1844) - римский живописец. См. о нем ниже, "Салон 1824 г.".)
**** (Надо ли доказывать, что то, что у Рафаэля божественно, на сцене показалось бы холодным?)
Глава CLXVII. Отзыв Микеланджело о живописи масляными красками
Павел III, получив теперь Микеланджело всецело в свое распоряжение, пожелал, чтобы он работал только над "Страшным судом".
Следуя советам Фра Себастьяно дель Пьомбо, он хотел, чтобы Микеланджело писал маслом. Микеланджело ответил, что либо он вовсе не станет писать картину, либо сделает фреску, так как масляные краски пригодны только для лентяев или для женщин. Он приказал сбить со стены штукатурку, подготовленную Фра Себастьяно, сам наложил первый слой извести и приступил к работе.
Глава CLXVIII. Страшный суд
Videbunt Filium hominis veni - entem in nubibus caeli cum virtute multa er maiestate.
* (Узрят сына человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. Евангелие от Матфея (лат.).)
Живопись, рассматриваемая как искусство, воспроизводящее пространственную глубину или магические эффекты освещения и красок, не есть живопись Микеланджело. С Паоло Веронезе или Корреджо у него нет ничего общего. Пренебрегая, подобно Альфьери, всем тем, что малозначительно и имеет характер аксессуаров, он занялся исключительно изображением человека, и притом еще не столько посредством живописи, сколько посредством скульптуры.
Редко случается, чтобы в живописи были уместны совсем нагие фигуры. Живопись должна передавать, чувства скорее при помощи взглядов и выражения человеческого лица - что ей вполне доступно,- нежели при помощи формы мускулов. Торжество живописи - в применении ракурсов и красок при изображении одежды.
Мы не в силах больше противиться ее чарам, когда ко всем этим прелестям она еще присоединяет сильнейшее из своих очарований - светотень. Этот ангел производил бы холодное впечатление, если бы прекрасное его тело было расположено в плане, параллельном глазу, и показано было целиком, но Корреджо заставляет его удаляться в ракурсе, и он производит самое живое впечатление*. Художники, которым картины не по силам, пишут копии статуй**. Микеланджело заслуживал бы тех же упреков, что и они, если бы, подобно им, он остановился на неприятном; но он дошел до ужасного, и, кроме того, фигуры, изображенные им в "Страшном суде", нигде до него не встречались.
* ("Madonna alia scodella", в верхнем левом углу картины. То же самое, еще отчетливее, в "Благовещении" Бароччо (в палаццо Сальвиати, в Риме, 1817 г.). Принцип заключается в следующем: видеть многое на малом пространстве; в цветном барельефе - наоборот.)
** (Пишут копии статуй - намек на школу Давида.)
На первый взгляд эта огромная стена, вся покрытая нагими человеческими телами, мало удовлетворяет. Такой подбор тел никогда в природе нам не встречался. В одной нагой человеческой фигуре, стоящей отдельно, легче всего выразить самые возвышенные свойства. Мы в состоянии подробно рассмотреть очертания каждой части тела и восхищаться ее красотой; вам ведь известно, что только очертания мускулов в состоянии покоя могут передать душевные свойства. В том случае, когда прекрасное нагое тело не преисполняет нас возвышенными чувствами, оно, естественно, возбуждает в нас сладострастные мысли. Очаровательное колебание между этими двумя состояниями души волнует нас при виде "Граций" Кановы. Без сомнения, прекрасная нагота - высшее достижение скульптуры; этот сюжет очень подходит также и к живописи; но не думаю, чтобы в ее интересах было изображать одновременно более трех или четырех обнаженных фигур. Злейший враг наслаждения - непристойность*; кроме того, внимание, уделяемое зрителем мускулатуре, всегда идет в ущерб вниманию, которого требует выражение чувств; а такое внимание к мускулатуре только и может быть холодным**. Обнаженная фигура, если она одна, почти наверно пробудит в нас чувства самые нежные, самые чистые; группа из нескольких обнаженных фигур содержит в себе что-то неприличное и грубое. С первого взгляда "Страшный суд" вызвал у меня чувство, подобное тому, которое охватило Екатерину II в день ее восшествия на престол, когда при ее появлении в казарме гвардейского полка толпа полуодетых солдат плотно окружила ее кольцом***.
* (Корреджо сделал все, чего можно достигнуть в этом жанре, в своей "Леде", исчезнувшей из музея в 1814 году. Одной-двумя обнаженными фигурами больше - и получилась бы уже непристойность. Порпорати выгравировал частичную копию этой картины, находящуюся в палаццо Колонна в Риме. Из благочестивых соображений распущенные волосы прикрыли на ней грудь обнаженной девушки, плещущейся в воде.)
** (Ибо у нас есть много других способов составить себе представление о характере, кроме очертаний мускулов.)
*** (Рюльер****.)
**** (Рюльер - в своем сочинении "История или анекдоты о революции в России" (1797) пишет: "Ее встретили человек тридцать солдат, которые выбежали в беспорядке, одеваясь на ходу... Их вид поразил ее: она побледнела; заметно было, как дрожь пробежала по всему телу".)
Но это чувство, в котором есть что-то непроизвольное, быстро исчезает, ибо рассудок напоминает, что иначе, как только так, событие совершиться не может. Микеланджело разделил свою драму на одиннадцать главных сцен.
Приблизившись к картине, замечаешь прямо перед глазами, почти в самом центре ее, ладью Харона*. Налево - чистилище, затем - первая группа: мертвецы, пробужденные в прахе могил грозной трубой, сбрасывают с себя саваны и облекаются плотью. У некоторых видны еще обнаженные кости; другие, все еще под гнетом многовекового своего сна, высунули из-под земли только головы; одна фигура, совсем в углу картины, с трудом приподымает крышку гроба. Монах, левой рукой указывающий на грозного судью,- портрет Микеланджело.
* (Проследите это по гравюре. Вот построение картины Микеланджело:
4 5
3 11 6
2 10 7
1 9 8
374
)
Эта группа связана со следующей посредством фигур, которые сами собой подымаются на судилище; они устремляются ввысь не все одинаково быстро - с большей или меньшей легкостью, в зависимости от тяжести грехов, в которых им предстоит дать отчет. Чтобы показать, что христианство проникло даже в Индию, одна нагая фигура увлекает за собой к небу, с помощью четок, двух негров, один из которых одет монахом. Среди, этих устремляющихся на судилище фигур второй группы выделяется одна, особенно великолепная, с рукой, простертой в помощь грешнику, взор которого, при всей снедающей его тоске, обращен все же ко Христу с каким-то проблеском надежды.
Третья группа, с правой стороны от Христа, целиком состоит из женщин, спасение которых несомненно. Лишь одна из них совершенно обнажена. И только две головы принадлежат женщинам пожилым; все они что-то говорят. Есть только одна голова, с нашей точки зрения, действительно прекрасная: это мать, которая берет под свою защиту испуганную дочь и смотрит на Христа с выражением благородной уверенности. Только и есть во всей картине что эти две фигуры, которые не охвачены ужасом. Эта мать своим движением слегка напоминает группу "Ниобеи".
Над женщинами четвертую группу образуют существа, к событию непричастные; это ангелы, торжественно несущие орудия страстей господних. То же самое представляет собою и пятая группа, помещенная в правом углу картины.
Под ней, слева от Спасителя,- лучшее из всего, что создал Микеланджело; это сонм блаженных, только мужей. Выделяется фигура Еноха. Две группы изображены целующимися; это родственники, которые узнают друг друга. Увидеться после стольких столетий, да еще только что избежав такой беды! Вполне естественно, что священники* осуждали этот порыв и подозревали постыдные побуждения. Последние из святых этой группы показывают орудия своих мучений осужденным, чтобы усилить их отчаяние. Оно в эту минуту должно быть у них уже полным. В этом месте картины Микеланджело допустил странную оплошность. Св. Власий, показывая осужденным что-то вроде грабель - по-видимому, орудие своих мучений,- наклоняется над св. Екатериной, которая первоначально была совершенно обнажена, и с живостью к ней оборачивается. Даниэле да Вольтерра специально было поручено одеть св. Екатерину и повернуть голову св. Власия к небу.
* (В XV веке.)
Седьмой группы одной было бы достаточно, чтобы воспоминание о Микеланджело навеки врезалось в память самому равнодушному зрителю. Никогда ни один художник не создал подобного, и никогда не было зрелища ужаснее, чем это.
Это несчастные осужденные, влекомые на муки мятежными ангелами. Буонаротти перевел на язык живописи мрачные образы, некогда запечатлевшиеся в его душе под влиянием пламенного красноречия Савонаролы. Он выбрал по одному примеру для каждого из смертных грехов. Скупость сжимает в руке ключ, Даниэле да Вольтерра отчасти замаскировал ужасное наказание за один грех, крайнее изображение справа, у самой рамы. Увлеченный своим сюжетом, взвинтив свое воображение непрерывными, длившимися восемь лет, размышлениями об этом столь ужасном для верующего дне, Микеланджело, вознесшись до роли пророка и помышляя лишь о своем спасении, решил наказать как можно убедительнее тот порок, который особенно был тогда в моде. Ужас этого наказания доведен, мне кажется, до истинно возвышенного в этом жанре.
Один из осужденных на муки хотел, по-видимому, убежать. Его тащат два демона, и огромный змей терзает его. Он схватился за голову. Это образ ужасающего отчаяния. Одной этой группы довольно было бы, чтобы обессмертить художника. Ни на что подобное нет намека ни в античном, ни в новом искусстве.
Я знаю женщин, у которых целую неделю стоял перед глазами этот образ, смысл которого им был разъяснен. Нет надобности говорить о качестве исполнения. Для нас непостижима необъятность этого кричащего совершенства. Человеческое тело, переданное на этой картине в ракурсах и в самых невероятных положениях, способно навсегда привести любого' художника в отчаяние.
По замыслу Микеланджело, все осужденные, чтобы попасть в ад, должны переправиться туда на ладье Харона; мы видим, как их высаживают. Харон, с пылающими от гнева глазами, гонит их из своей лодки ударами весла. Демоны хватают их как попало. Замечательна одна фигура, охваченная судорогами страха: ее тащит ее, вонзив ей в спину изогнутые вилы.
Минос отдает распоряжения. Это портрет мессера Бьяджо*.
* (Одного из критиков Микеланджело. См. ниже, гл. CLXXII.)
Он указывает пальцем то место, которое предназначено несчастному посреди огня, виднеющегося в отдалении. Но у мессера Бьяджо - ослиные уши; он помещен, не без умысла, прямо под картиной наказания за один постыдный порок. Его фигура отличается всею низостью, допустимой в столь ужасном сюжете; змея, дважды обвившись вокруг его тела, жестоко жалит его и указывает на тот путь, который привел его в ад*. Найти тип этих демонов было почти столь же трудно, как найти тип Аполлона; но он гораздо сильнее трогал сердце христиан XV века.
* (Имя этого церемониймейстера, может быть, дало бы ключ к объяснению действий св. Власия?)
Пещера налево от лодки Харона изображает чистилище, где осталось только несколько бесов, горюющих, то им некого больше мучить. Последние очистившиеся грешники уведены оттуда ангелами. Они уходят, несмотря на все усилия демонов их удержать; Микеланджело образовал из них две великолепные группы. Над ужасным кормчим - группа из семи ангелов, которые пробуждают от сна усопших звуком грозной трубы. С ними несколько учителей церкви; им дано повеление показывать осужденным тот закон, который их осуждает, а только что воскресшим - устав, согласно которому их будут судить.
Мы дошли, наконец, до одиннадцатой группы. Иисус Христос представлен там в то мгновение, когда он произносит свой страшный приговор. Безмерный ужас леденит всех, кто его окружает. Мадонна отвернулась к содрогается. С правой стороны - величественная фигура Адама. Полный того эгоистичного страха, который люди испытывают в минуту опасности, он совсем не думает о всех этих существах, своих детях. Сын его Авель схватил его за руку. Около левой его руки виднеется один из тех допотопных патриархов, которые возраст свой измеряли столетиями; глубокая старость мешает ему держаться прямо.
Слева от Христа св. Петр, верный робкому своему нраву, поспешно показывает спасителю вверенные когда-то ему ключи от небесного царства, в которое он сам боится теперь не быть допущенным. Моисей, законодатель и воин, пристально смотрит на Христа, столь же внимательно, как и бесстрашно. Святые, расположенные выше, замечательно естественным и правдивым жестом простирают руки, как мы это делаем, услышав о каком-нибудь страшном событии.
Пониже Христа св. Варфоломей показывает ему тот нож, которым содрана была с него кожа. Св. Лаврентий прикрывается решеткой, на которой он испустил дух. Женщина, помещающаяся под ключами св. Петра, словно укоряет Христа за его строгость*.
* (Женщина... словно укоряет Христа за его строгость...- Здесь на рукописи Стендаль записал: "Нужно признать, что лицо у Спасителя свирепое",- и в другом месте: "Это лицо каннибала".)
Христос здесь совсем не судья: это враг, с наслаждением карающий своих врагов; жест, которым он сопровождает свое проклятие, полон такой силы, словно он хочет метнуть копье.
Глава CLXIX. "Страшный суд" (продолжение)
Посреди одиннадцати главных групп разбросано несколько фигур в более удаленном от зрителя плане; например, над выходящими из земли мертвецами - две устремляющиеся на суд фигуры.
Фигуры в трех нижних группах - размерами в шесть футов каждая. Фигуры, окружающие Иисуса Христа,- в одиннадцать футов. Ангелы, увенчивающие собой картину, имеют всего только шесть футов*.
* (Написано и измерено в Сикстинской капелле (23 января 1817 года, в возрасте 34 лет).)
Из одиннадцати сцен этой великой драмы только три происходят на земле. Восемь остальных совершаются на облаках, на различном расстоянии от глаза зрителя. Персонажей всего счетом триста; в картине пятьдесят футов в высоту и сорок в ширину.
У колорита нет, конечно, ни блеска, ни точности венецианской школы; он далеко не лишен, однако, известных достоинств и вначале отличался, должно быть, большой гармонией. Фигуры выступают на ярко-голубом фоне неба. В тот великий день, когда должно быть видно столько людей, воздух должен быть очень чист.
Фигуры в нижней части картины - наиболее законченные. Трубящие ангелы выписаны так же тщательно, как в станковой живописи, на кратчайшем расстоянии от глаза. Последователей Рафаэля особенно пленял ангел посередине, с протянутой левой рукой. Он весь словно надулся. Оценено было и преодоление трудностей в изображении Адама, который, хоть и наделен прекрасно развитой мускулатурой, все же обнаруживает ту глубокую старость, которой достиг первый человек. Кожа спадает с него.
Сюжет "Страшного суда", подобно всем сюжетам более чем с восемью или десятью персонажами, мало пригоден для живописи. Кроме того, он представляет еще особое неудобство: надо было изобразить огромное число персонажей, которым ничего другого не остается делать, как только слушать; Микеланджело блестяще преодолел эту трудность*.
* (Я не настолько искушен в богословии, чтобы разрешить одну трудность, которая могла повлиять на размещение сцен у Микеланджело. Страшный суд, по-моему, не более как церемония. Это - суд лишь для тех, кто умер только что, вследствие кончины мира. А все остальные грешники уже давно знают свою участь, и она удивить их не может. Так как чистилище отныне упразднено, то души, не вполне очистившиеся, идут, вероятно, в ад.)
Ни один человеческий глаз не в состоянии отчетливо охватить всю картину в целом. Следовало бы, чтоб какой-нибудь государь, покровитель искусств, заказал с нее копию в виде панорамы.
Глубоко поэтическая трактовка этого сюжета у Микеланджело значительно превосходит возможности холодного дарования, присущего нашим художникам XIX столетия. Они с презрением отзываются о его картине, и они были бы лицемерами, если бы отзывались иначе. Нельзя заставить почувствовать, и потому отвечать на их критику я не стану. Она обычно доходит у них до брани, потому что их раздражает какое-то ощущение величия, проникающее даже в их черствые сердца. У Буонаротти все действующие лица обнажены; как можно было изобразить их иначе? Пуккери написал во Флоренции картину "Суда" с одетыми персонажами: она просто смешна, Синьорелли* в Кортоне написал другую, где персонажи полуодеты, что уже лучше.
* (Фрески Синьорелли находятся не в Кортоне, а в Орвьетто.)
Так как великие мастера, создавая свой идеальный образ, опускают некоторые подробности, художники-ремесленники обвиняют их в том, что они якобы не видят этих подробностей. Молодые ваятели в Риме* питают самое искреннее презрение к Канове. Один из них доставил мне огромное удовольствие, сказав следующее: "Канова не умеет изображать человека". Поместите в галерее, среди двадцати античных статуй, две статуи Каковы - и вы увидите, что публика будет останавливаться перед статуями Кановы. Произведения античности, наоборот, кажутся холодными.
* (В 1817 г. (Примечание сэра В. И.))
Книги о живописи полны указаний на недостатки Микеланджело*. Менге, например, осуждает его открыто; но, прочитавши его критику, сравните "Моисея" Менгса в зале Папирусов и "Моисея" в Сан-Пьетро-ин-Винколи. Тут мы находимся на одном из тех горных перевалов, которыми навсегда разделены между собой гений и пошлость. Не поручусь, что многие из художников не отдают предпочтения "Моисею" Менгса из-за ракурса руки. Разве возможно, чтобы люди с вульгарным вкусом не испытывали восторга перед тем, что вульгарно?
* (См. Милициа (в переводе Поммереля), Асару, Менгса.)
Чтобы не пропустить ничего в этой главе, приведу наиболее значительные критические отзывы. Впрочем, каждый прав по-своему; надо только подсчитывать голоса.
Живописцы-ремесленники утверждают, что суставы у фигур Микеланджело недостаточно гибки и кажутся созданными только для того положения, которое он им придает. Его тела слишком изобилуют округлыми формами. Мускулы слишком мясисты, что мешает уловить в фигурах движение. В руке, согнутой так, как, например, правая рука у Христа, мышцы разгибающие, приводящие в движение предплечье, вздуты так же, как и мышцы приводящие, так что судить по их форме о движении нельзя. Мускулов в спокойном состоянии у фигур Микеланджело нет. Он лучше, чем кто бы то ни было, знал положение каждого мускула, но он не придал им их действительной формы. Сухожилия у него слишком мясисты и мощны. Кисти рук - неестественной формы. Любимый его тон - красный; некоторые даже утверждают, что у него совсем нет светотени. Контуры его фигур резки, распадаются на небольшие части*. Пальцы - неестественной формы**. Все эти так называемые недостатки были для Микеланджело тем привлекательнее, что являлись прямой противоположностью робкой и кропотливой манеры, дальше которой до него искусство не шло; он созидал идеал. Отвращение к холодному и пошлому стилю привело Корреджо к ракурсам, а Микеланджело - к необычайным позам. Таким же образом потомство упрекнет нас за чрезмерную ненависть к тирании: оно не ощутит, подобно нам, всей сладости последних двух лет***.
* (Сравните "Гладиатора" с "Аполлоном".)
** (См. веки у "Паллады" из Веллетри)
*** (Последних двух лет...- Стендаль имеет в виду два года Реставрации, эпоху белого террора. "Сладость последних двух лет" - конечно, жестокая ирония.)
Охотно признаю, что ангел, заносящий правую ногу на крест (в четвертой группе), наделен движением, которое могло быть внушено лишь отвращением к пошлому стилю.
Это отталкивает нас тем более, что XIX веку свойственно стремление к сильным чувствам, передаваемым, однако, простыми средствами. Все вычурное, перегруженное прикрасами, сразу же кажется нам ничтожным. Величественность архитектурного стиля Микеланджело отчасти затенена этим недостатком.
Пошлые люди упрекают Микеланджело и Корреджо в совершенно противоположных недостатках, а между тем ответ им должен быть в обоих случаях один.
Глава CLXX. "Страшный суд" (продолжение)
Мне помнится, что в Париже нет ни одной статуи Микеланджело*. Вполне понятно. Но так как эта страна сумела все-таки породить Лесюера, почувствовавшего, что такое грация, не будучи итальянцем, я скажу поэтому юноше, способному, быть может, чувствовать, что срисовывание статуй и выравнивание их в виде барельефа еще не есть живопись: "Изучайте гравюру "Страшного суда", сделанную Мецом**; она начерчена стеклом, до последней степени точно. Следовательно, она передает не замысел Микеланджело, но только то, что Даниэле да Вольтерра с разрешения цензуры мог в нем оставить. Гравюра, воспроизводящая у г. Меца картину в целом, передает рисунок Буонаротти. А еще лучше, возьмите маленькую гравюру***, сделанную до исправлений Даниэле да Вольтерра. Вот противоядие холодному театральному стилю, подобно тому, как пребывание в Венеции - единственное для нас средство избавиться от серого, землистого колорита".
* (За исключением двух "Рабов" (оставшихся незаконченными) в Лувре.)
** (Рим, 1816 г., 240 франков. Взять издание на бумаге большого формата.)
*** (На ней значится подпись: "Apud Carolum Losi". Медная доска принадлежит (в 1817 г.) г-ну Мельместеру, автору очаровательных копий с рафаэлевских лодж,- человеку, который на редкость хорошо понимает рисунок великих мастеров.)
Глава CLXXI. Суждения иностранцев о Микеланджело
Как Моцарт в статуе "Дон-Жуана"*, так и Микеланджело, стремясь внушить ужас, собрал все, что есть отталкивающего** во всех элементах живописи: в рисунке, в колорите, в светотени,- и, тем не менее, он сумел овладеть вниманием зрителя. Можно себе представить, чего только не говорили люди, приезжавшие судить его с точки зрения законов изнеженного стиля или античного идеала красоты. Это то же, что наши Лагарпы, рассуждающие о Шекспире.
* (Как Моцарт в статуе Дон Жуана.- Стендаль имеет в виду финал второго акта оперы Моцарта "Дон Жуан".)
** (За исключением того, что внушает презрение.)
Один очень уважаемый во Франции писатель, г-н Фальконе*, знаменитый скульптор, дойдя до "Моисея", восклицает, обращаясь к Микеланджело: "Ну, и мастер же ты, дружище, принижать великие вещи". И прибавляет, что, в конце концов, этот хваленый "Моисей" гораздо больше похож на каторжника с галеры, чем на вдохновенного законодателя.
* (Цитата из книги Фальконе "Замечания о статуе Марка Аврелия" (1771).)
Г-н Фюсли, писавший об искусстве со всем глубокомыслием уроженца Берна, говорит*: "Все художники изображают своих святых стариками - конечно, потому, что преклонный возраст они считают необходимым условием для святости, и там, где величественный и достойный вид им не по силам, они заменяют его морщинами и длинными бородами. Пример этого - "Моисей" в церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи работы Микеланджело, который пожертвовал красотой ради анатомической точности и своей страсти к впечатлению ужаса или, вернее, грандиозности. Нельзя удержаться от смеха, когда читаешь начало описания этой статуи у рассудительного Ричардсона: так как это произведение очень знаменито, то нельзя сомневаться, что оно очень хорошо. Если справедливо, что Микеланджело изучал руку знаменитого сатира виллы Лодовизи, несправедливо считающегося античным, то весьма вероятно, что он изучал также и его голову с целью придать ее характер своему "Моисею": ибо обе головы, как говорит сам Ричардсон, похожи на голову козла. Безусловно, в этой статуе, взятой в целом, есть что-то чудовищно великое, чего у Микеланджело не отнимешь; это была буря, предвещавшая ясные дни Рафаэля".
* (Письма Винкельмана, том II.)
Знаменитый кавалер Асара, считавшийся в прошлом веке человеком любезным и, однако же, писавший со всей заносчивостью педанта, говорит:
"Микеланджело за всю свою долгую жизнь не создал ничего ни в скульптуре, ни в живописи, и, ни, может быть, даже в архитектуре, что имело бы целью доставить наслаждение или дать почувствовать красоту,- вещь ему неведомую,- но всегда руководился единственно лишь желанием выставить напоказ свое мастерство. Он считал, что владеет величественным стилем, а на самом деле стиль у него был самый мелочный, самый, может быть, грубый и неуклюжий. Его искривленные тела многих приводили в восторг, но достаточно бросить взгляд на его "Страшный суд", чтобы увидеть, до каких пределов может дойти нелепость в картине"*. Винкельман тоже, наверно, написал о Микеланджело что-нибудь подобное, но я не могу его процитировать, потому что никогда не читал этого писателя.
* ("Сочинения Менгса", римское изд., стр. 108. Можно казаться манерным, будучи на деле естественным; таковы Петрарка и Мильтон. Они так мыслили. Чем больше старались они выразить свои чувства, тем более чувства эти кажутся нам вычурными.)
Микеланджело затратил более двенадцати лет на изучение мускулатуры со скальпелем в руках. Один раз он чуть не погиб смертью Биша*.
* (Биша (1771-1802) - французский медик, смерть которого приписывали заражению, происшедшему во время работы над трупом.)
Рассказывают, что знаменитый Джошуа Рейнольде, единственный, кажется, настоящий художник у англичан, отличался странной чертой. Он открыто заявлял о своем величайшем восхищении Микеланджело. На портрете, который он послал во Флоренцию, для залы автопортретов, он изобразил себя со свитком в руках, на котором можно прочесть: "Dissegni deH'immortal Buonarotti"*. Напротив, всю свою жизнь как в разговоре, так и в своих сочинениях он проявлял крайнее пренебрежение к Рембрандту, а между тем он сложился как художник исключительно под влиянием этого великого живописца, тогда как Микеланджело он никогда и ни в чем не подражал; и после его смерти оказалось, что все принадлежавшие к его собранию картины голландского мастера - превосходные подлинники, а все, что он имел из произведений Микеланджело,- копии, да притом еще очень плохие.
* (Рисунки бессмертного Буонаротти (итал.).)
Я понимаю, что ни в Голландии, ни в Германии, с их туманами и придирчивыми властями, почувствовать Микеланджело невозможно. Но англичане меня удивляют: народ, самый энергичный из всех, должен бы почувствовать самого энергичного из художников.
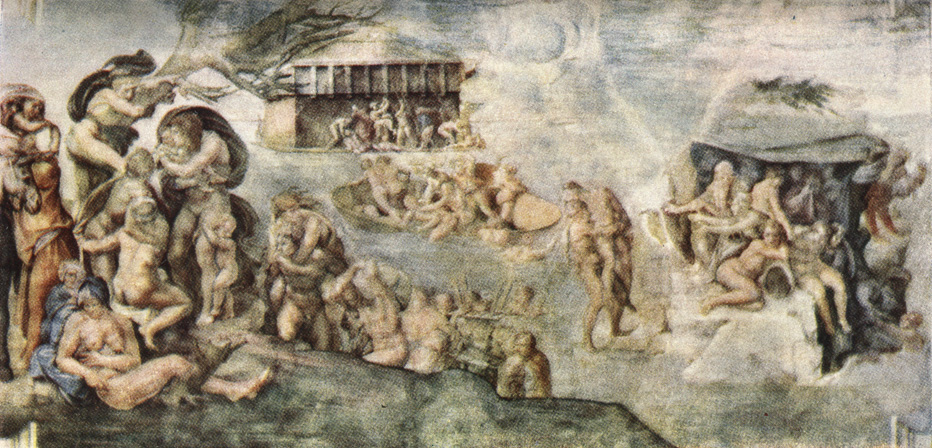
Микеланджело. Потоп. (Сикстинская капелла. Рим.)
Правда, что англичанин перед лицом величайших опасностей любит щегольнуть своим хладнокровием. Вдобавок, не говоря уже о том, что нет у него ни времени/ни необходимого достатка*, чтобы заниматься такими пустяками, как искусство, он еще отравлен сейчас каким-то стремлением к живописности, а такого рода книги задерживают обычно развитие народа лет на пятнадцать - двадцать. Англичане питают склонность к меланхолии и готике, что есть признак хорошего вкуса, так как она внушена им климатом; но она надолго делает недоступной несокрушимую силу Микеланджело. В конце концов, только у женщин в Англии есть время заниматься искусством, и притом они пишут только гуашью или акварелью.
* (Климат и вынужденная привычка к благоразумию - причиной тому, что многие из англичан не чувствуют музыки; многие также лишены способности чувствовать живопись. См. очаровательные нелепости г-на Роско** по поводу Леонардо да Винчи ("Жизнь Льва X", IV, глава XXII). Они называют гримасами свойственную южным народам экспрессию (Уорден). Англичане слишком горды, подобно тому, как французы слишком тщеславны, чтобы понять иностранца.)
** (См. ...нелепости г-на Роско.- Вот слова Роско о Леонардо да Винчи: "В то время как Рафаэль и Микеланджело украшали своими бессмертными произведениями храмы и дворцы Италии, Леонардо забавлялся тем, что выдувал пузыри... и привязывал крылья ящерицам... признаки характера, который можно найти в его произведениях, где видно желание выйти за пределы, намеченные природой, и создать экспрессию, которой недостает правдивости. Такие наклонности обличают дерзновенный ум, который может привести художника к тому, что он станет изображать карикатуры, уродливые фигуры и гримасы, как это слишком часто случалось с Леонардо да Винчи".)
Так как народ этот все еще обладает достатком крупной фирмы, приближающейся к банкротству, ему следовало бы этим воспользоваться и собрать в Лондоне пять или шесть произведений Микеланджело; это сразу же избавило бы величайший в Европе город от присущего ему в целом какого-то оттенка однообразия и бесцветности*.
* (Выставка 1817г**. показывает, что английская школа должна вскоре народиться. Боюсь только, успеет ля. Министры отвечают тиранией на требования реформы, которые с каждым днем становятся все более обоснованными; пожалуй, там будет революция.)
** (Выставка 1817 г.- На Парижской выставке 1817 года английская школа представлена не была. Очевидно, Стендаль имеет в виду выставку в Лондоне.)
Но все же она должна, рано или поздно, понять Микеланджело, эта нация, для которой написаны и которая прекрасно чувствует следующие слова Макбета:
I have almost forgot the taste of fears: The time has been, my senses would have cool'd To hear a night-shriek; and my fell of hair Would at a dismal treatise rouse and stir As life were in't: 1 have supp'd full with horros; Direness familiar to my slaught'rous thoughts Cannot once start me.- Wherefore was that cry?*
* (У англичан есть еще одна черта вкуса, сближающая их с Микеланджело. Поразительное величие прекрасных деревьев, в изобилии встречающихся у них в сельских местностях, компенсирует, на мой взгляд, всю невыгодность их положения в отношении искусства.
Во Франции не имеют понятия об этих почтенных дубах, многие из которых видели Вильгельма Завоевателя.)
** (
Мне даже трудно вспомнить вкус испуга. А было время, чувства леденели При полуночном крике; волоса От страшного рассказа шевелились, Как бы живые. Я пресыщен жутью. С ужасным мой жестокий разум свыкся И глух к нему. Что это был за крик?
Перевод М. Лозинского.)

Рафаэль. Обручение. (Галерея Брера. Милан.)
Глава CLXXII. Влияние Данте на Микеланджело
Мессер Бьяджо, церемониймейстер Павла III, сопровождавший его при осмотре наполовину оконченного "Страшного суда", сказал его святейшеству, что такое произведение было бы более уместно в трактире, чем в папской капелле. Едва папа удалился, как Микеланджело по памяти написал портрет мессера Бьяджо и поместил его в аду в образе Миноса. Грудь ему, как мы видели, обвил несколько раз ужасный змеиный хвост*. В ответ на настойчивые жалобы церемониймейстера Павел III сказал в точности следующее:
* (У Данте сказано:
Stavvi Minos orribilmente, e ringhia Esamina le colpe nell'entrata; Giudica e manda, secondo ch'avvinghia, Dico, che quando l'anima mal nata Gli vien dinazi, tutta si confessa: E quel conoscitor delle peccata Vede qual luogo d'inferno e da essa; Cignesi con la coda tante volte, Quantunque gradi vuol che giu sia messa.
Inferno, c. V.**)
** (
Здесь ждет Минос, оскалив страшный рот, Допрос и суд свершает у порога И взмахами хвоста на муку шлет. Едва душа, отпавшая от бога. Пред ним предстанет с повестью своей, Он, согрешенья различая строго, Обитель ада назначает ей, Хвост обвивая столько раз вкруг тела, На сколько ей спуститься ступеней.
Данте. Ад, песнь V, 1-9. Перевод М. Лозинского.)
"Вы знаете, мессер Бьяджо, что я получил от бога полноту власти на небе и на земле; но в аду я не имею никакой силы; поэтому так уж и оставайтесь".
Всякие придиры не упустили случая сделать Микеланджело замечание: "Вы поместили в аду Миноса и Харона"*.
* (
Caron demonio con occhi di bragia Loro accennando, tutte le raccoglie, Batte col remo qualunque s' adagia. Inferno.**
)
** (
"А бес Харон сзывает стаю грешных, Вращая взор, как уголья в золе, И гонит их и бьет веслом неспешных"...
Данте. Ад, песнь III, 109-111. Перевод М. Лозинского.)
Такое смешение издавна допускалось церковью. В заупокойной мессе упоминаются Тартар и Сивиллы. Во Флоренции к тому времени уже два века Данте был во всем, что касается ада, своего рода пророком. 1 марта 1304 года народ решил доставить себе удовольствие и посмотреть на ад. Русло Арно стало преисподней*. Разнообразнейшие пытки, придуманные мрачным воображением монахов или поэта,- озера кипящей смолы, огонь, лед, змеи,- испробованы были на живых людях, вопли и корчи которых доставили зрителям одно из самых полезных для религии развлечений.
* (Русло Арно стало преисподней.- Рассказ о представлении ада на берегу Арно Стендаль нашел у Сисмонди ("История средневековых итальянских республик"). Но, согласно Сисмонди, это событие происходило не 1 марта, а 1 мая. Кроме того, пытки, вопреки утверждению Стендаля, были не настоящие: это была лишь инсценировка.)
Нет ничего удивительного, что Микеланджело, в согласии с обычаями своей страны, не исчезнувшими и поныне, сам увлеченный к тому же поэмой Данте, представлял себе ад так же, как и он.
Гордый дух обоих этих людей вполне сходен*.
* (Письмо Данте императору Генриху**, 1311 год.)
** (Письмо Данте императору Генриху VII.- В письме от 16 апреля 1311 года Данте увещевал императора, не тратя времени на войну с ломбардскими городами, идти прямо на Флоренцию.)
Если бы Микеланджело написал поэму, он создал бы графа Уголино, точно так же, как Данте, будь он скульптором, создал бы "Моисея".
Никто сильнее Данте не любил Вергилия, и ничто так мало не напоминает "Энеиду", как "Ад". Микеланджело глубоко поражен был античным искусством, и ничто так не противоположно ему, как собственные его произведения.
Оба они предоставили пошлой заурядности заниматься грубым внешним подражанием. Они прониклись принципом: создать то, что наиболее отвечает вкусам моего века. Для итальянца XV века не было ничего ничтожнее головы "Аполлона", как в XIX веке для француза нет ничего ничтожнее Ксифареса*.
* (Ксифарес - герой трагедии Расина "Митридат".)
Подобно Данте, Микеланджело не доставляет удовольствия, но пугает, угнетает воображение грузом страдания: уж нет больше сил быть мужественным, горе овладело душой всецело. После Микеланджело вид самого обыкновенного пейзажа очарователен; он выводит из состояния подавленности. Впечатление достигает такой силы, что почти причиняет страдание; по мере того, как оно ослабевает, оно начинает доставлять удовольствие.
Подобно образам Данте, вид фрески Микеланджело надолго вселил бы ужас в сердце узника. Это противоположность музыки, которая смягчает даже сердца тиранов.
Подобно тому, что мы видим у Данте, сюжет, избираемый Микеланджело, почти всегда лишен величия и тем более красоты. Что может быть в армии заурядней случая, когда публичная девка убивает неосторожного, оставшегося у ней на ночь? Но сюжеты Микеланджело мгновенно становятся возвышенными благодаря той силе выразительности, которую он придает им. Юдифь уж не Жак Клеман*, она уже Брут.
* (Жак Клеман (1567-1589) - убийца короля Генриха III, прославленный католическими писателями, провозглашенный ими мучеником и даже ангелом; его поступок часто сравнивали с подвигом библейской героини Юдифи, отрубившей голову полководцу вражеского войска.)
Подобно Данте, Микеланджело сообщает свое собственное духовное величие тем предметам, которым позволяет волновать себя и которые затем он изображает, а не заимствует это величие у них самих.
Подобно Данте, он обладает стилем, строгость которого остается в искусстве непревзойденной и который наиболее противоположен стилю французскому. Он полагается на свой талант и на восторг перед ним.
Глупец испуган, наслаждение порядочного человека от этого возрастает. В его сердце этот мужественный талант пробуждает симпатию.
Под впечатлением Микеланджело, как под впечатлением Данте, душа леденеет от избытка серьезности. Отсутствие всяких риторических приемов усиливает это чувство. У нас перед глазами лицо человека, который только что увидел что-то ужасное.
Данте рассчитывает возбудить интерес у людей, которые ему кажутся несчастными. Он не описывает ничего внешнего, как это делают французские поэты. Единственный его прием состоит в возбуждении сочувствия к тому, что он переживает сам. То, что он нам показывает, никогда не самый предмет, но впечатление, вызванное этим предметом в его душе*.
* (
"Е caddi come corpo morto cade"**.
Данте. Ад, песнь V, 142. Перевод М. Лозинского.)
** ("И я упал, как падает мертвец".)
Одержимый священным неистовством, подобно ветхозаветному пророку, Микеланджело с гордостью отвергает всякую симпатию. Он говорит людям: "Подумайте о самих себе, вот бог Израиля в гневе своем".
Некоторым удавалось в рисунках довольно хорошо передать Гомера или Вергилия. Все гравюры к Данте, какие я только видел, до последней степени смехотворны*. Это потому, что для такого дела требуется сила, а она теперь большая редкость.
* (Например, "Граф Уголино" Джошуа Рейнольдса.)2
Микеланджело читал великого художника средних веков в издании in-folio с комментариями Ландино, с полями в шесть дюймов. Сам того не замечая, он зарисовал пером на этих полях все, что поэт развертывал перед его взором. Этот том погиб в море.
Глава CLXXIII. "Страшный суд" (окончание)
Работая над "Страшным судом", Микеланджело упал со своих подмостков и сильно расшиб себе ногу. Он заперся у себя и не желал ни с кем видеться. Когда случай привел к нему Баччо Ронтини, знаменитого врача, почти столь же своенравного, как его друг, все двери оказались на запоре. Так как нельзя было ни от кого добиться ответа - ни от слуг, ни от соседей,- Ронтини спустился с большим трудом в погреб и, с не меньшим трудом поднявшись оттуда наверх, попал наконец к Буонаротти, которого нашел запершимся у себя в комнате и решившимся так там и умереть. Баччо не захотел его покинуть, насильно оказал ему медицинскую помощь и вылечил его.
Микеланджело потратил на "Страшный суд" восемь лет и открыл его для осмотра в день рождества, в 1541 году; ему тогда было шестьдесят семь лет*.
* (Аретино**, большой умница, оппозиция средним векам, сообщил Микеланджело свои замечания относительно его "Страшного суда" и поддерживал с ним переписку. "Письма Аретино", т. I, стр. 154; II, 10; III, 45; IV, 37.)
** (Аретино (1492-1557) - итальянский гуманист и писатель, отличавшийся крайней непристойностью многих своих произведений. Стендаль объясняет эту его особенность как реакцию на средневековый аскетизм.)
В Неаполе находится произведение, которое очень облегчает изучение этой огромной, закоптевшей от свечей картины. Это очень удачный эскиз; рисунок приписывают самому Буонаротти и считают, что краски положены под его наблюдением его другом Марчелло Венусти. Фигуры размерами невелики, меньше, чем в одну пядь, но, несмотря на это, прекрасно сохраняют свой величественный и грозный характер. Эта любопытная картина отличается такой свежестью красок, как если бы она была написана в наши дни. Ей теперь нет цены, когда подлинник так пострадал.
Меня уверяют, что семейству Колонна в Риме принадлежит вторая копия работы того же Венусти.
Глава CLXXIV. Фрески в капелле Павла
Павел III, соорудив новую капеллу рядом с Сикстинской (1549 г.), поручил расписать ее гениальному человеку, который ему служил. Туда заходят посмотреть остатки двух больших фресок "Обращение св. Павла" и "Распятие св. Петра". Восемь или десять раз в году в этой капелле служат сорокачасовые мессы, с множеством зажженных свечей. Мне удалось рассмотреть только белого коня апостола Павла. Надо поторопиться снять с этих картин копии*.
* (Но ни на что больше нет денег. Я видел только трех работников в Кампо Ваччиио и сто восемнадцать в Помпее, вместо пятисот, которыми располагал там Иоахим (февраль 1817 г., В. И.).)
Это была последняя работа Микеланджело, которому, как он сам говорил, стоило большого труда довести ее до конца. Ему было семьдесят пять лет. Это уже не тот возраст, чтобы заниматься живописью, а тем более фресковою. В Неаполе показывают несколько, картонов к этим двум картинам.
Глава CLXXV. Манера работать
В одной книге XVI века мы читаем: "Могу сказать, что видел Микеланджело, когда ему было за шестьдесят, тощего, далеко по виду не силача; но за четверть часа работы из-под его руки вылетало столько осколков самого твердого мрамора, сколько не могли бы отбить в час трое молодых, здоровеннейших скульпторов,- факт, в который трудно поверить тому, кто не видел этого своими глазами. Он работал с такой стремительностью, с таким неистовством, что каждую минуту глыба грозила разлететься в куски. С каждым ударом летели на землю осколки в три или четыре пальца толщиной, и его резец проходил так близко от линии контура, что если бы осколок был отбит чуть-чуть подальше, все бы погибло"*.
* (Blaise de Vigenere "Image de Philostrate", стр. 855, примечание.)
Опаленный представшим ему видением красоты и боясь его потерять, этот великий человек словно разъярялся на мрамор, который скрывал в себе его статую.
Нетерпение, стремительность, сила, с которой он набрасывался на мрамор, были, должно быть, причиной тому, что он слишком выделял подробности. Этого недостатка в его фресках я не нахожу.
Каждый день, прежде чем приступить к росписи потолка в Сикстинской капелле, он должен был переносить на штукатурку точные контуры, нарисованные им раньше на картоне. Вот два этапа в работе, исправляющие погрешности, которые проистекают в ней от нетерпения.
Вы ведь помните, что в фресковой живописи художник ежедневно приказывает наложить то количество штукатурки, которое он предполагает заполнить; на этот еще сырой слой он наносит иглой, следы которой видны в капелле св. Павла, контуры своего рисунка. Таким образом, импровизировать в фресковой живописи нельзя, нужно сначала проверить по картону впечатление от всей вещи в целом.
Что касается статуй, нетерпение часто заставляло Буонаротти ограничиваться небольшой моделью из воска или из глины. В отношении деталей он полагался на свой гений. "Буонаротти,- говорит Челлини,- испробовав на деле оба метода, а именно изготовление статуй из мрамора по моделям такой же величины, как статуи, и по моделям значительно меньших размеров, в конце концов убедился в огромной разнице между ними и решил применять первый способ. В этом я имел случай убедиться, наблюдая, как он работал над статуями в Сан-Лоренцо"*.
* ("Трактат о скульптуре")
Канова делает статую из глины. Его помощники снимают гипсовый слепок, по которому делают из мрамора копию статуи. Материальная сторона искусства сведена тут к тому, чем должна быть, то есть великий художник нашего времени так мало обременен ручным трудом, что за год в состоянии сделать двадцать или тридцать статуй.
Не знаю, окажет ли гравирование по камню ту же услугу Моргенам и Мюллерам*.
* (Ту же услугу Моргенам и Мюллерам.- Литография в момент появления "Истории живописи" была во Франции новинкой. Рафаэль Морген (1758-1833) и Мюллер (1747- 1830) - известные граверы на меди.)
Глава CLXXVI. Картины Микеланджело
Их очень мало. Он презирал этот великий жанр. Почти все, которые ему приписываются, написаны его подражателями, по его рисункам. Молчание Вазари и недостаточное терпение самого Микеланджело равно свидетельствуют об этом.
Некоторые в лучшем случае сделаны были у него на глазах. Можно обнаружить распределение красок, приближающееся к его манере. Тогда это работы Даниэле да Вольтерра или Фра Себастьяно, лучших его подражателей. Подлинники этих картин были, должно быть, скопированы либо фламандскими мастерами, либо итальянцами разных школ, в чем убеждает несходство колорита. Так написаны были картины на следующие сюжеты: "Спящий младенец Иисус", "Молитва в Гефсиманском саду" и "Снятие со креста". Чаще других встречается в галереях картина Микеланджело "Иисус, умирающий на кресте", откуда - басня о человеке, которого будто бы распял Буонаротти. Нередко встречаются св. Иоанн и мадонна, а иногда два ангела, собирающие кровь спасителя.
Лучшее из его распятий - в Каза Кьяппини, в Пьяченце. Болонья имеет их три - в собраниях Капрара, Бонфильоли и Бьянкани*. Фра Себастьяно, живописец венецианской школы, которого Микеланджело любил за его отличный, подчас даже возвышенный колорит, написал в Риме по его рисункам "Бичевание" и "Преображение"**. Это было в те времена, когда Рафаэль заканчивал последнюю свою картину; как передают, мастер из Урбино, узнав, что Микеланджело предоставляет в распоряжение Фра дель Пьомбо свои рисунки, выразил свою благодарность великому художнику за то, что он считает его достойным с ним состязаться. Фра Себастьяно написал "Снятие со креста", которое находится в церкви св. Франциска в Витербо.
* (Боттари дает перечень этих распятий. Я нашел некоторые из них в галереях Дориа и Колонна в Риме.)
** (Сан-Пьетро-ин-Монторио.)
Он воспроизвел свое "Бичевание", находящееся в Риме, для одного монастыря в Витербо; и, наконец, в картезианском монастыре в Неаполе путешественник, любуясь красивейшим в мире видом, может увидеть третий вариант все того же "Бичевания", который приписывают самому Буонаротти.
Венусти по его рисункам написал два "Благовещения", "Лимбы" палаццо Колонна и "Иисуса на Голгофе" палаццо Боргезе, не считая еще прекрасного "Страшного суда" в Неаполе. Франко написал "Похищение Ганимеда", перешедшее в Берлин вместе с галереей Джустиниани. Чудесно показана тут мощь орла и испуг юноши; у крыльев орла нет той нелепой несоразмерности с тяжестью, которую он поднимает, как в маленькой античной группе в Венеции*. Но, с другой стороны, чудесно переданное в античном творении выражение лица юноши и влюбленность орла тут совершенно отсутствуют. Нежные чувства представлены только грустным видом верной собаки Ганимеда, которая смотрит на уносящегося ввысь хозяина.
* (В большом зале Совета, на Пьяцетте, 1817 г.)
Понтормо написал "Венеру и Амура" и "Явление Христа" - сюжет, повторенный для Читта ди Кастелло после того, как Микеланджело сказал, что лучше сделать не мог бы никто.
Сальвиати и Буджардини написали немало картин по его рисункам. И в следующем столетии художники нередко к ним обращались.
Говорят, что в соборе Бургоса есть одно "Святое семейство" Буонаротти*. Я говорил о другом, которое находится в флорентийской галерее и подлинность которого бесспорна. Оно написано клеевыми красками, и, хотя колорит бледен, картина производит впечатление хорошо сохранившейся. У мадонны на ней такой вид, словно она похитила младенца Иисуса, и ее сходство с цыганкой укрепляет эту смешную мысль. Упрек этот отчасти относится и к мраморной "Мадонне" в Сан-Лоренцо. Младенцы тут - маленькие мужчины.
* (Мадонна и младенец Иисус, стоящий на камне подле колыбели; фигуры в натуральную величину; картина эта первоначально принадлежала семейству Моцци во Флоренции (Сопса, 1, 24).)
В области литературы можно указать несколько гениальных умов, мысли которых, для того чтобы их оценила публика, нуждались в разъяснении со стороны болтунов, от которых не требовалось ничего другого, кроме умения писать. Так же точно и картины Микеланджело, изуродованные временем или помещенные на слишком большом расстоянии от глаза, сплошь и рядом доставляют больше удовольствия в копиях, чем в подлиннике.
Его рисунки, которых довольно много, всегда поражают. На одном клочке бумаги он начинал рисовать скелет той фигуры, которую собирался изобразить, а на другом облекал этот скелет мускулами. Его рисунки подразделяются на две группы: 1) наброски пером первоначальных замыслов, без подробностей, и 2) рисунки для картин, которые могут быть с них написаны любым, самым посредственным живописцем. Тут есть все*.
* (У Мариетта был такой рисунок "Христа торжествующего", из церкви Мария-Сопра-Минерва.)
Человек столь нетерпеливый не мог писать портретов; упоминают только один рисунок, изображающий Томазо де Кавальери, молодого римского дворянина, у которого Микеланджело находил редкие способности к живописи. В палаццо Фарнезе показывают бюст Павла III; в Капитолии - бюст Фаерне.
После фресок в капелле Павла Микеланджело не мог оставаться бездеятельным. Он говорил, что работа с молотком в руке полезна для его здоровья. В возрасте семидесяти девяти лет, то есть в ту пору, когда писал Кондиви, он работал еще время от времени над "Снятием со креста", колоссальной группой, которую он хотел подарить какой-нибудь церкви под тем условием, что ее поставят на его могиле.
Эта группа, в которой закончена только фигура Христа, была помещена во флорентийском соборе*. Лучше бы сделали, если бы исполнили волю великого человека. Это было бы гораздо более подходящим, а главное, более благородным надгробием, чем надгробие его в Санта-Кроче.
* (За главным алтарем, под куполом Брунеллески. Это самая трогательная из всех групп Микеланджело; причиной этому - капюшон у фигуры, поддерживающей Иисуса Христа.)
Глава CLXXVII. Микеланджело - зодчий
Следует остановиться на библиотеке Сан-Лоренцо во Флоренции, на Капитолии, на куполе и на наружных частях собора св. Петра в Риме.
В 1546 году умер Антонио Сангалло, архитектор, строивший собор св. Петра. Браманте умер еще в 1514 году, Рафаэль - в 1520. Микеланджело давно уже пережил своих соперников, как и всех вообще великих людей, окружавших его в пору молодости. Он был в искусстве бог, но бог угнетенного народа. Им одним восторгались, его одного копировали; и, глядя на своих подражателей, он восклицал: "Стиль мой предназначен создавать редких глупцов!"
Он наконец одержал верх над интригами, которые преследовали его в молодости. Но победа была печальной; потеряв соперников, он в их лице потерял судей. Ему недоставало их хулы. Он чувствовал себя одиноким. До нас дошла от него даже горячая похвала Браманте. Кто бы уверил его во времена Сикстинской капеллы, что он со временем будет оплакивать Браманте и Рафаэля!
После смерти Сангалло долго не могли выбрать ему заместителя; наконец Павлу III пришло в голову пригласить старика Микеланджело. Папа приказал ему, почти что заклиная небом, взять на себя это бремя, от которого Микеланджело отказывался.
Он отправился в храм св. Петра, где застал учеников Сангалло в крайнем изумлении. Они с вызовом показали ему модель, приготовленную их учителем. "Это луг,- сказали они,- на котором всегда найдется, что косить". "Вы ближе к истине, чем сами подозреваете,- ответил Микеланджело,- впрочем, я прислан сюда против собственной воли. Мне вам надо сказать одно только слово: приложите все усилия, прибегните к помощи всех ваших друзей и добейтесь, чтобы меня устранили от постройки св. Петра".
Он сказал Павлу III: "Модель, сделанная Сангалло*, со всеми этими выступами, углами и мелкими деталями, скорее приближается к готике, чем к мудрой античной простоте или к изящной манере нового времени. Что до меня, я сберегу два миллиона и пятьдесят лет труда, ибо не считаю великие работы пожизненной пенсией".
* (Стендаль не мог видеть модели Сангалло и Микеланджело в 1807 году, так как посетил Рим впервые в 1811 году.)
В две недели он изготовляет свою собственную модель собора, истратив на нее двадцать пять скудо. На изготовление модели Сангалло потребовалось четыре года, и стоила она ему четыре тысячи скудо*.
* (Я еще видел ее в Бельведере в 1807 г., рядом с моделью Микеланджело.)
Павел III догадался издать декрет*, которым передавал Буонаротти собор в полное распоряжение. Получив этот декрет, Микеланджело сделал только одно замечание: он попросил добавить, что свои обязанности он будет выполнять безвозмездно. Когда в конце месяца папа послал ему сто скудо золотом, Микеланджело ответил, что уговора на это не было, и настоял на своем, хотя папа очень сердился. Несмотря на то, что он критиковал Сангалло, в его собственной работе много выступов, углов и мелких деталей, заслоняющих величие его стиля.
* (Или motu proprio (Bonanni, "Templum Vaticanum" стр. 64). Грамота Павла III говорит о Микеланджело почти что в почтительных выражениях.)
Глава CLXXVIII. История собора св. Петра
В 324 году гнусный Константин заложил первый камень. В 626 году Гонорий повесил массивные двери из серебра. В 846 году сарацины похитили их; им не удалось ворваться в Рим, но храм св. Петра был тогда за городскими стенами.
Рассказ о том, что позволяло себе проделывать духовенство в этом древнем храме св. Петра, приняли бы за злую сатиру*. Его грабили, сжигали, опустошали бесконечное число раз, но стены все-таки уцелели. В течение XIII и XIV столетий папы много раз восстанавливали его. Наконец Николай V задумал перестроить храм и пригласил для этого Леоне-Баттисто Альберти. Едва возведены были над уровнем земли стены, как этот папа умер (1455 г.); все было брошено до тех пор, пока другой великий человек не вступил на этот престол. 18 апреля 1506 года Юлий II, имея от роду семьдесят лет, твердой и решительной поступью спустился в глубокий ров, вырытый под фундамент для новой церкви, и заложил первый камень. Архитектором был Браманте. Его план был прост, строг и великолепен. После него Рафаэль, Джулиано да Сангалло, Фра Джокондо да Верона продолжали постройку. Лев X истратил на нее огромные суммы, обогатившие Германию. Первоначальный план с каждым днем искажался все больше и больше, пока наконец тот, кому принадлежала самая мысль возобновить постройку, не был назначен руководителем работ. Он составил план самой изумительной части, той, которая придает ценность всему остальному, той, которая не заимствована у греков. В 1564 году, после смерти Буонаротти, его сменил Виньола. Купол был окончен при Клименте VIII; им занято было несколько архитекторов. Наконец, самый посредственный из них, Карло Мадерна, портя то, что было сделано до него, окончил всю постройку в 1613 году, при Павле V.
* (Например, при Павле V Гримальдо пишет: "Tempore dementis VIII ego Jacobus Grimaldus habui hanc notam... Sub Paulo V presbyteri illi, quibus cura imminebat dictae bibliothecae, vendiderunt plures libros illis qui tympana feminarum conficiunt. et inter alios, ex mala fortuna, dicti libri S. Petri contigit etiam numerari, vendi distrahi et in usu tympanorum verti, obliterarique memoriae in eo descriptae, id omni vitio, et inscitia et malignitate presbyterorum"**)
** ("Во время Климента VIII я, Якопо Гримальдо, получил следующее известие... При Павле V священники, которым была поручена эта библиотека, продали множество книг тем, кто изготовлял женские бубны, и случилось, к несчастью, что среди других вышеназванные книги св. Петра были отсчитаны, проданы, разорваны, и пошли на изготовление бубнов, и позабыты были деяния, в них записанные,- все это благодаря порокам, невежеству и скаредности священников".)
Бернини присоединил наружную колоннаду, восхитительное преддверие!
Талант королей в том, чтобы распознавать таланты. Когда государь распознал гения, ему следует потребовать от него план и выполнить его без рассуждений. Мания совещаний и придирчивых проверок губит искусство. Собор св. Петра, построенный по плану Микеланджело, занял бы в зодчестве место высшее, чем "Аполлон Бельведерский"*.
* (Своя измерения собора св. Петра Дюмон опубликовал в 1763 г. в Париже; тут обнаруживается безвкусица подробностей. Костагутги, Бонанни, Фонтана, Чампини дали описания.)
Несмотря на огромные свои недостатки и порчу, привнесенную посредственностями, собор св. Петра - величайшее из всего, что было видано на свете*.
* (Может быть, нечто подобное найдется в Индии.)
По мере того, как мы лучше узнаем Грецию, в наших глазах исчезает материальное величие, которым жалкие педанты хотели непременно наделить этот маленький народ. Он велик был свободой и разумом*. Эрудиты, которых этого рода величие смущает, захотели наделить его тем, что составляет привилегию деспотизма,- огромными зданиями.
* ("История Греции" Митфорда. Тут показано, что греки всегда разделялись на две партии, как в Соединенных Штатах: демократическую и аристократическую.)
Если верить им, храм Зевса в Афинах имел в окружности четыре стадии; на самом же деле он имел приблизительно семьдесят семь футов ширины и сто девяносто длины*. Храм Зевса в Олимпии был меньше любой из наших церквей**. Храм Артемиды в Эфесе изобиловал украшениями, как собор в Лоретто, но размерами не превышал храма Зевса Олимпийского.
* (См. Стюарт, Леруа, Вернон, Павзаний и особенно весьма интересное "Путешествие" г-на Гобгауза, историка.)
** (По Павзанию, шестьдесят восемь футов в вышину, двести тридцать в длину и девяносто пять в ширину, включая портик, который окружал храм.)
Парфенон в Афинах и храм Фортуны Пренестинской в Риме были не больше. Последний был чем-то вроде английского сада, предназначенного внушать уважение.
Мне думается, что это было вроде того, что мы видим на Борромейских островах. Поднимались вверх террасами, расположенными одна над другой; шли по галереям, разным пристройкам; подходили, наконец, к простой колоннаде в форме изумительно изящного полукруга, посреди которого статуя Фортуны восседала на троне.
У нас нет ничего, с чем можно было бы сравнить эту очаровательную постройку. Мы не умеем пленять сердца. Это искусство у нас отсутствует, и святилища Италии дают о нем лишь слабое представление*. Церковь, сооруженная в таком стиле на мысе** среди прекрасных деревьев Англии, без сомнения, трогала бы сердца.
* (Мадонна-дель-Монте, около Варезе.)
** (Например, на Моунт-Эджкомбе.)
Храм Соломона имел всего пятьдесят пять футов в вышину и сто десять в длину. Храм св. Софии, начиная с турецкого полумесяца, имеет только сто восемьдесят футов.
Собор св. Петра имеет шестьсот пятьдесят семь футов в длину, четыреста пятьдесят шесть в ширину, и крест возносится на четыреста десять футов над землей. Никогда ни один религиозный символ не приближался так к небу*.
* (В 1694 г. архитектор Фонтана подсчитал, что собор св. Петра стоил уже к тому времени двести тридцать пять миллионов.
Неф имеет тринадцать туазов и четыре фута в ширину; его высота, под замком свода,- двадцать четыре туаза; свод - в три фута шесть дюймов толщины. Высота, считая от пола до шара на куполе, равняется шестидесяти трем туазам пяти дюймам. Шар имеет в диаметре шесть футов два дюйма*. На этом шаре помещается крест в тринадцать футов высоты; его иллюминируют каждый год, вечером в день св. Петра**. Операцию эту поручают самому смелому в Риме рабочему. Он для проформы исповедуется и причащается, так как всегда все обходится благополучно. Я видел, как один такой рабочий храбро взбирался наверх. В Риме, как и всюду, энергия сохранилась лишь в этом классе людей***.)
* (Мне рассказывали, что несколько лет тому назад, когда два испанских монаха находились внутри этого шара, случилось землетрясение, которое привело шар в колебание. Чтобы почувствовать землетрясение, лучшего места, чем в этом шаре, и не придумаешь благодаря длине рычага; один из несчастных монахов тут же и умер (Де Врос, III, 15).)
** (Стендаль не бывал в Риме в день святого Петра, следовательно, не мог видеть рабочего, поднимающегося на крест собора.)
*** (См. слова каменщика, сказанные кардиналу Аквавива в "Путешествии" Дюкло****. Рим, в 1814 году, in 8°, издано в Брюсселе.)
**** ("Путешествие" Дюкло.- В своем "Путешествии по Италии" автор рассказывает, что жители Рима во главе с каменщиком Джакомо решили взорвать палаццо кардинала Аквавивы, мстя за то, что он приказал стрелять в народ. Кардинал призвал Джакомо и ласковыми уговорами добился от него лишь обещания, что он лично не примет участия в предприятии.)
Собор св. Павла в Лондоне на добрую четверть ниже. "Богоматерь" Миланского собора возвышается на триста тридцать пять футов над землей.
Для того, кто не видел собора св. Петра, всякое описание бесполезно. Это отнюдь не греческий храм: все тут отмечено итальянским гением, воображающим, будто он подражает грекам.
За исключением Микеланджело ни у одного из архитекторов не хватило ума понять, что они стремились примирить непримиримое. Религия была в Греции праздником, а вовсе не угрозой. Подражание грекам изгнало из собора ужас, который еще более поражает в готических зданиях. Вообще же здесь слишком много украшений; если бы апостолы Петр и Павел явились с того света в Ватикан, они спросили бы об имени божества, которому там поклоняются.
Глава CLXXIX. Гений, преследуемый посредственностью
Сангалло построил также палаццо Фарнезе; Павел III просил Микеланджело взяться и за него. Снаружи недоставало только карниза. Микеланджело начертил его и приказал изготовить кусок его из дерева, а затем поднять его и укрепить на должном месте, чтобы можно было проверить впечатление.
Так же точно в Париже, когда задумали построить дворец на холме Пасси*, люди, знающие, до чего трудно в подобных условиях избежать посредственности, высказывали пожелание, чтобы фасад был сделан сначала из дерева и чтобы дворец этот был изображен на одной из декораций для Оперы.
* (Дворец, о котором говорит Стендаль,- дворец римского короля (сына Наполеона), постройка которого была начата около 1813 года.)
Верхняя часть дворца палаццо Фарнезе также работы Микеланджело, и путешественник без труда убеждается в этом по тому почтению, которое она к себе внушает*. Павел III умер (в 1549 г.). Юлий III, его преемник, подтвердил сперва полномочия Микеланджело, но ученики Сангалло продолжали интриговать. Папа решил созвать конгрегацию, где бездарные архитекторы брались доказать, что Микеланджело испортил собор св. Петра (1551 г.).
* (Микеланджело хотел поместить во дворе знаменитого "Фарнезского быка", как раз в том году найденного, и придать ему, кроме.того, восхитительную перспективу, так, чтобы он выделялся на фоне зелени противоположного берега Тибра. Эта знаменитая группа украшает собою теперь прелестную дорогу из Кьяйи в Неаполь, по берегу моря.)
Папа открыл заседание словами, обращенными к Микеланджело, и указал, что интенданты св. Петра находят, что церковь будет темна. "Я хотел бы выслушать господ интендантов". Кардинал Марчелло Червино, вскоре затем сделавшийся папой, поднялся с места и сказал: "Это я".- "Монсиньор, кроме того окна, которое я уже сделал, их должно быть еще три, наверху".- "Вы никогда об этом не говорили".- "Я не обязан и никогда не буду говорить вам ли, монсиньор, или кому бы то ни было о своих планах. Ваше дело - иметь деньги и беречь их от воров, а мне - строить церковь. Вот, святой отец, какова мне награда! Если огорчения, которые я терплю, строя храм князю апостолов, не зачтутся мне на том свете, надо будет признать, что я просто безумец".
Папа, возложив на него руки, сказал ему: "Они не пропадут даром ни для вашей души, ни для вашего тела,- не сомневайтесь в этом",- и тотчас выдал ему и его ученику Вазари привилегию на получение индульгенции под условием паломничества верхом в семь церквей.
С той поры Юлий III полюбил Микеланджело почти так же, как некогда любил его Юлий II. Он ничего не предпринимал у себя на Винья-Джулия, предварительно с ним не посоветовавшись, и часто говорил по поводу преклонного возраста Микеланджело, что охотно отнял бы у себя несколько лет жизни, чтобы только продлить жизнь этого необыкновенного человека; а в случае, если бы он пережил Микеланджело,- что по законам природы было вполне вероятно,- он собирался набальзамировать его тело, чтобы и оно, наравне с его творениями, стало бессмертным.
Буонаротти, явившись однажды невзначай на Винья-Джулия, застал там папу, окруженного двенадцатью кардиналами; его святейшество усадил его рядом с собой, как ни отказывался он от такой неслыханной чести.
Козимо II, великий герцог Тосканский, несчастный отец Элеоноры, посылал много раз к бывшему своему подданному, убеждая его вернуться и закончить Сан-Лоренцо. Микеланджело всякий раз отвечал отказом. Но едва Юлия III сменил на папском престоле тот самый кардинал Марчелло, которому Буонарроти осмелился возражать, как великий герцог снова написал ему и послал письмо с одним из своих личных камергеров. Микеланджело, хорошо знавший Козимо*, решил подождать и посмотреть сначала, каков характер у нового папы; но тот вывел его из затруднения, скончавшись через двадцать один день после вступления своего на престол.
* (Челлини, стр. 279.)
Во время церемонии целования ноги у его преемника Павла IV тот надавал Микеланджело самых лестных обещаний. Главной заботой Микеланджело было продвинуть при жизни постройку собора св. Петра настолько, чтобы никакие уже посягательства со стороны посредственности не были возможны; сделать это ему, однако, не удалось.
Пока Микеланджело помышлял о соборе, благочестивый Павел IV помышлял о подчистке стены, на которой им был написан когда-то "Страшный суд". Старому первосвященнику трудно было понять, что непристойность тут исключается самим сюжетом*.
* (При Пии V, Доменико Карневали, бездарный пачкун из Модемы, исправил все-таки некоторые неприличные подробности; он заделал несколько трещин в потолке и переписал заново в "Жертве Ноя" то место, которое обвалилось.
При Юлии II подражание античности дошло до того, что стало возможным почтить эпитафией в Сан-Грегорио прекрасную Империю, Аспазию своего века:
"Imperia cortisana Romana quae digna tanto nomine rarae inter homines formal specimen dedit. Vixit annos XXVI, dies XII, obiit 1511, die 15 augusti"**.
Империя оставила после себя дочь, столь же красивую, как и мать; эта дочь, чтобы спастись от насилия, которым ей угрожал кардинал Петруччи, завлекший ее а один из тех домов, куда Ловлес завлек Кларису, приняла яд и сразу же упала мертвой у ног кардинала")
** ("Империя, римская куртизанка, являвшая среди людей Достойный своего имени образец редкой красоты. Умерла в возрасте двадцати шести лет и двенадцати дней 15 августа 1511 года" (лат.).)
Что касается Микеланджело, он писал эпиграммы на все те нелепости, которые он подметил в людях в течение своей долгой жизни. Около этого времени он потерял Урбино, любимого своего слугу, который долго жил у него и ухаживал за ним, несмотря на свои восемьдесят два года, во время его болезни, часто всю ночь не раздеваясь. Он однажды сказал ему: "Урбино, если я умру, что с тобой будет?" - "Я приищу себе место у другого хозяина".- "Бедный Урбино, я постараюсь избавить тебя от нищеты". И тут же он дал ему двадцать тысяч франков.
Лигорио, неаполитанский архитектор, с сожалением смотрел на Микеланджело, не извлекавшего ни малейшей для себя пользы из столь выгодного предприятия, как постройка собора св. Петра. Он говорил, что Микеланджело впал в детство. В ответ на это Микеланджело написал несколько красивых сонетов* и разослал их друзьям.
* (Красивые сонеты Микеланджело - неверный перевод выражения Вазари: слова "Sonetti spirituali" значат не "остроумные", а "духовные", "мистические сонеты".)
Одновременно он заканчивал модель купола св. Петра, который выполнил по ней, уже после его смерти, Джакомо делла Порта. Кто бы мог поверить? Один архитектор сто лет спустя осмелился предложить перед всей конгрегацией сломать этот купол и сделать новый, по его собственным чертежам*. До такого варварства, правда, не дошли; но вместо формы греческого креста, как было на плане у Микеланджело, собор св. Петра получил форму креста латинского, да и в отделке подробностей мишура украшений во многих случаях заменила собою суровую величественность**. Ничто так не величаво, как огромное здание с куполом, где у зрителя всегда есть над головой доказательство невероятной творческой мощи.
* (Боттари о Вазари, стр. 286.)
** (Над одной дверью в Ватиканской библиотеке висит изображение собора св. Петра в том виде, как задумал его Микеланджело.)
Трудясь над планом собора, Микеланджело одновременно работал над головой "Брута", которая находится во Флорентийской галерее. Это отнюдь не Брут Шекспира, человек крайне мягкий, умерщвляющий со слезами на глазах обожаемого им великого полководца, потому что отечество этого требует; нет, это грубый солдат, бесчувственный и решительный. Особенно хороша шея. Итальянская низость начертила на пьедестале:
Dum Bruti effigiem sculptor de marmore ducit, In mentem scelaris venit et obstupuit*.
* (Когда скульптор ваял из мрамора образ Брута, он вспомнил о злодействе его и оцепенел (лат.).)
Милорд Сандвик, пожав плечами, написал экспромтом следующий ответ:
Brutum efficisset sculptor, sed mente recursat Tanta viri virtus, sistit et obstupuit*.
* (Скульптор ваял Брута, но вспомнил великие добродетели этого мужа, остановился и оцепенел (лат.).)
Микеланджело скопировал своего "Брута" с одной античной сердоликовой геммы. В нем нет ни благородства, ни привлекательности того "Брута", который был у нас в зале "Лаокоона"*.
* ("Брут"... был... в зале... Лаокоона".- Статуя Брута находилась не в зале "Лаокоона", как утверждает Стендаль, а в "Римском зале" Лувра, куда она попала из Капитолия. )
Стендаль имеет в виду сочинение Монтескье "О политике древних в отношении к религии". Монтескье утверждает, что религия в Риме была создана неверующими священниками с целью поработить доверчивую толпу. Ссылаясь на Монтескье, Стендаль, по-видимому, хочет указать на то, что красота храмов, по мысли их строителей, содействовала религиозному воспитанию народа.
Великий герцог Козимо явился в Рим и осыпал Микеланджело знаками своего внимания. Было отмечено, что сын его, д. Франческо Медичи, разговаривал с великим человеком не иначе, как с непокрытой головой.
В возрасте восьмидесяти восьми лет Микеланджело начертил план Санта-Мария-дельи-Анджели, в термах Диоклетиана.
Флорентийская нация, как говорят в Риме, пожелала выстроить церковь. Буонаротти составил пять различных проектов; видя, что выбор склоняется в пользу самого великолепного из них, он заявил своим соотечественникам, что если они доведут его до конца, то превзойдут все, что осталось от греков и римлян. Это, кажется, первый раз, когда Микеланджело за всю свою жизнь решился похвалить себя.
Так как всякий вообще храм предназначен внушать страх, Микеланджело в архитектуре более приближается к совершенной красоте, чем в скульптуре, греческих храмах больше изящества*. Удивительно, что, когда заходит речь о перестройке церкви в Париже, в Лондоне или в Вашингтоне, никому в голову не приходит выбрать что-нибудь из чертежей Микеланджело. Всегда отдают предпочтение какой-нибудь современной бездарности, и церковь, сейчас приводящая всех в восторг, через двадцать лет уже кажется жалкой. Если бы Фридрих II - государь, у которого хватило характера заканчивать начатые им постройки,- знал Микеланджело, он не наводнил бы Берлин безделушками. Впрочем, в его времена во Флоренции сооружали триумфальную арку, столь же нелепую, как, по крайней мере, две берлинских церкви**.
* (Объяснение этому см. у Монтескье: "Политика и религия у древних".)
** (Сравните с этим церковь картезианцев в Риме. Вот куда по приезде должны отправляться люди самые нечувствительные, чтобы почувствовать, что такое архитектура.)
Микеланджело руководил постройкой собора семнадцать лет, но, как всегда неумолимый к посредственностям и мошенникам, он постоянно возбуждал против себя их интриги. Он никогда не имел при дворе никакой поддержки, кроме самого папы, если папа оказывался человеком со вкусом. Однажды, выведенный из терпения помехами, которые ему чинили, он подал заявление об отставке, которое написал как человек, знающий себе цену (1560 г.). Доносчиков выгнали - это были младшие архитекторы собора,- и самоотверженная любовь Микеланджело к этому огромному сооружению, на которое он смотрел, как на спасение своей души, заставила его все позабыть. Он еще продолжал над ним трудиться, когда смерть прервала наконец его долгую жизнь 17 февраля 1563 года. Он прожил восемьдесят восемь лет и одиннадцать с половиной месяцев.
Глава CLXXX. Характер Микеланджело
В молодости любовь к учению погрузила его в полное одиночество. Его стали считать гордецом, затем чудаком, безумцем. Общество во все периоды жизни наводило на него скуку. Он не имел друзей; знакомство же поддерживал кое с кем из людей серьезных: с кардиналом Поло, с Аннибале Каро и т. д. Любил одну только женщину, но платонической любовью,- знаменитую маркизу Пескарскую, Витторию Колонна. Он ей посвятил много сонетов, написанных в подражание Петрарке. Например:
Dimmi di grazia amor, se gli occhi miei Veggono il ver della belta ch'io miro О s'io l'ho dentro al cor, che ovunque giro Veggo piu bello il viso di costei*.
* (Скажи мне, амур, прошу тебя, видят ли глаза мои действительный образ красавицы, которою я любуюсь, или он находится в моем сердце, так что, куда бы я ни повернулся, я вижу все более прекрасным лицо ее (итал.).)
Она жила в Витербо и часто приезжала повидаться с ним в Рим.
Смерть маркизы повергла его на некоторое время в состояние, близкое к сумасшествию. Он горько упрекал себя, что не осмелился поцеловать ее в лоб, а поцеловал ей только руку при последнем свидании*.
* (Кондиви.)
Что он сам умел идеализировать человеческий образ, а вовсе не копировал чужой идеал, прекрасно доказывается тем, что этот человек, так мало сделавший в области привлекательной красоты, любил ее, тем не менее, страстно, где бы она ему ни встречалась. Красивый конь, красивый пейзаж, красивая гора, красивая роща, красивая собака - все, все приводило его в восторг. Его влечение к красоте дало повод к злословию, как некогда любовь Сократа.
Он был щедр; он раздарил большое количество своих работ; он тайно помогал множеству бедных, особенно молодым людям, занимавшимся искусством. Иногда он давал своему племяннику тридцать или сорок тысяч франков сразу.
Он говорил: "Как бы я ни бывал богат,- всегда я жил как бедняк". Он никогда не думал о том, что для пошляков составляет главное в жизни. Скуп он был только на одно: на свое внимание.
В периоды усиленной работы часто случалось, что он ложился спать, не раздеваясь, чтобы не тратить времени на одевание. Спал он мало и вставал ночью, чтобы закрепить резцом или карандашом какой-нибудь свой замысел. Пища его в такие дни сводилась к нескольким кускам хлеба, которые он клал себе утром в карманы и потом съедал у себя на подмостках, продолжая работать. Присутствие человеческого существа совершенно выводило его из равновесия. Чтобы быть в хорошем расположений духа, ему надо было чувствовать себя запертым на все запоры - потребность прямо противоположная той, которую обычно испытывал Гвидо. Заниматься низменными делами было для него пыткой. Энергичный в великих делах, которые казались ему стоящими внимания, в малых он, случалось, проявлял застенчивость. Например, ни разу в жизни не решился он дать званый обед.
Из нескольких тысяч нарисованных им в разное время фигур ни одна никогда не ускользала у него из памяти. Он утверждал, что ни одного контура не нарисовал в своей жизни, не вспомнив предварительно, не воспользовался ли им уже прежде. Поэтому он никогда не повторялся. Кроткий и уступчивый во всем остальном, в искусстве он был недоверчив и требователен невероятно. Он сам изготовлял себе напильники и резцы и ни к кому ни за каким пустяком не обращался.
Лишь только он замечал в статуе какой-нибудь недостаток, он бросал ее и принимался за другую; будучи не в состоянии приблизиться на деле к величию задуманных им образов, он в пору зрелости своего таланта довел до конца мало статуй. "Вот почему,- сказал он однажды Вазари,- я сделал так мало картин и статуй".
Ему случилось однажды, в минуту раздражения, разбить почти законченную, колоссальных размеров группу; это была "Pieta".
Старый и дряхлый, он попался раз на глаза кардиналу Фарнезе,- один, пешком, посреди снега, около Колизея; кардинал приказал остановить карету, чтобы спросить, куда его несет нелегкая по такой погоде и в его годы. "В школу,- отвечал он,- чтобы постараться кое-чему научиться". Микеланджело сказал однажды Вазари: "Дорогой мой Джорджо, если у меня есть в голове хоть что-нибудь путное, этим я обязан живому мягкому воздуху нашего родного Ареццо, которым я дышал, родившись, а кроме того, с молоком кормилицы я впитал в себя любовь к молотку и резцу". Его кормилица была женой и дочерью скульпторов.
Он искренне хвалил Рафаэля; но он не мог ценить его так, как мы. Он говорил, что великий талант живописца из Урбино пришел к нему от науки, а не от природы.
Кавалер Лионе, которому Микеланджело покровительствовал, сделал медаль с его изображением и спросил, что желал бы он видеть на оборотной стороне; Микеланджело попросил изобразить там слепого, которого ведет собака, с такой надписью:
Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur*.
* ("Научу неправедных путям твоим, и нечестивцы обратятся к тебе". Псалом 50 (лат.).)
Глава CLXXXI. Характер Микеланджело (продолжение)
Микеланджело не оставил после себя учеников; стиль его был плодом пылкой его души; к тому же молодежь, которая окружала его, была безнадежно посредственна.
Джованни да Болонья, которому принадлежит красивый "Меркурий", мог бы считаться исключением, если б не было доказано, что впервые он встретился с Микеланджело, когда тому было восемьдесят лет. Джованни показал ему модель из глины; прославленный старен изменил положение всех частей тела и, возвращая модель, сказал: "Прежде чем стремиться закончить вещь, выучись делать ее вчерне".
Вазари, с которым Микеланджело был откровенен, сообщает нам некоторые положительные данные, позволяющие судить о том, как расценивал он сам себя. "Занятый самым главным в искусстве - человеческим телом,- он предоставил другим искать прелесть красок, всякие фантазии и новинки*; в его произведениях нет ни пейзажей, ни деревьев, ни архитектурных сооружений. Напрасно стали бы мы искать в них принятых ухищрений и каких-нибудь прикрас, которым он никогда не придавал ни малейшего значения; потому, быть может, что втайне гнушался тратить высокое дарование на подобные вещи"**. Все это мы находим в первом издании книги Вазари, которое он поднес Микеланджело, единственному из не умерших еще художников, чью жизнь он рассказал; за этот дар великий человек отблагодарил автора сонетом. Для Вазари проникнуть в тайные мысли Микеланджело было нетрудно, потому что он постоянно сопровождал его в прогулках верхом, к которым великий художник пристрастился в конце жизни.
* (Том X. стр. 245.)
** (Том X. стр. 253.)
Существует много изображений Микеланджело*, сходства больше всего в бронзовом бюсте в Капитолии, работы Риччарели. Вазари упоминает также о двух портретах кисти Буджардини и Якопо дель Конте. Сам Микеланджело себя никогда не изображал**.
* (Буонаротти был тощий, жилистый, от природы несклонный к ожирению; плечи имел широкие, рост средний, тонкие руки и черные волосы. Все это признаки холерического темперамента.
Что касается лица, то нос у него был перешиблен, цвет лица был довольно яркий, губы тонкие, и нижняя слегка выдавалась вперед; в профиль, лоб более выдавался вперед, чем нос; брови не густые, глаза маленькие. В старости он носил небольшую седую бородку, в четыре или пять пальцев длины***.)
** (Или, пожалуй, один только раз, если признать его в монахе "Страшного суда". Указанные портреты послужили, вероятно, моделью для тех, которые находятся в Капитолии, в Флорентийской галерее, в палаццо Капрара в Болонье и в галерее Дзелада в Риме. Все гравированные портреты Микеланджело находятся в собрании гравюр Корсини, насчитывающем более тридцати тысяч портретов, Лучшие портреты Микеланджело - те, которые выгравированы Моргеном и Лонги, хотя оба они, подобно всем нынешним граверам, стремились приукрасить подлинник, то есть придать ему выражение добродетелей, древнейшая из которых - внушительность и которые часто не соответствуют характеру человека (Рим, 23 января 1816 г. В. И.).)
*** (Condivi, стр. 83.)
Глава CLXXXII. Остроумие - изобретение XVIII века
Остроумие явилось на свет только во времена Людовика XIV и Людовика XV. Нигде больше не имели ни малейшего представления об этом искусстве возбуждать в душе смех и доставлять тонкие наслаждения неожиданной игрой слов.
В XV веке Италия не возвысилась еще над уровнем тяжеловесных истин, которых никто не высказывает потому, что весь свет их знает. Еще сейчас писатели в этой стране - счастливцы; там невозможно быть нудным.
Остроумие во времена Микеланджело сводилось к какому-нибудь классическому намеку или же к глуповатой резкости*. Следовательно, вовсе не в качестве весьма занимательных приведу я сейчас несколько шутливых ответов человека, который слыл самым остроумным и самым язвительным в те времена; в наши дни эти остроты не заслуживали бы даже быть произнесенными.
* (Его острые словечки в Болонье.)
Священнику, упрекавшему его за то, что он не женат, Микеланджело ответил словами Эпаминонда*. И прибавил: "Живопись ревнива и требует, чтобы человек принадлежал ей весь целиком".
* (Микеланджело ответил словами Эпаминонда... Умирающий Эпаминонд ответил одному из друзей, сожалевших о том, что он не оставляет после себя потомства: "Я оставляю после себя двух бессмертных дочерей: победы при Левктрах и при Мантинее".)
Один скульптор, сделав копию с античной статуи, хвастался, что превзошел подлинник. "Человек, идущий вслед за другим, первым прийти не может". Это был враг его, завистливый флорентиец Бандинелли, вообразивший, что он может затмить "Лаокоона", сделав с него копию, находящуюся теперь во Флорентийской галерее*.
* (Тициан, тоже чтобы посмеяться над несносным тщеславием Бандинелли, заказал превосходную гравюру на дереве, изображающую трех обезьян - одну большую и двух маленьких,- в позах Лаокоона и его сыновей Эта группа, в том виде как она существует сейчас в Флорентийской галерее, пострадала от пожара.)
Себастьяно дель Пьомбо шел однажды, расставшись с ним, писать фигуру монаха в капелле собора Сен-Пьетро-ин-Монторио. "Вы испортите свое произведение". "Почему?" "Монахи испортили весь свет, который так велик, как же вы хотите, чтобы они не испортили маленькую капеллу?"
Когда он был в Модене, ему попались на глаза статуи из обожженной глины, раскрашенные под цвет мрамора, потому что обтесывать его скульптор не умел. "Если б эта глина превратилась в мрамор, беда бы тогда античным статуям!" Скульптор этот был Антонио Бегарелли, друг Корреджо.
Один из его помощников умер. Все оплакивали эту преждевременную смерть. "Если нам нравится жизнь,- сказал Микеланджело,- то и смерть, у которой один с ней хозяин, тоже должна бы нам нравиться".
Вазари, показывая ему одну из своих картин, сказал: "Я мало потратил на нее времени". "Оно и видно",- был ответ.
Один священник, его друг, явился к нему в светском платье; Микеланджело сделал вид, что не узнает его. Священник назвал себя по имени. "Я вижу, что в глазах света вы хороши; если содержимое похоже на оболочку, тем лучше для вашей души".
Ему расхваливали Юлия III за его любовь к искусству. "Так-то так,- сказал Микеланджело,- только любовь эта сильно напоминает флюгер".
Один молодой человек написал довольно приятную картину, взяв для нее от всех известных художников,- у кого позу, у кого голову; он горд был донельзя и показывал свой труд Микеланджело. "Все это прекрасно, но что станется с вашей картиной в день страшного суда, когда каждому возвращены будут все части его тела?"
Как-то раз вечером Вазари, будучи послан папой Юлием III, отправился к нему совсем уже поздно; он застал его за работой над "Pieta", которую Микеланджело позже разбил; видя, что глаза Вазари устремлены на ногу Христа, которую он заканчивал, Микеланджело взял фонарь, как бы с целью посветить, и выронил его. "Я так уж стар,- сказал он,- что смерть частенько тянет меня за полу, приглашая идти с собой. Я упаду так же внезапно, как этот фонарь, и так же вот угаснет и жизнь".
Микеланджело особенно был доволен, когда в его мастерскую во Флоренции приходил смехотворный художник из Вальдарнопо имени Менигелла. Он являлся обычно с просьбой, чтобы Микеланджело нарисовал ему "Святого Роха" или "Святого Антония", которого заказал ему написать какой-нибудь крестьянин. Микеланджело, отказывавший государям, все бросал, чтоб исполнить просьбу Менигеллы, который усаживался рядом с ним и делился своими соображениями по поводу каждой черты. Он подарил Менигелле распятие, и тот разбогател, делая с него копии из гипса и продавая их апеннинским крестьянам. Тополино, скульптор, которого он держал в Карраре для пересылки оттуда мрамора, никогда не отправлял ему его, не присоединив две или три плохонькие фигурки, доставлявшие немало удовольствия Микеланджело и его друзьям. Однажды вечером, потешаясь над Тополино, они устроили ужин в честь того, кто придумал бы самую несоответствующую всем правилам рисования фигуру. Фигура Микеланджело, получившая первенство, долго служила в школе мерном для смехотворных произведений.
Однажды у гробницы Юлия II он подходит к одному из каменотесов, который заканчивал обтеску большой глыбы мрамора; он говорит ему с важным видом, что давно уже заметил в нем талант, что он, может быть, читает себя всего лишь простым каменотесом, тогда как в действительности он такой же скульптор, как сам он, Микеланджело, и что недостает ему разве только некоторых указаний. После чего велит ему высечь из мрамора такой-то кусок, на такой-то глубине от поверхности, там закруглить угол, тут немного отшлифовать и т. д. Со своих подмостков Микеланджело весь день продолжал выкрикивать свои советы каменщику, который к вечеру закончил прекрасный абрис статуи и бросился ему в ноги, восклицая: "Великий боже! Как я обязан вам! Вы развили во мне мой талант, и вот теперь я - скульптор!".
Он был поистине скромен. Существует письмо, в котором он благодарит одного испанского живописца за критику его "Страшного суда"*.
* (Собрание "Писем" Пино да Кальи, Венеция, 1574.)
Биограф Микеланджело замечает, что ему делались лестные предложения более чем двенадцатью коронованными особами. Когда он явился приветствовать Карла V, этот государь тотчас поднялся с места, повторив свой банальный комплимент: "На свете несколько императоров, но второго Микеланджело не найти".
Наш Франциск I хотел заманить его во Францию, и хотя все уговоры ни к чему не привели, все же в расчете на то, что когда-нибудь очередная перемена на папском престоле принудит Микеланджело к отъезду, король велел открыть ему в Риме кредит в пятнадцать тысяч франков на путевые расходы. И, может статься, Микеланджело удалось бы совершить тот переворот, который не могли совершить Андреа дель Сарто, Приматиччо, Россо и Бенвенуто Челлини.
Все они покинули Францию, не затеплив там священного огня. Предки наши слишком погрязли в грубых нравах феодализма, чтобы оценить очаровательные головы Андреа дель Сарто; а Микеланджело пробудил бы в них ужас, подлый вдвойне: трусливый и эгоистичный одновременно. Он мог бы иметь успех в народе. Колоссальная статуя Геркулеса из мрамора ослепительной белизны, поставленная у Заставы Сержантов, гораздо больше говорит зрителям, чем полторы тысячи картин в Музее.
Никто никогда не знал лучше, чем Микеланджело, бесчисленного множества положений, доступных человеческому телу. Он хотел записать свои наблюдения; но, жертва дурного вкуса своей эпохи, он побоялся, что не сумеет достаточно украсить избранный им предмет. Его ученик Кондиви был причастен к литературе. Ему и изложил Микеланджело свою теорию применительно к телосложению молодого, замечательно красивого мавра, которого ему для этого подарили в Риме; но книга эта так и не появилась.
Глава CLXXXIII. Почести, оказанные праху Микеланджело
Его останки были торжественно перенесены в церковь св. Апостолов. Папа объявил, что намерен воздвигнуть ему гробницу в соборе св. Петра, где погребают лишь государей. Но Козимо Медичи, желавший замаскировать свою тиранию культом славы, приказал тайно похитить прах великого человека. Этот священный груз прибыл во Флоренцию вечером. В одно мгновение все окна и улицы наполнились любопытными, всюду замелькали огни.
Церковь Сан-Лоренцо, где погребались лишь государи, была роскошно убрана для погребения Микеланджело. Пышность этой церемонии наделала в Италии такой шум, что для того, чтобы удовлетворить иностранцев, продолжавших стекаться отовсюду, когда все уже было кончено, убранство церкви сохранялось еще несколько недель.
Челлини, Вазари, Бронзино, Амманато превзошли самих себя, желая почтить человека, на которого они давно привыкли взирать, как на величайшего из всех художников, когда-либо живших.
Важнейшие события его жизни воспроизведены были в виде картин или барельефов*. Окруженный этими живыми изображениями, Варки произнес надгробное слово. Это история, изложенная со всеми подробностями не без расчета на одобрение со стороны деспота. Флоренция счастлива, говорил он, что может показать в лице одного из своих сынов то, чего Греция, родина стольких великих художников, произвести не могла: человека, который одинаково первенствовал во всех трех видах изобразительного искусства.
* (На мой взгляд, ничто так не вредит памяти великих людей, как похвалы глупцов. Те, кто придерживается противоположного мнения, могут осмотреть во Флоренции галерею, посвященную памяти Микеланджело. Они найдут там плохонькие картины, на каждой из которых изображено какое-нибудь событие его жизни. Эта галерея, выстроенная по плану Пьетро да Кортона, обошлась в сто тысяч франков племяннику гениального художника, который именовался Микеланджело Младший, Открыта она была в 1620 г.)
Во время церемонии было обнаружено, что тело Микеланджело от старости превратилось в мумию без малейших признаков разложения. Сто пятьдесят лет спустя, когда случайно в Санта-Кроче открыли его гробницу, там снова увидели превосходно сохранившуюся мумию, одетую по обычаю того времени.
Глава CLXXXIV. Микеланджело снова дождется признания
Вольтер и г-жа Дюдефан терпеть не могли Микеланджело. Для них его манера была в полном смысле слова синонимом уродства, мало того, уродства претенциозного, что есть самая неприятная в мире вещь.
Наслаждения, которых требует человек от искусства, на наших глазах приобретут почти тот же самый характер, какой они имели у наших воинственных предков.
Когда они впервые задумались об искусстве, живя в постоянной опасности, им присущи были неукротимые страсти, а отзывчивость и симпатию в них трудно было расшевелить. Их поэзия изображает действие пылких влечений. Это поражало их в действительной жизни, и все менее сильное не произвело бы ни малейшего впечатления на грубые их натуры.
Цивилизация сделала успехи, и люди стали стыдиться неприкрытой силы, своих первобытных наклонностей.
Стали чрезмерно восторгаться чудесами нового уклада жизни. Всякое проявление глубоких чувств стало казаться грубым.
Сперва церемонная вежливость*, а вскоре за тем манеры более развязные и еще более лишенные всякого чувства ослабили, а потом и совсем заглушили, по крайней мере, наружно, всякий энтузиазм и энергию**. Как легонькая веточка, отломившаяся в лесу от дерева и увлекаемая потоком, который то ниспадает каскадами по крутому склону, то струится по равнине спокойной и величавой рекой, подбрасывая эту ветку вверх или опуская ее, но все время держа ее на поверхности волны,- так и искусство не отстает ни на шаг от цивилизации. Поэзия, первоначально отличавшаяся такой энергией, усвоила утонченность и жеманство; она превратилась в насмешливую болтовню, и энергия в наши дни замарала бы ее розовые пальчики***.
* (Испанские манеры во Франции при Людовике XIV, затем век Людовика XV, романы Дюкло и Кребильона, г-н Вакармини. Энергия допускалась лишь постольку, поскольку она применялась для добывания денег.)
** (Во время революции энергия XIV века воскресла только в Бокаже***, в Вандее, куда никогда не проникала придворная вежливость.)
*** (В 1785 г.- Мармонтель, Гримм, Морелле.)
*** (Бокаж - область Вандеи, где в эпоху революции с особенной силой свирепствовала гражданская война.)
Пока считается модным и до некоторой степени изысканным изящно-шутливое отношение ко всем вещам,- такое милое высмеивание всякой страсти и всякого энтузиазма придает в глазах света почти такой же блеск, что и самое обладание этими качествами*. Еще кое-как терпят страсти, когда они выражены в созданиях искусства. Были бы даже не прочь пользоваться плодами без самого дерева. Сердца, преданные всецело рассеянию, почти не ощущают потребности в наслаждениях, к которым они больше уже неспособны.
* (См. переписку г-жи Дюдефан; здесь прикрывается самое смешное, что есть на свете: скука.)
Но если талант осмеяния выродился во что-то вульгарное, если целые поколения растратили свои силы На одни и те же легкомысленные забавы, будучи равно лишены каких-либо других интересов, кроме тщеславия, и равно неспособны достигнуть хоть какой-либо славы, в таком случае можно предсказать, что переворот в умах неизбежен. Будут весело рассуждать о веселом и с подобающей серьезностью о серьезном; общество сохранит и простоту и изящество; но среди пишущих повсюду распространится глубокое презрение к мелочной претенциозности, к мелочному щегольству и дешевым успехам. Люди высоких душевных качеств снова займут подобающее им место; сильные движения души снова покажутся привлекательными; перестанут бояться их воображаемой грубости. Тогда вторично зародится фанатизм*, а энтузиазм в политике проявится по-настоящему впервые. Вот каково, пожалуй, нынешнее состояние Франции. Множество молодых офицеров - таких храбрых и таких несчастных, загнанных в круг частной жизни,- причиной тому, что светские нравы переродились.
* (Г-жа Крюденер**, Пескель; Общество пресвятой Девы, с обращением на "ты".)
** (Г-жа де Крюденер (1764-1825) проповедовала мистические учения с сильной либеральной окраской и имела некоторых последователей среди беднейших слоев населения Швейцарии и Германии. "Общество пресвятой девы" в эпоху Реставрации было одним из тайных обществ, вербовавшим своих членов среди домашней прислуги, мелких торговцев и т. п. Это общество находилось в зависимости от конгрегации и, следовательно, по своим задачам являлось чрезвычано реакционным.)
Не раз, мне думается, оправдались на деле стихи Шекспира:
She lov'd me for the dangers I had pass'd; And I lov'd her that she did pity them*.
* (Она меня полюбила за опасности, которым я подвергался, а я ее - за то, что они внушили ей сострадание.)
Привычка к национальной гвардии изменит все в наших нравах, что только относится к изобразительным искусствам*. Тут политика помрачает нам душу. Чтобы проверить это наблюдение, надо посмотреть на соседнюю нацию, которая, будучи на двадцать лет изгнана с континента, от этого только больше стала сама собой.
* (Нравы меняются, и сейчас в Париже парикмахер спит на такой же походной кровати, что и маркиз (1817 г.).)
Английская поэзия стала более пылкой, более серьезной, более страстной*. Понадобились другие сюжеты, чем те, которые были пригодны в предыдущем веке остроумия и легкомыслия. Вновь обратились к тем характерам, которые оживляли собой поэмы первых, грубых еще творцов, или стали отыскивать подходящих людей среди дикарей и варварских народов.
* ("Edinburgh Review" № 54, стр. 277.)
Пришлось обращаться к эпохам или странам, где высшим классам общества не возбранялось иметь страсти. Классические греки и римляне ничего не могли дать для этой душевной потребности. Они по большей части принадлежат к эпохе столь же искусственной и столь же чуждой наивному изображению неукротимых страстей, как и та, которая сейчас для нас кончается.
Поэты, пользовавшиеся успехом за последние двадцать лет в Англии, не только изображали чувства более глубокие, чем чувства XVIII века, но и обращались для этой цели к таким сюжетам, которые с презрением отверг бы век изящного остроумия.
Нельзя не видеть, чего ищет XIX век; все усиливающаяся потребность в сильных чувствах составляет его характерный признак.
Обратились к приключениям, наполнявшим поэзию веков варварства; но очень трудно персонажам, воскрешенным из прошлого, говорить и действовать в точности так, как они говорили и действовали в далекие времена их действительной жизни и первого появления их в искусстве.
Их тогда изображали не как что-то необычайное, а просто как примеры обычных форм жизни.
В этой первобытной поэзии мы имеем скорей плоды сильных страстей, чем самое их изображение; мы находим здесь скорей порождаемые ими события, чем подробное описание связанных с ними треволнений или восторгов.
Читая хроники и романы средних веков, мы, чувствительные люди XIX века, представляем себе, что должны были чувствовать их герои, и наделяем их чувствительностью, столь же невозможной для них, сколь естественной для нас.
Возрождая образы железных людей далеких веков, английские поэты уклонились бы от своей цели, если бы в своих произведениях вместо самих страстей изображали только гигантские следы подвигов этих героев: нас интересует сама страсть.
Итак, от всего, что ему предшествовало, XIX век будет отличаться точным и проникновенным изображением человеческого сердца*.
* (XIX век людям гениальным предназначит роль Фокса** или же Боливара***; тем, кто посвятит себя искусству, он даст в удел бездушную живопись. Но бездушная живопись не есть живопись. Те, кто избегнет обеих этих опасностей, пойдут путем, указанным в этой главе.
В 1817 г. я, право, предпочел бы быть не Рафаэлем, а Фоксом (В. И.).)
** (Фокс (1749-1806) - английский политический деятель, лидер вигов и выдающийся оратор.)
*** (Боливар (1783-1830) - южноамериканский революционер, боровшийся за независимость Южной Америки от Испании.
Стендаль имеет в виду картину Герена "Федра и Ипполит", о которой он уже упоминал выше (глава CXXXIII).)
Да простят мне это отступление о революции в Англии. Изобразительные искусства не имеют сплошного развития в истории северных народов; они процветают там время от времени, пользуясь каким-нибудь убежищем. Надо, значит, говорить о литературе; но Франция, занятая своими ультрароялистами и либералами, не обращает на нее внимания; зато, когда окончательно водворится мир - лет через десять,- мы окажемся на два или три века впереди наших остроумных и бездушных поэтов.
Жажда энергии привлечет нас к шедеврам Микеланджело. Правда, он сосредоточил свое внимание на телесной энергии, которая для нас почти исключает энергию духа. Но мы не доросли еще до новой красоты. Нам надо избавиться еще от жеманства; и первый шаг будет состоять в том, чтобы почувствовать, например, что в картине "Федра" Ипполиту присуща античная красота, Федре - новая, а Тезею - в стиле Микеланджело.
Атлетическая сила несовместима с пламенным чувством, но поскольку живопись для изображения души имеет в своем распоряжении только тело, мы будем преклоняться перед Микеланджело, пока нам не станут доступны сильные чувства, совершенно освобожденные от силы физической.
Нам долго придется ждать, ибо второй раз XV век уже не повторится, да если бы он и повторился, то и тогда остались бы непревзойденными созданные Микеланджело ужасные и отталкивающие образы.
Эпилог. Пятидесятичасовой курс живописи
Возможно, что кто-нибудь, прочтя эту книгу, скажет: "Самый предмет, как ни плохо он тут изложен, все же интересен. Я хочу ознакомиться со стилем разных школ и с творчеством великих мастеров". Он обратится за советом к какому-нибудь любителю. Тот посоветует ему прочесть Вазари, 16 томов in-8°; Бальдинуччи, 15 или 20 томов in-4°, труды Фелибьена, Кошена, Рейнольдса, Ричардсона, и т. д., и т. д.
Предположим, что он остановится на каком-нибудь труде в 3 томах, in-4°, где он найдет примерно по одной мысли на каждый печатный лист. Три тома потребуют пятьдесят часов для прочтения. А между тем я утверждаю, что читатель, если он способен хоть сколько-нибудь самостоятельно мыслить, за пятьдесят часов может сделаться почти что художником.
1) Чтобы составить себе представление о колорите, он потратит в общем десять часов, побывав несколько раз в школе плавания........10 часов.
2) Он отправится во Дворец искусств и в Сорбонну, где за скромную плату будет допущен в класс рисования с натуры. Четыре раза он там поупражняется в рисовании, полчаса каждый раз* .... 2 часа.
* (В тот момент, когда модель сбрасывает с себя одежду, все части тела ее кажутся, так сказать, согласованными. В жизни, если человек в порыве гнева сжимает правую руку в кулак, его левая рука меняет свое выражение; и, хорошенько этого не сознавая, мы очень восприимчивы к такого рода изменениям,- отчасти, как мне кажется, по инстинкту. Св. Бернард обратил в христианство многих германцев, произнося проповеди на латинском языке, которого они не понимали.
Изучая свою модель, художник может избавиться от этого впечатления согласованности частей тела; есть вещи, которые надо уметь не изображать. Рисовать нагое тело с натуры, не зная анатомии, то же, что переписывать что-нибудь, написанное на незнакомом языке. Но, скажут мне, анатомия вовсе не проявляется в картинах великих художников; да, но она проявлялась в их эскизах.)
3) Он накупит себе посредственных гравюр с произведений Рафаэля или Микеланджело, "Таинства" Пуссена, например, обзаведется стеклом в форме рисовальной доски, поместит внизу зеркало, отбрасывающее на стекло свет из окна; прикрепит затем к гравюре при помощи четырех булавок кусок бумаги и, вооружившись карандашом, обведет просвечивающие насквозь контуры каждой фигуры.
4) Очень важно, чтобы юный любитель, прежде чем он увидит "Преображение", "Причащение св. Иеронима" или "Мучение св. Петра", срисовал бы их указанным способом на своей стеклянной доске. Не менее важно, чтобы он занимался этим в одиночестве, не следуя гибельным советам какого-нибудь любителя, сколь бы ни был он, по видимости, образован. Дело не в том, чтобы научиться рисовать, а в том, чтобы научиться мыслить. От скуки у него явится масса небольших наблюдений, ничего не говорящих другим, но весьма полезных ему, потому что они его собственные. Срисовыванию гравюр я уделил бы, пожалуй, сорок сеансов, по полчаса каждый..........20 часов.
5) Он купит себе "Гладиатора" (со вскрытыми мышцами), гравюру Соважа, и срисует ее . . 2 часа.
6) Он заучит названия главных мышц: дельтообразный мускул, мышцы грудные, двойничные, Ахиллесово сухожилие и т. д. ........1 час.
Он будет знать, что если дельтообразный мускул сокращен, бицепс в напряженном состоянии быть не может. Многие из художников пренебрегают этим правилом и стремятся не к прекрасной позе, а просто-напросто к красивому контуру.
7) Если хватит на это мужества, можно отправиться в Зоологический сад и попросить показать там эти двадцать известных по названиям мышц. Итак, два сеанса в анатомическом театре, по полчаса каждый* ...............1 час.
* (Для художников лучшим руководством по анатомии является книга Чарльза Белля, изд. в Лондоне, 1806 г., in-4°, 185 страниц.)
8) Если юный любитель согласится истратить на эту затею тридцать луидоров, он уберет со стены в своей спальне все гравюры, географические карты и портреты и вместо них развесит двадцать гравюр* в черных рамках с совершенно прозрачными стеклами. В углу он поставит цельный гипсовый слепок с "Венеры Медицейской" под тюлевым покрывалом. Пусть он непременно купит этот слепок в мастерской при Музее, иначе он рискует испортить себе глаз, любуясь неверными контурами. Он приобретет себе бюсты "Аполлона", "Дианы из Веллетри" и "Jupiter Mansuetus". Он купит себе в перистиле французского театра полсотни античных медалей в виде слепков из серы. Все это будет выставлено у него в комнате в течение шести месяцев. Допустим, что на разглядывание всех этих собранных им вещей он потратит** ......... 4 часа.
* ("Тайную Вечерю" Леонардо да Винчи, гравюру Рафаэля Моргена; "Преображение" его же, сто двадцать франков в новом издании, сорок франков в старом; "Игры Дианы" Доменикино; "Мучение св. Андрея" фреска Доменикино; "Св. Андрея, идущего на муки" Гвидо; портреты Рафаэля и Форнарины Моргена; "Аврору" Гвидо, "Аврору" Гверчино; "Леду" Корреджо, гравюру Порпорати; "Деяниру" Бервика; "Св. Цецилию" Массара; "Магдалину" Корреджо, гравюру Лонги; "Обручение пресвятой Девы" его же; "Святое семейство в Египте" и "Аркадию" Пуссена; несколько пейзажей Лоррена; несколько гравюр из Ватиканских stanze работы Вольпато, хоть вергилиевская чистота Рафаэля и прикрашена тут до безобразия; восемь Пророков или Сивилл Микеланджело, бистром; "Страшный суд" Микеланджело, гравюру Меца; "Св. Иоанна" и "Сикстинскую Мадонну", гравюры Мюллера; несколько гравюр Бартолоцци с каких-нибудь антиков; несколько гравюр Стренджа; "Танец" Альбано, гравюру Розаспины; "Мадонну" Гвидо, гравюру Гандольфо, "Madonna alia seggiola" гравюру Моргена; Madonna del sacco его же; "Лаокоона" Бервика***.)
** (Я не считаю того времени, которое он потратит с пользой для себя на изучение в обществе световых эффектов, то есть того, в чем велик Рембрандт и Гверчино, наблюдая за лицами скучных собеседников, в присутствии которых приходится иногда делать вид, что слушаешь их.)
*** (Следует покупать эти гравюры по две в неделю, выбирая те, которые больше вам понравятся, и чаще перевешивать их с места на место.)
Пока что на изучение живописи потрачено только сорок часов.
9) Остающиеся десять часов он употребит на срисовывание прямо с натуры. Он достанет себе стекло, слегка обработанное плавиковой кислотой, которым он заменит стекло у себя в окне с открывающимся из него красивым видом. Надо сделать полукруг из толстой проволоки и один конец его вставить в оконную раму, а к другому прикрепить пластинку из жести, подбитую черным бархатом, с очень маленьким отверстием посередине. Любитель, который согласится выполнить мои предписания, должен приложить глаз к этому зрительному прибору и, вооружившись кусочком мела, опершись рукой на спинку стула, нарисовать пейзаж на матовой поверхности оконного стекла. После двадцати сеансов по полчаса каждый у него выработается привычка воображать между собой и всем, на что он смотрит- глазами художника, стеклянную поверхность, по которой он будет мысленно рисовать контуры. После этого ему не составит ни малейшего труда улавливать ракурсы, иначе столь трудно доступные . . 10 часов.
Итого 50 часов.
Он увидит в куполе Пармского собора нескольких апостолов Корреджо, которые, хотя они и кажутся зрителю колоссальными, на самом деле не имеют в вышину и двух футов. Шпага в обнаженной руке, протянутая по направлению к зеркалу, дает первое представление о ракурсе.
Если этот пятидесятичасовой курс будет пройден именно так, а не иначе, и притом еще при полном отсутствии чтения по вопросам искусства, будь это даже дошедшие до нас письма Рафаэля, Микеланджело или Аннибале Каррачи*, я готов ручаться, что мой любитель искусства приобретет все элементарные сведения по живописи. Ему останется только усвоить некоторые выражения, в которые авторы облекают свои мысли, но уж, конечно, он не должен усваивать таких фраз, выражений, в которых не содержится никаких мыслей.
* ("Lettere Pitloriche", собрание в шести томах.)
Я ничего не могу ему сказать о французских авторах, которых сам не читал. Он найдет большую любовь к искусству в "Письмах" де Броса об Италии. Если он знает итальянский язык, рекомендую ему "Felsi-na pittrice" Мальвазии - книгу, которую надо читать, имея перед глазами картины болонской школы, находящиеся у нас в Париже; затем - Дзаметти "Delia pittura veneziana" с соблюдением того же условия; затем книгу Беллори. Что касается истории, то можно рекомендовать "Анонимную жизнь Рафаэля", изданную в Риме в 1790 г.; "Жизнь Микеланджело" Кондиви; "Жизнеописания венецианских художников" Ридольфи; "Жизнь Леонардо" Аморетти. Знаний после этого будет достаточно, чтобы не заснуть над платоновской философией Менгса и чтобы воспользоваться тем, что есть путного в его "Размышлениях о Рафаэле, Корреджо и Тициане"*; только все время надо проверять на самих картинах все, что говорят о них эти писатели, и верить только тому, что видишь.
* ("Сочинения Менгса", перев. Жанеена.)
Это правило не знает исключений. В тысячу раз лучше не видеть ничего, чем видеть что-нибудь с чужих слов*. Завеса, застилающая взор, может упасть; но человек, верящий на слово, всю жизнь останется жалким попугаем, который может блистать в Академии, но смертельно скучен в салопе. Его мысли уже лишены оттенков; он уже не в состоянии их сравнивать и создавать новые, если он усвоил прискорбную привычку отзываться о Микеланджело как о мастере рисунка единственно лишь потому, что это - общее место всех книжонок об искусстве.
* (И значит, не надо читать того, чего нельзя проверить. Вот почему я не решился бы рекомендовать юному любителю, живущему в Париже, весьма толковую "Историю живописи" иезуита Ланци, в шести томах, in-8°. Это надежный путеводитель.)
В школе плавания и в балете Большой оперы должен он обнаружить, что Микеланджело сумел правильно и выразительно передавать те удивительные ракурсы, которые он тут видит. Книги же должны быть только справочниками. Тот, кто черпает готовые истины из книги какого-нибудь писателя, усваивает лишь ничтожную часть даже его идей. Например, Менте восхищается Корреджо и терпеть не может Тинторетто. Если любитель, не рассуждая, станет восторгаться лишь тем, чем восторгается Менте, он уже не разглядит тогда в куполе Пармского собора того, чем любовался Тинторетто: силу и правдивость движений. По окончании этого пятидесятичасового курса, если у читателя хватит на это терпения, следует еще раз повторить все это в том же порядке.
Я повторяю моему любителю живописи совет одного необыкновенного человека, который руководил в самом начале моим художественным воспитанием во Флоренции. Я втайне немножко гордился наградами, которые получил за свои рисунки с натуры в одной неплохой, хотя и французской школе. Он взял с меня слово, что я ни с кем не буду разговаривать о живописи в течение целого года, и посоветовал проделать описанные выше упражнения. После этого уговора, когда я пробовал завести с ним разговор об искусстве, он давал мне лишь односложные ответы: "Подождите, пока у вас возникнут собственные мысли. Я очень люблю этот образ у одного из ваших великих писателей: ребенок посадил боб, а через час уже разгреб землю, чтобы посмотреть, не пустил ли боб ростки".
Больше года я не мог добиться от него ничего другого; и когда наконец он нарушил молчание, он испытал живейшее удовольствие, увидев, что я в состоянии с ним спорить и высказывать иные, чем у него, взгляды по многим вопросам. "Именно таким путем,- сказал он мне,- мудрый Лодовико Караччи воспитал и Гвидо, и Доменикино, и еще многих других художников своей школы, которые все были хороши и - что еще больше, пожалуй, делает чести учителю - не похожи один на другого".
Человек возвышенного ума не доверяет своим открытиям; он часто о них размышляет. В вещах, от которых зависит его счастье, он все время спорит с самим собой.
Поэтому человек гениальный способен сделать лишь ограниченное число открытий. Редко бывает, чтобы он решался исходить из этих своих открытий как из неоспоримой основы. Мы знаем, что Декарт вскоре бросил свой изумительный метод и принялся рассуждать как монах.
Гирландайо должен был непосредственно бояться, как бы не ошибиться в воздушной перспективе и не исказить своего открытия. Напротив, художник, прошедший хорошую школу, разбирается в явлениях природы: он учится видеть их, передавать, и больше над этим он уже не задумывается. Умственные его силы направлены на дальнейшие открытия.
В наши дни человеческий ум идет противоположным путем. Раньше он чахнул из-за отсутствия помощи; теперь он задыхается от изобилия образцов. Художники выиграли бы, если бы начиная с завтрашнего дня от каждого великого мастера осталось бы только по одной картине.
Коль скоро роль их выходит за пределы указания таланту на возможность какого-нибудь вида красоты, они становятся вредны. Но они служат публике, доставляя ей наслаждения, и притом наслаждения разнообразные, в зависимости от характера тех мест, где они проявляются.
Союзники взяли у нас тысячу сто пятьдесят картин*. Надеюсь, мне дозволено будет заметить, что лучшие из них нам достались по договору, заключенному в Толентино. Вот что я прочел в одной английской книге, об авторе которой нельзя сказать, чтобы он был верхоглядом или человеком, продавшимся властям:
* (Союзники отняли... наши картины без всякого договора.- Мирный договор между Австрией и Францией был подписан в Толентино в 1797 году.)
"The indulgence he showed to the Pope at Tolentino, when Rome was completely at his mercy, procured him no friends and excited against him many enemies at home" *. (Edinburgh Review, декабрь 1816, стр. 47).
* (Снисходительность, проявленная им по отношению к папе в Толенгино, когда Рим был вполне в его власти, не доставила ему друзей, но создала много врагов у себя дома (англ.).)
Я пишу это в Риме, 9 апреля 1817 года*. Как подтвердили мне десятка два весьма уважаемых лиц, здешнее общественное мнение находит, что победитель поступил великодушно, удовольствовавшись этим договором. Союзники, напротив, отняли у нас наши картины без всякого договора.
* (Пишу это в Риме 9 апреля 1817 года.- Последние страницы "Истории живописи в Италии" были написаны не 9 апреля, а 28 мая 1817 года.)
© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'