

1805
1 января 1805 г.
С величайшим удовлетворением прочел первые сто двенадцать страниц Траси, прочел легко, как роман. По вечерам меня немного лихорадит; боль не сильная, за это время я прочел в Сен-Жорском кабинете для чтения целый том переписки Вольтера. У меня нет денег - еду в Гренобль; но вчера я смотрел "Филинта", вчера я купил Траси, завтра я проведу три часа с Дюгазоном, Дюшенуа и Марсиалем - остаюсь в Париже. Итак, мое положение недурно, насколько это возможно при варваре-отце, допускающем, чтобы мой организм ежедневно подтачивали приступы лихорадки, которую можно было бы излечить даже и с небольшими средствами.
И этот отец будто бы любит меня! Если, вопреки очевидности, это не Тартюф, который, в сущности, не что иное, как скупец, то вот пример, с помощью которого я могу убедиться - в ущерб самому себе, - какой вред приносят столь любимые мною страсти; вот благодарный материал для изображения характера человека, страдающего манией любви к земледелию! Только сейчас, в эти последние дни, я понял, что, пожалуй, не отказался бы от розовой ливреи Барраля-старшего*.
* (Барраль-старший - президент Гренобльского парламента, отец Луи де Барраля, ближайшего друга Стендаля.)
Крозе и Барраль приехали ... числа. Крозе необычайно изменился к лучшему. По-прежнему чересчур тщеславен, чересчур много ложного величия, считающего унизительным для себя соприкосновение с обыденной жизнью; мещанский ум, полная противоположность уму Барраля. Он влюблен в м-ль С. Р. и - что особенно удивительно, но вместе с тем очевидно - пользуется взаимностью, несмотря на то, что имеет соперника в лице Пене; он собирается бросить ведомство путей сообщения и сделаться адвокатом; ему всего двадцать лет.
12 нивоза XIII г. (2 января 1805 г.).
Если дедушка скажет, что я должен поговорить с отцом, я, как граф Альмавива, воскликну: "Сражение? В этом я силен!"
Строго говоря, отец обязан лишь кормить своих детей, одевать их и удовлетворять их насущные нужды. Однако каждый человек обязан выполнять свои обещания, а мой отец обещал дать мне тысячу экю.
Если бы отец, подобно Жан-Жаку, отдал меня в воспитательный дом, предоставив всяким случайностям, я не мог бы быть несчастнее, чем сейчас.
Я был бы несчастен до конца, если бы никогда не читал Жан-Жака, которого прочел против воли отца и который дал мне любящий характер и склонность к сильным увлечениям.
24 нивоза (14 января).
Если состояние, в котором мы находимся в тот момент, когда решается наша судьба, может служить счастливым предзнаменованием, то Викторина должна любить меня. Я провел у Дюгазона чудесное утро с половины первого до половины третьего; там были Нурри, м-ль Роландо, м-ль Луазон и немец. М-ль Роландо решительно делает мне авансы; один из таких авансов я угадал сегодня задолго до того, как она его сделала. Я осмелился стряхнуть с себя свою сдержанность; уметь шутить - вот все, что требуется. Пришла дама сердца генерала Летранжа, и мне кажется, что, окажись я наедине с нею или с м-ль Роландо, все было бы кончено. Дюгазон сказал при всех тоном человека, который ясно представляет себе суть предмета и притом с трех - четырех различных сторон, что у меня в жилах течет не кровь, а ртуть.
Некоторый успех моих вольностей придал мне мужество, я разошелся, и он увидел, что я не лишен остроумия; ему очень понравилось, как я прочитал весь первый акт "Мизантропа". Восторженным и искренним тоном он сказал, что я сыграю его превосходно; он сказал, что хочет показать "Мизантропа" зрителям и даст эту роль мне. М-ль Роландо аплодировала. Когда я уходил, Дюгазон сказал даме сердца генерала Летранжа, что я избавлюсь от моего акцента, как Лафон, и буду играть так же, как этот актер; другими словами, что я буду хорошо играть. Относительно моей игры он сказал то же, что я говорю себе сам: что у меня большие способности, душевный жар, но что остального мне не хватает. Сегодня впервые люди разгадали, чем я могу стать на поприще декламации. Дюгазон говорил то, что действительно думал; пожалуй, не так обстояло дело с Роландо, которая предсказала мне, что когда-нибудь я буду актером. Думаю, что тут скрывались две вещи: она говорила то, что думала, и вместе с тем делала авансы. Это именно тот случай, какие бывают во всех романах: она намерена заняться моим воспитанием, ее тянет ко мне. "Мой юношеский пыл", как говорит Корнель, соблазняет ее. Если - когда у меня будут деньги и хорошее платье - я захочу обладать ею, она будет мне принадлежать; не то, чтобы все это было необходимо, но мне лично это нужно для того, чтобы не быть застенчивым: застенчивость парализует все мои возможности. Я начинаю быть самим собой лишь тогда, когда я привык, когда я пресыщен, как говорит она. "Ему необходимо пресытиться",- сказала она однажды про меня и при мне. Она угадала: я бываю привлекателен, бываю самим собой лишь в эти минуты, но мне кажется, кроме того, что в эти минуты я бываю искренен, - обнажается прекрасная душа; приложив некоторые усилия, я мог бы также сделаться любовником м-ль Луазон и дамы сердца генерала Летранжа.
Вот и все о светских вещах, о радостях тщеславия; я так подробно остановился на них потому, что они редко бывают у меня, человека, обладающего чувствительной душой и скрягой-отцом, а также потому, что мне необходимо пресытиться ими, чтобы целиком отдаться любви к Викторине и к славе; но это придет, я уверен. Один год роскоши и радостей тщеславия - и, удовлетворив потребности, внушенные мне нашим веком, я вернусь к тому, что действительно радует мою душу и никогда мне не наскучит.
Зато в эти дни безумств я отделаюсь от своей застенчивости, что совершенно необходимо мне, чтобы я мог быть самим собой; без этого все будут видеть во мне лишь натянутое и неестественное существо, почти совершенно противоположное тому человеку, который скрывается под этой оболочкой. Доказательством может служить мое замечание относительно ордена, брошенное подруге Адели Ландевуазен за столом у Каррара. Я ясно ощутил это по письмам, которые писал вчера и позавчера Викторине; они были ужасны, в них совсем не видно было моего сердца, моего истинного сердца, а ведь я не мог их исправить: для истолкования их надо было бы видеть выражение моего лица, а меня там не было; они показывали меня совсем не таким, каков я на самом деле. Если бы я вращался в том же обществе, что и она, то, я уверен, она бы полюбила меня, потому что увидела бы, что я обожаю ее и что моя душа так же прекрасна, как та душа, какую я предполагаю в ней, какую ей должно было дать ее воспитание (полученное благодаря отцу среди невзгод и в чужих краях) и какой она, конечно, обладает; и мне кажется, что как только мы бы почувствовали друг друга, почувствовали, как мало остальные представители рода человеческого способны заслужить нашу любовь и составить наше счастье, мы навсегда полюбили бы друг друга; вот где уместно будет сказать:
Чем больше чуждых лиц, тем родина милее.
Мои письма были очень далеки от того, чтобы простодушно выразить мои мысли, и, я это чувствую, все, что я пишу здесь, пока еще только фразы, не передающие точно моих мыслей, не совсем еще свободные от напыщенности. Чтобы этого не было, мне нужны светские навыки, а чтобы иметь светские навыки, мне нужны деньги. Я чувствую, что создан для лучшего в мире общества и для лучшей из женщин; я слишком остро хочу иметь эти две вещи, чтобы не сделаться достойным их.
Наконец, вчера, от двух до четырех, я написал письмо Викторине, совсем не похожее на предыдущие, гораздо более естественное, но все еще немного напыщенное,- последнее помимо моей воли и потому, что, будучи сильно взволнован, я совсем потерял ощущение естественности, стараясь исправить стиль. Я переписывал его почти что печатными буквами с четырех до семи часов, и оно заняло три больших страницы веленевой бумаги. Сделав из него пакет с препроводительным письмецом, адресованным г-ну Виктору Альфину,- это происходило у Крозе, и адрес был надписан его рукой,- я в семь часов отнес этот пакет на почту на улицу Старых Августинцев, возле кафе, что на углу улицы Колонн.
Погода была мягкая, вечер был совсем весенний. Этот вечер, так же как и поступок, который я только что совершил, радость при мысли о том, что необходимый и волновавший меня шаг уже позади, надежда - все это, вместе взятое, сделало меня счастливым. Я с удовольствием пообедал с Крозе у г-жи Деберне; оттуда под весенним дождем, напомнившим мне Италию, мы отправились к Барралю, где провели весь вечер. Часам к одиннадцати у меня немного разболелась голова. На улице Пуатье я упал в канаву: поскользнулся, поставив ногу на камень, который лежал посередине. Промокший до нитки, я отправился ночевать к Крозе. Сегодня утром мы встали в девять часов и часа полтора гуляли в Тюильри; в эту утреннюю пору, когда я бываю счастлив от наплыва чувств, воздух кажется мне насыщенным любовью. Крозе расстался со мной лишь в полдень у дверей Дюгазона. Оттуда я вышел в половине третьего, немного отвлекшись от своей любви из-за радостей тщеславия; зато сейчас я еще полнее отдаюсь своей любви. Если Викторина оттолкнет меня, она откажет не мне, а другому человеку: ведь мои письма показывают меня не таким, каков я в действительности, и, против обыкновения, они показывают меня гораздо хуже, чем я есть. Мне кажется, что им никогда не выразить моей доброты, моего чистосердечия и тех любовных восторгов, какие я испытал несколько дней назад, когда начал думать о том, чтобы написать ей,- проходя через Лувр (утром и вечером), в три часа, когда шел обедать, а также на обратном пути от Дюгазона. Только совокупность моих поступков после трех дней постоянного и непрерывного общения с ней могла бы показать ей меня таким, каков я на самом деле.
Я требую слишком многого. Если бы мой, с позволения сказать, отец прислал мне денег и если бы я сделался любовником Роландо, моя застенчивость сразу исчезла бы.
Ты видишь,- кончено, я больше не сержусь,-
и я стал бы самим собой.
Мои благородные и республиканские принципы, моя ненависть к тирании, врожденное чутье, позволяющее мне разгадывать мнимопорядочных людей, смелость, с какой я высказываю то, что читаю в их душах, и энергия, которую они читают в моей, естественная, порой плохо скрытая нетерпимость, проявляемая мною по отношению к посредственности, - все это заставляет людей слабодушных, вроде моего дяди, считать меня каким-то Макьявелли. А ведь тот, кого они называют Макьявелли, является самым страшным существом в их глазах; превосходство возбуждает в них самую непримиримую ненависть.
В действительности же наиболее опасным для них существом явился бы приятный болтун того же типа, что и они сами, если бы он задался целью помучить их и душа его была бы чуточку выше их мелких душ.
Эти мои достоинства в сочетании с недостатками поначалу, может быть, набрасывают тень на мое добродушие и чистосердечие даже в глазах моих друзей. Примером тому служит Фор. Мант, совершенно другой человек, кажется, совсем освободился от этого предубеждения. Что касается Барраля, то, пожалуй, в его глазах я человек, наиболее достойный любви.
Вот те огорчения, которые возвышенная и добродетельная душа, созревшая в одиночестве, претерпевает, вступая в свет. Вот моя исповедь, вот каким я вижу себя и вот суть того, что я скажу Викторине, если она спросит меня, когда я буду у ее ног: "Кто вы?" В этой душе, быть может, еще запятнанной кое-какими недостатками, она увидит благороднейшие страсти, дошедшие до максимума, и любовь к ней, которая соперничает с любовью к славе и нередко оказывается сильнее последней. Я льщу себя надеждой, что, оказавшись у ее ног, я сумел бы выразить свою любовь прекрасными словами, достойными этой девушки и этой любви.
В общем, если моя душа еще не совсем очищена от порока и вмещает в себе не все добродетели - а она, без сомнения, еще очень далека от этого,- то она воспламенена всеми благородными страстями, которые указывают к этому путь.
Стремление быть возможно более просвещенным и возможно более добродетельным составляет ее сущность; любовь к Викторине и любовь к славе господствуют в ней поочередно. Вот, за исключением общечеловеческих слабостей и говоря с предельной искренностью, что я представляю собой в двадцать два года без девяти дней, 24 нивоза XIII года.
В сущности, мне недостает только красоты и денег (последнее особенно необходимо мне, если Викторина меня любит), чтобы быть совершенно счастливым.
Четверть пятого. Викторина решила мою участь, или же мое письмо попало в руки ее брата или отца.
Вот хорошая статья для дневника происшествий, написанная экспромтом, неотделанная, но от этого лишь более искренняя и менее напыщенная.
Когда немец, выходя из гостиной Дюгазона, принял на свой счет относившиеся ко мне слова Дюгазона (а тот сказал, что я, как и Лафон, избавлюсь от акцента и еще как будто, что я буду играть, как этот актер) и когда Дюгазон сказал, показав на меня: "Я говорю о нем",- немец, хоть я его и утешал с величайшей непринужденностью, был бледен.
25 нивоза XIII г. (15 января 1805 г.).
В первом же длинном письме к Викторине высказать ей все, что я думаю по поводу возвышенной любви, любви между двумя возвышенными душами, такой любви, какую мы видим в сердцах Элоизы и Абеляра, естественной, а потому прекрасной; это докажет ей, что я все это прочувствовал.
Любовь сильная, живущая без пищи, такая, какую я испытывал к ней с 14 прериаля XI года (3 июня 1803 года) до 23 нивоза XIII года (13 января 1805 года), может существовать лишь при наличии пылкого и богатого воображения. Я воображаю себе все те радости, какие мог бы мне дать определенный характер, я воображаю это в течение трех лет; я вижу тот внешний облик, который обещает мне именно такой характер. Еще до того, как я увидел его, все мои надежды на счастье уже были сосредоточены на этом идеальном характере, который я воображал себе в течение трех лет; и вот, увидев его, я люблю его как счастье, я обращаю на него ту страсть, которую чувствую уже три года и которая превратилась у меня в привычку.
Если я переменил климат, если в юности я жил в Италии, если я вкусил там сладостные чувства, которые способствовали зарождению этой страсти, если я вообразил в своих мечтах то счастье, какое обещает мне этот облик, то, увидев его, я сейчас же переношу на него всю сладость скорби, с какой я думаю об этой пленительной Италии. Даже в лоно счастья я привношу обаяние грусти. Я не могу думать об Италии, не думая о ней, она заполняет всю мою жизнь.
Из этого ясно, что все причины, которые препятствуют развитию воображения, а при наличии воображения препятствуют ему развиваться именно в данном направлении, препятствуют и возникновению той страсти, которая как бы предрасполагает к любви и является ее началом.
Любовь. Эта первоначальная страсть приводит нас в состояние грусти, вы видите райское блаженство, вы чувствуете себя достойным его (желание стать его достойным толкает вас на многие поступки), вы говорите себе: "Я заслуживаю большего, нежели то, что я имею, судьба несправедлива ко мне". Вот, что я повторял себе тысячу раз, в особенности тогда, когда ландшафт или сладостный весенний воздух в конце зимы или вечерние звуки органа, плывущие по улице, помогали мне яснее различать это постигнутое мною божественное счастье.
Мне кажется, только пылкое воображение может вызвать это грустное состояние. Во мне его вызвало, пожалуй, то, что я надеялся найти в жизни именно такое счастье, какое представлял себе еще ребенком, когда читал "Странного человека" Детуша (произведение, заставившее меня почувствовать очарование портрета), пастушеские сцены "Дон-Кихота" и описание сдержанных порывов любви в "Новеллах"*, а также отчасти любовные эпизоды у Тассо (похвалы дедушки и сопоставление с действительной жизнью испортили их).
* ("Новеллы" - по-видимому, "Назидательные новеллы" Сервантеса.)
Кончаю, так как чувствую, что у меня начинается головокружение: внимание и чувство слишком напряжены (25 нивоза, без четверти четыре).
Те мужчины, - как, например, Мант, - которые всегда придерживались мудрой философии, заключающейся в том, чтобы забавляться каждый день как можно больше, и которые очень редко или никогда не предавались чувству грусти, не способны на такого рода любовь, какую я чувствую к Викторине и какую, вероятно, чувствовали друг к другу Элоиза и Абеляр.
25-27 нивоза (15-17 января).
Читаю "Жизнь Сенеки" Дидро,- хорошая книга; "Письма Элоизы и Абеляра" - хорошая книга, так как она дает пример возвышенной и в то же время естественной любви двух благородных душ. Лучшее издание на латинском языке - Бастьена.
Но лучше всех любовных писем, какие я читал до сих пор,- двенадцать писем португальской монахини к Шавиньи*, впоследствии маршалу Франции.
* ("Португальские письма" - сборник писем, написанных португальской монахиней Марианной Алькафорадо французу, в которого она была влюблена, графу де Шамильи (а не Шавиньи, как пишет Стендаль). Сборник был переведен на французский язык и напечатан в 1669 году.)
Вот что значит любить действительно безумно: она всем пожертвовала ради своего любовника, и притом без всякой внутренней борьбы. В этом отношении ее письма рисуют более сильную любовь, чем любовь Жюли к Сен-Пре.
Руссо изобразил самую сильную любовь, какая возможна в очень добродетельных душах; следовало бы изобразить любовь двух максимально просвещенных душ, например, Элоизы и Абеляра; преимущество второго сюжета в том, что такую любовь можно изобразить столь же безумной, как безумна любовь португальской монахини. Письма Шавиньи - это любопытный пример притворной страсти в ответ на одну из самых сильных страстей, какие когда-либо бывали. Эти письма производят на меня такое же впечатление, как какая-нибудь комедия характеров.
Безумную нежность, вроде той, какую испытывала эта бедняжка, португальская монахиня, я видел еще только у Расина, например, в сцене Роксаны и Баязета. Вот, по-моему, предел любви.
Один молодой немец, получивший воспитание в Англии, сказал сегодня Манту, что в Германии и в Англии Расина не особенно любят, что Корнеля любят больше.
Сегодня, 26-го, занятия у Дюгазона с половины первого до половины четвертого; Роландо, Луазон и Летранж заметили мою восприимчивую душу.
Когда Бонапарт решил восстановить во Франции религию, он еще немного считался с мнением просвещенных людей, с помощью которых хотел укрепить свою власть. Потому он пригласил к себе в кабинет Вольнея и сказал ему, что французский народ требует у него религии и что ради блага народа он считает своим долгом исполнить его желание.
"Но право же, гражданин консул, если вы станете слушать народ, то он потребует у вас еще и Бурбона". Тут Бонапарт пришел в неописуемую ярость, призвал слуг, велел вытолкать Вольнея вон, говорят, даже пнул его несколько раз ногой и запретил впредь являться к себе. Вот яркий пример того, как смешны бывают просители советов.
После этого бедняга Вольней, у которого очень слабое здоровье, сразу заболел, но, испугавшись, как бы дело не дошло до сената, он немедленно по выздоровлении занялся составлением длинной докладной записки; об этом узнали, и ему было предложено замолчать под страхом смерти, после чего он совсем не выходит из дому. Если все это правда, вот материал для будущего Тацита.
28 нивоза XIII г. (18 января 1805 г.).
Измученный сильным приступом изнурительной лихорадки, которая длится у меня более семи месяцев, я два часа размышлял о поведении моего отца, о его отношении ко мне. Вылечиться я не мог: во-первых, потому, что у меня не было денег на врача; во-вторых, потому, что, все время промачивая ноги в этом грязном городе из-за отсутствия целых сапог и мучительно страдая от холода из-за отсутствия дров и теплой одежды, я считал бесполезным и даже вредным подтачивать организм лекарствами: ведь они все равно не смогли бы избавить меня от болезни, которою нищета непременно наградила бы меня даже в том случае, если бы ее уже не было у меня прежде.
Присоедините к этому все нравственные унижения и непрерывные тревоги жизни, когда имеешь двадцать, двенадцать, два су, а то и вовсе сидишь без гроша в кармане,- и вы получите слабое представление о том состоянии, в каком меня оставляет этот добродетельный человек.
Вот уже два месяца, как я собираюсь поместить здесь описание моего положения, но, чтобы его обрисовать, надо присмотреться к нему, а мое единственное спасение - это стараться вовсе о нем не думать.
Учтите действие восьмимесячной изнурительной, усугубляемой всевозможными лишениями лихорадки на организм, уже и без того подорванный запорами и слабостью в нижней части живота, и скажите: разве отец не укорачивает мне жизнь?
Если бы не занятия или, вернее сказать, не любовь к славе, которая вопреки ему зародилась в моей душе, я уже раз пять или шесть готов был пустить себе пулю в лоб.
Вот уже более трех месяцев, как он не удостаивает меня ответом на мои письма. Я описываю в них свою нужду и прошу на то, чтобы одеться, небольшого аванса в счет моего содержания в 3 000 франков, сниженного им теперь до 2 400 франков; а ведь он мог бы собственноручно возместить эти деньги в весенние месяцы, которые я проведу в Гренобле.
Я попросил у него этот аванс (совершенно чужой человек не отказал бы в нем чужому человеку), будучи больным и страдая от холода, на расстоянии ста пятидесяти лье от своей родины, в вандемьере XIII года, когда у него в руках имелось еще 2 200 франков из моего содержания.
Исходя из всего этого и множества других обстоятельств, которых хватило бы на два десятка страниц и которые страшно отягчают его вину, мой отец по отношению ко мне является гнусным злодеем, не имеющим ни добродетели, ни сострадания: "Senz virtu ne carita", как говорит Каролина в "Тайном браке".
Если это суждение удивляет кого-либо, пусть он скажет мне это, пусть определит сам, что такое добродетель, и, исходя из этого определения, я докажу ему в письменной форме, докажу так же ясно, как доказывается, что все наши идеи приходят через чувства, то есть с такой очевидностью, с какой только может быть доказана отвлеченная истина,- что мой отец по отношению ко мне вел себя, как бесчестный человек и отвратительный отец, словом, как гнусный злодей.
Он обещал мне 3 000 франков, если я откажусь от военной карьеры. Я был сублейтенантом 6-го драгунского полка в вандемьере IX года, когда мне было семнадцать лет и семь месяцев. Вот каково было положение, от которого он заставил меня отказаться. Чтобы оценить его должным образом, надо принять во внимание внутреннее политическое положение Франции.
Другие соображения, ему неизвестные, помогли мне найти счастье и при этом положении вещей, но заметьте себе, что человек, который бы выстрелил в меня из ружья, прицелившись самым тщательным образом, и не убил только потому, что на мне были надеты латы, все же убийца. Эта простая истина безоговорочно решает дело в мою пользу.
Хотя у меня хватило бы материала еще на пятьдесят страниц, я кончаю эту заметку, повторяя свое предложение - доказать quantum dixi* в письменной форме перед жюри в составе шести величайших людей, живущих ныне. Если бы Франклин был жив, я назвал бы его имя. Я назначаю трех судей: Жоржа Гро, Трасй и Шатобриана, чтобы они могли оценить душевное страдание поэта.
* (То, что я сказал (лат.).)
Если после этого вы все же назовете меня сыном-уродом, значит, вы не умеете рассуждать и ваше мнение всего лишь пустой звук, который умрет вместе с вами.
Помните, что прежде всего надо быть искренним и справедливым, даже в том случае, когда голос этих добродетелей заставит вас отдать предпочтение двадцатидвухлетнему человеку перед пятидесятивосьмилетним (хотя бы вы сами были ближе к пятидесяти восьми годам, чем к двадцати двум) и сыну перед отцом.
Либо вы отрицаете добродетель, либо мой отец - гнусный злодей по отношению ко мне. Несмотря на некоторую слабость, которую я еще питаю к этому человеку, такова истина, и я готов письменно доказать вам это при первом требовании.
Написано, не отрываясь, 28 нивоза XIII года, в половине двенадцатого ночи, причем все мое имущество в данную минуту составляют двадцать пять су и лихорадка.
3 плювиоза (23 января).
Собственноручно пишу Викторине, потом иду к Дюазону. То, что я там вижу, заставляет меня решиться стряхнуть с себя свою апатию. Я допустил, чтобы Вагнер занял те позиции, которые предлагались мне, и теперь они принадлежат ему. Возможно, что Луа-зон из-за моего отказа стала его любовницей. Получает лишь тот, кто умеет брать. Выдвинуться в декламации так же, как он; его уроки вдвое лучше моих. Приобщиться, хотя бы в слабой степени, к театральным нравам, которые здесь всего уместнее, а главное, чаще говорить. Общество Крозе показывает мне, что надо во что бы то ни стало быть занимательным; ничего нет легче, для этого надо говорить - и это почти все
4 плювиоза (24 января).
В десять часов иду в Медицинскую школу, чтобы прочесть "Умопомешательство" Пинеля; библиотека закрыта. Иду в Пантеон, читаю первое рассуждение Кабаниса о соотношении физического и духовного начала. Его манера изложения фактов представляется мне чересчур общей, а потому неясной. Этот автор не нравится мне, прочитать Бекона и Гоббса.
Вечером ходил с Барралем на "Тайный брак"; в театре встретили Крозе и Бассе, которые пришли сюда, надеясь встретиться с нами. Я уже не могу представить себе Викторину в какой бы то ни было позе, мое воображение иссякло, но этого нельзя сказать о моей любви. Я отчетливо различаю эти две вещи. Меня уже не волнует мысль о тех позах, в каких я хотел бы ее себе представить, потому что слишком часто видел ее именно так, но ее любовь по-прежнему приводит меня в восторг. Крозе сказал, что получил записку от своей Серафины; он покажет мне эту записку. Неужели только я один не буду знать счастья?
Воскресенье, 14 плювиоза XIII г. (3 февраля 1805 г).
Проводил Луазон и зашел к ней; мне почти что хочется к ней привязаться; это излечит меня от любви к Викторине. Я буду наслаждаться с моей маленькой Луазон теми тихими радостями, какие могут дать счастливая любовь и веселое настроение, пока не уеду в Гренобль; но для этого она должна обладать душой.
Викторина пренебрегает мной, или же она не получила моих писем. Вчера вечером я с величайшим удовольствием узнал о том, что ее отец назначен государственным советником или сенатором. Сегодня утром я первым делом побежал читать вчерашний "Moniteur"; я убедился, что он действительно назначен государственным советником. Тогда, движимый тайным желанием увидеть их, я стал бродить по Сен-Жерменскому предместью и по Тюильри. На Королевском мосту я встретил сына*, который устремился ко мне с распростертыми объятиями; эта встреча была очень удачной, но я боюсь, что с ним было то же самое, что с Камиллой:
* (...я встретил сына...- то есть Эдуарда Мунье. Стихотворная цитата - слова Камиллы из "Горация" Корнеля (действие 1-е, явление 2-е).)
Не замечала я, кто говорил со мною. Ничем не нарушал он моего покоя. Лишь Куриацием была душа полна.
Он был в таком восторге от назначения своего отца, что, пожалуй, даже и не вспомнил о моих отношениях с его семейством. Увидим, так ли это, по тону нашей первой встречи. Он сказал мне с величайшей приветливостью, что навестит меня в один из ближайших дней.
Дюшен считает, что у него большое самомнение, кое-какие связи и дурное сердце. Приблизительно таково было и мое мнение, но чем больше оснований было у меня считать Эдуарда моим врагом, тем больше доводов в его защиту приводил мне адвокат "за". Вообще я знаю, что у меня пылкие страсти, что вследствие этого я о многом сужу неправильно и потому не замечаю, когда адвокат, порицающий страсть, многое преувеличивает. Боясь, как бы не перейти в галоп, я слишком сильно натягиваю удила, и это тоже плохо. Я убедился в этом на примере Викторины, которую считал некрасивой, и ее брата Эдуарда, о котором не решался вынести определенное мнение, хотя, по всей вероятности, имел на то больше данных, чем Дюшен. Во всех этих трех случаях я ошибался. По той же причине я все время заблуждался в истории с Аделью; поискать другие примеры - это излечит меня от застенчивости.
Говоря о сестрах, Дюшен сказал мне, что "это не бог весть что". Обдумать эту фразу. Разделяет ли Викторина недостатки своего брата или, напротив, она страдает от них? Это-то, пожалуй, и должно решить вопрос. Никогда не забывать, что отвлеченные истины доказываются совсем не так, как те, которые рассматривают явления, поддающиеся точной цифровой оценке.
Мои рассуждения и в эту минуту все еще имеют в основе своей страсть; это нехорошо; и все же я чувствую себя вполне благоразумным. Только что прочел первый том "Дельфины" г-жи де Сталь и почувствовал себя почти полностью воплощенным в персонаже Дельфины. Опыт, приобретенный у Дюгазона, оказался мне очень полезен для познания самого себя. Марсиаль сказал мне как-то: "Вы - сама страсть". Мант того же мнения. Я и сам чувствую, что это так. Дюгазон такого же мнения в той мере, в какой он меня знает. Каковы бы ни были возражения адвоката "против", вот истина, которая кажется мне доказанной. Если моя душа не является самой восприимчивой, то, по крайней мере, она - олицетворение страсти.
Я до того благоразумен, что, чувствуя себя способным заполнить еще двадцать страниц существенными мыслями о моем искусстве и о способах достигнуть более прочного счастья, все же ложусь спать, потому что уже час ночи и я сознаю, что подрываю свое здоровье.
Исходя из принципов моего искусства, первое мое произведение должно было бы иметь большое сходство с "Дельфиной", не прочти я сейчас этого романа, и, может быть, оно все же будет немного походить на "Дельфину", несмотря на то, что я ее прочел. Но теперь это произойдет по моей доброй воле.
15 плювиоза (4 февраля).
Мне кажется, что я познал обыденное счастье лишь после того, как прочитал Бирана. Сегодня, 15-го, я провел восхитительный вечер, занимаясь тем, что еще две недели назад нагнало бы на меня тоску. Читал Кабаниса (смерть Мирабо) и Гоббса в кабинете для чтения в конце улицы Тионвиль. Придя домой, съел бриошь с таким удовольствием, какого никогда не получил бы от лучшего обеда. Думаю о Meлани, и это воспоминание чарует меня, как само наслаждение (as the pleasure itself*).
* (Английский перевод трех последних слов строки.)
17 плювиоза XIII г. (6 февраля 1805 г.).
Гоббс знакомит нас со статьями общественного договора, начиная от первых условностей, которые, должно быть, создали еще дикари, после того как они свергли первую тиранию, и кончая тончайшими условностями парижского общества (самого совершенного из всех, существовавших когда-либо). Теми условностями, представление о которых дает г-жа де Сталь в "Дельфине" и из которых она могла бы создать "Дух законов" общества, нечто подобное тому, что Монтескье сделал для законов одного государства относительно другого государства и одного гражданина относительно другого гражданина.
Гоббс знакомит с этими законами человека добродетельного и человека, стремящегося к знанию.
"Государь"* создает науку о том, как обходить эти законы. Для этого он указывает два способа: 1) уклоняться от их выполнения открытым путем; 2) уклоняться от их выполнения, делая вид, что подчиняешься им.
* ("Государь" - известный трактат Макьявелли.)
20 плювиоза (9 февраля), суббота.
М-ль Марс.- Только что испытал самое большое наслаждение, какое мне когда-либо доставляла комедия своей способностью смешить. М-ль Марс, которую я привык видеть такой скромной, едва не вывела меня из равновесия, играя Агату в "Безумствах любви"*; во время первых двух выходов я вынужден был не смотреть на нее, чтобы не влюбиться. Я и сейчас еще не могу прийти в себя от изумления, что выбрался из театра здравым и невредимым,- мне пришлось много раз повторить себе, что надежды нет. На мой взгляд, это была просто вакханалия красоты - такая, какими в юности, живя в Милане, я представлял себе римские вакханалии.
* ("Безумства любви" - комедия в 3 действиях Реньяра (1704).)
Вот одно из самых ярких наслаждений, какие может доставить искусство; оно отняло у меня все мои силы, и я опишу его тем хуже, чем сильнее полученное мною впечатление,- выражаясь языком Жан-Жака. Вот то, что не дано людям вроде Ганьона-сына* или Мазо**, пресыщенным или холодным душам, и что они купили бы ценой всех своих сокровищ, если бы подозревали о существовании подобных вещей. Я никогда не видел ничего столь божественного, как первые две сцены с м-ль Марс в этой роли.
* (Ганьон-сын.- Стендаль имеет в виду своего дядю, Ромена Ганьона.)
** (Мазо де Ла-Таньер - военный комиссар с 1799 года, герой скабрезного анекдота, рассказанного Стендалем в записи от 21 мая 1801 года.)
Особенно восхищает то, что красавица, которую до сегодняшнего дня все привыкли видеть застенчивой и наивной, выступает вдруг в роли веселой и решительной женщины.
Вот те райские наслаждения, какие можно найти только в Париже,- ничто не может ни заменить их, ни даже просто вытеснить из памяти.
Я не в состоянии что-либо сказать - так велико мое изнеможение. "Безумства" - одна из лучших пьес Реньяра; в ней горит огонь истинного комизма, который этот замечательный человек унес с собой. Дюгазон сыграл Криспена очень неплохо, со всем тем пылом, на какой он способен,
В пьесе нет ничего от таланта Мольера - тот потрясает человека, показывая ему его пороки и смешные стороны,- но, может быть, в этом и кроется секрет ее необычайной жизнерадостности.
В первой пьесе Флери играл г-на де Лампире; те не слишком пылкие места, на которые хватало его голоса, он исполнял превосходно, а все восторженные стихи, из которых и состоит почти вся роль, читал как актер большого, но поблекшего таланта. Лучшей его сценой была сцена с Лизеттой в конце четвертого акта.
У Сен-Фаля нет и намека на изящество Флери, но он, пожалуй, более поэтичен в центральной сцене.
Это остроумное произведение, где тоже нет ничего от таланта Мольера, оригинально благодаря смыслу, который содержится в каждом стихе и в каждой ситуации, но в общем оно холодно, потому что протагонист не страстен. Оно должно пленять людей холодных и остроумных, какими полон свет. Поэтому...
И все же оно отступает на задний план перед веселым задором Реньяра и вдохновенным комизмом д'Эглантина.
Рядом со мной была ложа, заполненная учеными женщинами, которые вели между собой такие же разговоры, как Филаминта, Белиза и Арманда*.
* (Филаминта, Белиза и Арманда - персонажи комедии Мольера "Ученые женщины".)
Это было третье выступление м-ль Амальрик Конта, которая декламирует умно, но без веселого задора, и к тому же чудовищно безобразна.
Ее игра выгодно оттеняла игру лучших актеров. М-ль Марс участвовала в обеих пьесах.
Я сидел в первых рядах партера, раз уж необходимо в этом признаться, и пришел сюда в надежде встретить Луазон, которой не оказалось так же, как и вчера; между тем она сама сказала мне третьего дня, что бывает здесь ежедневно. Зато и вчера и сегодня я видел здесь Вагнера, который весьма ограничен и довольно глуп, но, быть может, является ее любовником. По крайней мере он семь или восемь раз приходил сюда вместе с нею и потом провожал ее. Дюгазон думает, что он ее любовник. Умираю от ревности.
Ах, как смешон мне этот Мон-Сенис! -
говорит Дюгазон. Я же имею полное основание сказать:
Ах, как смешно, что я ее ревную!
По два, по три раза на день я меняю свои намерения на ее счет. Только сегодня, в кабинете для чтения, я решил сделать из нее вторую Клерон, передать ей все, что мне удалось узнать о сценическом искусстве, стать ее Вальбелем*. Я даже начал записывать даты рождения и смерти наиболее известных драматургов. Может быть, от передачи изображенных ими страстей я привел бы Луазон к общим принципам философии, и это помогло бы ей стать величайшей актрисой в мире...
* (Кстати, о Вальбеле: не забыть о вчерашнем разговоре между Мантом и г-жой Резенкур, происходившем в то время, когда я был у Дюгазона. Это был забавный день. Г-жа Резенкур должна была увидеться с Луазон в тот же вечер.)
Этот план кажется мне вполне осуществимым. Право же, мы истинное сокровище друг для друга, и ни у кого еще не было таких замечательных отношений. Захочет ли она полюбить меня? Понравлюсь ли я ей со всем тем блеском, который присущ мне в беседе? Будущий молодой драматург и будущая молодая актриса! Я должен подойти ей в тысячу раз больше, чем Вагнер. Я рассчитываю на его глупость. А что, если она смеется вместе с ним над всем тем, что я ей написал о поэтах? Но, с другой стороны, это делает меня незаурядным, и подражать мне мог бы только равный.
Сегодня вечером я сержусь на нее и хочу ее забыть. Днем, с двенадцати до двух, я пробыл у Марсиаля, где был завтрак с Мезонневом, пьеса которого скоро будет поставлена, и Фронжаром, похожим на Ланжюине, чью историю я расскажу как-нибудь в другой раз.
Борьба страстей, которая заставляет меня и любить Луазон и почти ненавидеть ее, делает мое существование невыносимым. Мне тяжело думать и чувствовать, постоянно болит голова, мне необходимо рассеяться; впервые чувство оказывает на меня такое действие. Моя любовь не отличается той бурной нежностью, какую я питал к Викторине; для этого у меня слишком мало надежды.
Вчера, 19 плювиоза, я пошел из-за нее в первые ряды партера. Давали "Китайского сироту" и "Случайного наперсника". Я не видел "Сироту" со времен м-ль Рокур, что было три года назад, в Гренобле, по возвращении моем из Италии, а "Безумства" - пожалуй, с самого детства.
Лафон играет Чингис-хана в духе трагического гамена. Он хорошо сыграл только вторую сцену, плохо - мелко и слабо - первую, отвратительно - последние две. В конце его ошикали, неуверенно, без особой страсти, но роптали решительно все.
Пьеса доставила мне удовольствие, потому что я не судил ее, а, напротив, отдался чувству. Я был таким же, как в день постановки "Филинта" д'Эглантина.
Что было действительно прекрасно и к тому же хорошо передано Лафоном - это удивление.
22 плювиоза (11 февраля), за завтраком в кафе Режанс, в три четверти девятого.
Декламация и сочинение.- Чтобы завоевать симпатию слушателя, надо владеть собой и воодушевляться постепенно; в противном случае, видя вас в неистовстве с первой же минуты, он верит вам на слово вместо того, чтобы разделить ваши чувства и увидеть в вас самого себя.
Подлинная декламация должна течь величественно, как река, затопляющая все кругом; когда сердце зрителя уже увлечено, когда оно уже связано с актером, минуты возбуждения последнего вызывают в душе зрителя возвышенные и глубокие чувства. Без подготовки эти резкие вспышки могут увлечь либо как редкое зрелище, либо когда перед вами большое дарование, либо когда слушатель - провинциал, которого любой шарлатан легко убедит в том, что это предел искусства. В действительности, если эти вспышки происходят от избытка внутреннего пыла, они изобличают в молодом индивидууме величайшую силу искусства, редчайшую, такую, приобрести которую труднее всего.
Однако, несмотря на все это, являясь частицей искусства, эта сила не является искусством полностью, и я никогда не буду декламировать хорошо, если не научусь декламировать, соблюдая смысловые периоды и владея собой. При отсутствии этого качества про меня в лучшем случае скажут: "Как жаль! Он мог бы достичь большого мастерства!"
Что касается сочинительства, то и тут дело обстоит точно так же. Минута, когда я сам наиболее взволнован, вовсе не является той минутой, когда я могу написать вещи, наиболее волнующие зрителя. Доказать это очень легко: если где-нибудь в салоне я встречусь с Викториной и если она по ходу игры или просто в шутку пожмет мне руку, то я, конечно, ничего не смогу написать в течение двух последующих часов.
Переживать такие состояния максимума страсти полезно, ибо без этого было бы невозможно изобразить их, но эти минуты максимума не являются наилучшими для того, чтобы писать. Лучшими являются те минуты, когда вы ощущаете физическое спокойствие и ясность духа,- вот когда вы в состоянии написать самые волнующие вещи.
Ясности духа мне особенно недоставало до сих пор, когда я садился писать. Я не могу забыть, что три месяца назад, когда я писал "Летелье", меня до того страстно влекло к славе и я с такой тревогой думал о том, добьюсь я ее когда-нибудь или нет, что я уже не чувствовал ни комического, ни ужасного, ни трогательного. Тщетно старался я использовать наиболее комические места Мольера, наиболее ужасные и наиболее нежные (трогательные) места Шекспира, - пластырь не прилипал, до такой степени вся чувствительность, вся жизнь моей души была сосредоточена на стремлении к славе.
И, разумеется, этот момент был совсем не подходящим для того, чтобы писать. Часто бывает и так, что я не могу писать из-за внутреннего жара; в течение четверти часа я всячески заставляю себя писать, но мои чувства так обострены, что процесс писания (физическое действие) является для меня тяжелым трудом, так же как и замедление полета мысли.
Если я не исправлюсь, то не смогу показать себя людям, и, будь я величайшим поэтом в душе, внутри своего "я", все же я уйду из жизни без славы.
Надо брать пример с Шекспира. Как течет его мысль, подобно потоку, затопляющему все и все увлекающему вместе с собой! Какой поток его вдохновение! Как широка его манера изображать! Это сама природа. Нежнейшая любовь к этому великому человеку то и дело чередуется у меня с живейшим восхищением,- вчера, например, когда я перечитывал случайно первые сцены "Отелло". Для моего сердца это величайший поэт из всех когда-либо существовавших; говоря о других, мы всегда привносим известную долю доверия к репутации; говоря о нем, я всегда чувствую в тысячу раз больше, чем высказываю.
Его персонажи - сама природа. Они скульптурны, они живут. Персонажи других писателей только нарисованы и часто нерельефны, как, например, персонажи Вольтера. Один только Лафонтен затрагивает тот же уголок моего сердца, что и Шекспир. Проза Паскаля, на мой взгляд, наиболее близка к нему. Перечитать Гомера, чтобы посмотреть, затрагивает ли он меня, как они.
Углубить эти мысли.
Я был буквально в исступлении, когда пришел Мант и прервал меня. Я был совершенно не в состоянии писать.
22 плювиоза XIII.- Г-жа Луазон. Без четверти двенадцать я вышел из дому в новом коричневом костюме из легкого сукна. Я был полон той разреженной чувствительности, которая настраивает на светские развлечения и является основой таланта привлекательного человека.
Подходя к дому Дюгазона, я почувствовал, что забыл все то, что вчера и еще сегодня утром собирался сказать Луазон, - столь велика сила привычки как в хорошем, так и в плохом. Кроме того, я был немного смущен. У Дюгазона я всего лишь актер; приучиться быть там разговорчивым и веселым. По прошествии трех уроков привычка укрепится, две недели я буду развивать ее, и все наладится.
Я застал только Вагнера и м-ль Фелип. Вагнер более близок с ней, чем я, по двум причинам:
1) потому, что он более родствен ей по духу;
2) потому, что он больше говорит, чем я.
Мадмуазель Луазон пришла, когда я читал роль Филинта*. Через минуту она села рядом с Дюгазоном, напротив меня. Мне кажется, что я вложил много настроения в длинную реплику:
* (Слова Филинта, цитируемые Стендалем, взяты из "Мизантропа" Мольера (действие 1-е, явление 1-е).)
Кто добродетелен, тот должен быть уживчив, и т. д.
И, кажется, она отлично заметила это.
Затем Дюгазон велел мне прочитать главную сцену из "Метромана". Я начал владеть собой, в соответствии с размышлениями сегодняшнего утра, но привычка еще не укоренилась. Я исполнил сцену с подъемом, с воодушевлением, голос звучал прекрасно, я заполнил бы звуком целый театр. И я сыграл бы значительно лучше, если бы больше владел собой. Дюгазон произнес с улыбкой: "Хорошо, хорошо!" - и сказал обо мне Луазон несколько слов, кончавшихся так: "Какой пыл!" Та ответила убежденным тоном:
"Да, он очень пылок"; она сказала это даже с воодушевлением. Читая свою роль, я держался превосходно - гордость, восторг, надежда.
Сегодня она смотрела на меня совершенно безучастно, была холодна со мной. Пришел Марсиаль и начал обращаться с ней, как с актрисой, которая была раньше его любовницей; он едва удерживался в рамках приличия, подобающего гостиной Дюгазона. Она принимала это смущенно, не смея защищаться; когда она играла Мониму, он "подхлестывал" ее, совсем как Флери в "Клубе"*; он поцеловал ее, он был очарователен. Дюгазон поверил ему или же хотел заставить Марсиаля поверить в то, что он ему верит, и высказал ему это интонацией, спросив: "Почему вы больше не бываете на субботах?" и т. д. (думаю, что речь шла о Жуанвиле).
* ("Клуб" - комедия Пуэнсине в 1 действии (1754).
Стихи - из "Горация" Корнеля (действие 2-е, явление 3-е).)
Луазон защищалась от всех нападок, как привлекательная женщина с прошлым. У Марсиаля был такой вид, словно он устал и ему скучно, и это действительно было так. Он был от этого не менее блестящ; я тоже, немного.
Луазон сказала, что если ей не повезет во Французском театре, то ее решение принято: она знает, куда ей ехать. Мы перебрасывались редкими фразами; я был холоден и высокомерен - помимо воли, совершенно помимо воли, поддаваясь дурной привычке. Я пошел провожать ее.
Проходя мимо модного магазина, что в конце улицы Фоссе-Монмартр, около площади Победы, она заметила выставленное в витрине вышитое платье и сказала: "Просто удивительно, до чего искусно умеют в Париже рекламировать товары!.." Эта фраза совершенно выпадала из общего тона нашего разговора. Что это: смущение, минутная рассеянность или желание получить подарок? Немного дальше, на улице Пти-Шан, она взглянула на чепчики, выставленные у модистки, с таким видом, который говорил о том же самом.
Мы дошли до ее дверей, я попрощался с нею у подножия лестницы; кажется, это удивило ее.
Мысль о нелепости моего поведения в предыдущие дни и моя обычная застенчивость помогли мне расстаться с ней без особого труда, но едва я оказался за дверью, как перестал понимать, куда иду. Я был похож на человека, который только что с огромным усилием принес великую жертву и теперь весь отдается своей слабости. Я просто не понимал, где я; я упрекал себя за то, что расстался с нею. Дождь помешал мне пойти к Шеминаду, я вернулся домой и сел писать.
- В пятницу, во время моего двухчасового визита, она испытала минутный прилив сладостного и нежного чувства; у нее появились слезы на глазах, краска в лице и т. д., но я не смог как следует этим воспользоваться.
В среду надо будет выказать ей сильную любовь, и для этого мне надо только решиться выразить то, что я чувствую. Я был на грани нежной страсти и сейчас еще не совсем опомнился. Я боготворил в ней воплощение неги, все истинные наслаждения любви, свободные от того печального и мрачного, что есть в этой страсти, самую сущность любви.
К тому же сходство наших положений так велико! Я непременно хочу сделаться ее другом. Когда через год я буду перечитывать эти строки, я покраснею, если окажется, что она девка. Но из-за чего краснеть? Я давно уже знаю, что чересчур чувствителен, что в жизни, которую я веду, есть тысяча шероховатостей, разрывающих мне сердце; эти шероховатости будут устранены десятью тысячами франков ренты; богатство необходимо мне не так (не в такой мере), как другому, и в то же время мне оно нужнее, чем другому, из-за моей чрезмерной впечатлительности, из-за той впечатлительности, благодаря которой интонация одного слова, один незаметный жест подымают меня на вершину счастья или повергают в бездну отчаяния. Я скрываю это под своим гусарским плащом.
Банк, шесть тысяч франков ренты, заработанных совместно с таким надежным другом, как Мант, устранят все мои горести и дадут возможность упиться всеми наслаждениями, доступными той чувствительности, о которой никто и никогда не узнает. Мне нужна была бы душа поэта, душа вроде моей собственной,- Сафо, но я отказался от надежды найти ее. Вот когда мы вкусили бы неземное счастье! Мы смело могли бы сказать:
В нас необычные провидя мощь и волю, Нам необычную он предназначил долю*
* (Перевод Н. Я. Рыковой.)
Не занятая больше земными заботами, моя чувствительность всецело обратится к персонажам Шекспира и усилит мой талант. Мне кажется, что чувствительность Жан-Жака, когда он был в моем возрасте, не была такой разреженной, такой тонкой, словом, употребляя выражение, придуманное мною этим летом, что его голова была не так хороша, как моя.
Итак, в следующую среду надо будет проводить Луазон, подняться к ней и излить ей всю свою нежность, чтобы показать, что я не заурядный светский человек.
Ее герой - это м-ль Клерон; сегодня она опять сказала мне: "Это необыкновенная женщина". Она сказала мне, что раз десять перечла ее мемуары, что у нее есть эта книга; она сказала, что не верит в историю с привидением - с г-ном де С.- и что сама м-ль Клерон сказала ей, будто бы... Тут нас прервали. Как глубоко могла бы эта душа прочувствовать то, что я собирался для нее сделать в воскресенье вечером и что уже начал делать! Каким другом стану я для нее! В среду предложить ей прорепетировать Мониму.
Вагнер принес ей первый фельетон Жофруа о м-ль Амальрик и сказал: "Вот то, о чем вы просили". Когда это она могла просить его об этом? От какого числа этот фельетон? А я-то думал, что с урока, бывшего в пятницу, они не виделись.
Нежность, которую я проявлю к ней в среду, должна будет заставить ее высказаться. Я почти уверен, что она испытывала влечение ко мне - хотя бы в тот день, когда, стоя перед трюмо, она взяла меня за руку после репетиции роли Монимы.
Я хочу непременно стать ее другом и, за исключением крупных денежных услуг, оказывать которые я не в состоянии, проявлять свою дружбу к ней во всем остальном.
Как ни велик риск найти вместо чувствительной женщины грубую авантюристку, я должен сказать себе, что, быть может, совершенства, как в хорошем, так и в дурном, никогда не существовало; надо рискнуть и сказать себе, что если ее чувствительность и окажется неразвитой, быть может, ее душа, такая добрая, заставит пробудиться эту чувствительность.
Худшая из всех ловушек, в которые может меня завести знание женщин,- это опасность никогда не полюбить из страха быть обманутым.
Луазон испытывает к Клерон совершенно те же чувства, что я к Шекспиру.
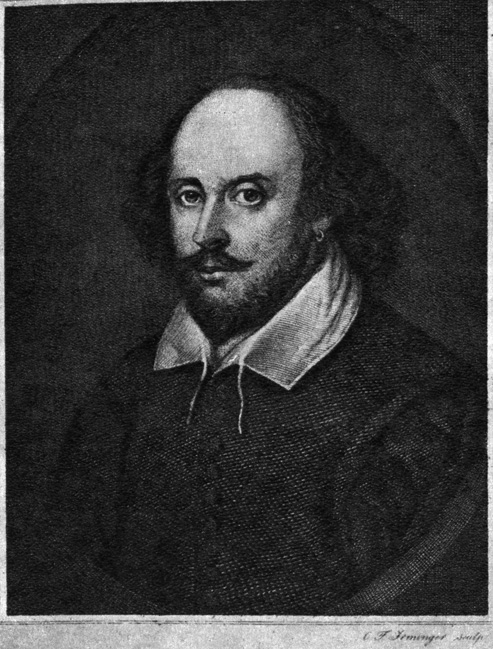
Вильям Шекспир
Я был у Луазон четыре раза. Первый раз мы были наедине, и я около получаса говорил об искусстве. Второй раз - вместе с г-жой Мортье; пришел какой-то старик и был принят с такою любезностью, какая может относиться только к содержателю или к врачу. Третий и четвертый раз - в прошлую среду и в пятницу 17 и 19 плювиоза - я заговорил о своей любви; 19-го - момент явной разнеженности, которая могла бы привести к желанному концу, но тогда, быть может, я заполучил бы...
Все мои слова о любви, обращенные к ней, были притворными; среди них не было ни одного искреннего. Все, что я говорил,- чистейший Флери; пожалуй, я мог бы указать, из какой пьесы был взят каждый мой жест, и, тем не менее, я любил ее. Вот и судите после этого по внешнему виду! Но дело в том, что я смутно ощущал свою любовь как любовь слишком значительную и слишком прекрасную, чтобы не быть смешной в обществе, где требуются лишь урезанные чувства. Моя любовь подобна любви Отелло до того, как он начал ревновать. Вот когда я проживу полгода, наслаждаясь благами ренты в шесть тысяч ливров, я стану достаточно силен, чтобы осмелиться быть самим собой даже в любви.
Я слишком хорошо чувствую и понимаю, что такое вполне привлекательный человек, чтобы быть вполне уверенным в себе, и так будет продолжаться до тех пор, пока я не достигну этого блестящего идеала. Какой-нибудь болван, все поступки которого - сплошная нелепость, обладает максимальной самоуверенностью, потому что не представляет себе ничего более совершенного.
Для того, кто conscius sceleris sui*, кто сознает, что он злой человек, не существует грусти; он никогда не сможет сказать себе: "Я заслуживал лучшей участи" - и никогда не прольет тихих слез. Например, Яго - олицетворение отчаяния и злобы. Ни тени грусти, сплошная ярость.
* (Отдает себе отчет в содеянном им преступлении (лат.).)
Господин Мезоннев сказал мне, что несколько дней назад он встретился у своего книгопродавца с Шатобрианом, что это маленький, худенький человек на полголовы ниже меня ростом, что живость его ни с чем не сравнима, что он ни секунды не стоит на месте.
Лекен был выше меня на полтора дюйма.
Нечувствительная душа (К.) занята лишь внешним; душа чувствительная - в те минуты, когда ее не отвлекают чувства сегодняшнего дня,- занята своими прежними чувствами. Вот что мешает ей видеть и познавать внешнее. Что будет, когда какая-нибудь особенная причина (любовь к славе, к поэзии - у меня, желание познать чувства) заставит ее всмотреться в собственные чувства? Если бы мне и К. было по двадцать два года, то у него это были бы двадцать два года обычного, а у меня три или четыре - настоящего опыта; все остальные годы отравлены, подслащены страстью.
Таков недостаток поэтической души; разумеется, это преимущество для поэзии и ущерб для философии, основанной на вещах, видимых другим людям.
24 плювиоза (13 февраля), 11 ч. вечера, среда.
Если бы я захотел, то сегодня вечером Луазон стала бы моей любовницей, и она станет ею, когда я захочу,- таков вывод сегодняшнего дня. Наконец-то я близок к счастью.
Сегодня утром я пошел к Дюгазону. Она была там вместе с г-жой Мортье, малюткой Фелип и Вагнером. Она была очень весела, лицо у нее было посвежевшее, и роль Монимы она прочитала, как ангел, ну просто отлично. Она встретила меня приветливо, я поцеловал ее.
Мы вышли в три четверти второго. Вагнер пошел провожать Фелип, а мы с Луазон отправились к Мортье, и она обнажила перед нами, во всех подробностях, свою низменную душонку - душонку распутницы, стремящейся к хорошему тону. Мы пробыли у нее три четверти часа. Луазон была в том восторженном состоянии, в какое успех приводит душу, влюбленную в славу. Самые благородные чувства теснились в ее сердце*. Я проводил ее домой и пробыл у нее до четырех часов, упоминая о своей любви лишь мимоходом. Она сказала, что ей надо идти в театр.
* (Я плохо передаю здесь, насколько велико было в эту минуту единение наших душ. Вообще, я не умею передавать тонкие оттенки событий, самое глубокое, самое прекрасное, что в них есть, потому что мне не хватает слов; чтобы приспособить к этим оттенкам слова нашей речи, понадобилось бы два или три часа. Вот почему мы всегда выражаем лишь то. что наиболее грубо)
Мант одолжил мне шесть ливров, и я купил билет в первых рядах. Давали "Сида". М-ль Бургуэн была отвратительна; Ноде, Депре и Лакав - так же плохи, как обычно. Лафон, по обыкновению, был холодно изящен; так как к тому же у него нет голоса, он навсегда останется посредственным и изящным актером, слегка напоминающим своим талантом Вольтера.
Пришла Луазон, я усадил ее рядом с собой. Вызвался проводить ее; она согласилась. Когда мы дошли до ее дома, она спросила, не зайду ли я. Я поднялся, мы зажгли камин, стали говорить о ней, потом о моей любви. Первые полчаса она слушала меня с мечтательной нежностью, потом ее интерес ослабел, и, мне кажется, ей стало немного скучно. Воспользоваться первой же минутой разнеженности, чтобы овладеть ею. Она любит меня или, по крайней мере, хочет заставить меня поверить, что любит, потому что она сказала, что прекрасно поняла мой поступок в понедельник, когда я простился с ней у подъезда; она подробно остановилась на этой теме, и тогда я описал ей состояние, в каком был после того, как с ней расстался. В эту минуту разнеженность дошла до максимума. Уходя, я попросил у нее поцелуя, и после слабого сопротивления она позволила мне поцеловать себя - явно не случайно и с удовольствием.
Если я захочу, в пятницу она будет моею.
Луазон сказала, что когда она заговорила с Клерон о ее привидении - г-не де С, - та ответила фразой: "Если бы я принадлежала к числу избранных, то поверила бы, что небо совершило для меня чудо", и т. д. Следовательно, Клерон не верит в свое привидение. У нее есть одна слабость - тщеславие. Как-то раз Луазон пришла к ней с английским актером Кемблем. Кембль сделал Луазон несколько комплиментов, сказал, что у нее красивое лицо и глаза, как у м-ль Клерон. Тогда последняя возразила: "Да, конечно, у нее красивые глаза, но..." (но какая разница между ее глазами и моими!). Луазон считает, что у Клерон гораздо более глубокое понимание ролей, чем у Дюгазона. Сегодня утром Дюгазон дружески обнял меня. Этому человеку свойственны очень яркие ощущения, но они быстро проходят.
Существует лишь одно средство сделать старость сносной - это слава и пылкая душа; при этих условиях она, пожалуй, лучше молодости. Сравнить старость Вольтера или Моле (фельетон в "Debats" от 19-го числа о г-не Форе) со старостью Дарю или моего дедушки.
В тот момент, когда я записывал это, семья провинциалов, славных и веселых людей, искала кого-то на площадке лестницы; какая-то девушка, очень веселая, с черными бровями, молодая, хорошенькая, пухленькая, постучалась ко мне и спросила некую м-ль N, артистку. Хохоча, как безумные, мы вместе отправились будить артистку. Этот маленький эпизод, исполненный чистосердечного веселья, доставил мне большое удовольствие. Отец в шитом серебром мундире был очень любезен, девушка разговаривала со мной с дружеской и веселой фамильярностью, свойственной провинциалкам и изображенной Жан-Жаком в Софи из "Эмиля" или в "Элоизе".
Позади меня, в креслах, сидели г-н Петье с сыном..Рядом - Антонелли, прославившийся во время революции, кажется, в Арле, - пылкая душа, великолепный старик; он вслух комментировал Корнеля, Антонелли часто бывает здесь; завязать с ним разговор.
Еще раз: какая разница между этой старостью или старостью Дюгазона и старостью г-на Дарю, моего дедушки, Ларива, который в пятьдесят восемь лет начинает уже кряхтеть по любому поводу, старостью моего дяди, который в сорок шесть лет впадает в нравственное, а следовательно, и физическое бессилие! В Антонелли, которому, должно быть, лет шестьдесят, больше жизни, чем в Ганьоне и Лариве, вместе взятых.
Сегодня я провел с Луазон восемь часов.
25 плювиоза (14 февраля), четверг.
Гулял с Мантом на террасе Фельянтинцев с двух до четверти пятого. Луазон была там. Мант, так же, как и я, нашел, что ее лицо божественно; она была с двумя мужчинами. Нам показалось, что в ее улыбке, когда она взглянула на меня, был какой-то особый смысл. Ее движения полны чувства и изящества.
Вечером я пошел к Адели. Какая разница! Я увидел черствую натуру, без малейшей чувствительности, занятую лишь мелочными заботами тщеславия. Она рассказала мне о некоем молодом человеке, который должен получить двести пятьдесят тысяч ливров ренты: ему девятнадцать лет, зовут его Мими Мейер, он родом из Гамбурга и бывает у Гуасталла. Все это она сообщила с алчностью, сквозившей сквозь уверения в бескорыстии. Она все время притворяется. Я следил за ее лицом, отражавшимся в зеркале, перед которым она причесывалась, будучи ярко освещена лампой, в то время как мое лицо находилось в тени, я заметил на нем лишь черствость, отсутствие нежных страстей и даже жестокость. Насколько чувствительность (истинная) делает красоту более трогательной! Как все это было бы по-иному, если бы на ее месте была Луазон! Даже не любя ее, как интересно было бы наблюдать ее за туалетом! Вместо всего этого я увидел лишь одно: глупость у матери и недоброе сердце у дочери.
Вот как нельзя судить по наружности или по рассказам! Кто поверил бы, если бы описать положение Адели и Луазон, что поистине очаровательной женщиной является та, которая живет на улице Нев-де-Пти-Шан!
Для человека, которого Лафатер научил читать по лицам и который сам убедился в значении отдельных черт, очень любопытно присутствовать незаметно при туалете хорошенькой женщины. Для нее нет ничего важнее; в эту минуту она непритворна и доступна вашему суду. Я увидел только черствую душу, отсутствие нежных страстей, жестокость.
Что больше всего побуждало меня любить ее три года назад - это то, что, исходя из моих представлений о любви, я думал, что она меня любит. Сегодняшний вечер окончательно убил во мне эту любовь. Она не составила бы счастья Марсиаля, у которого доброе сердце. Я пробыл там от половины шестого до восьми часов.
Пятница, 26 плювиоза XIII г. (15 февраля 1805 г.)
Благодаря контрасту с двумя вчерашними женщинами, у которых я не нашел ни капли чувствительности, Луазон сделалась мне еще дороже; мне хотелось сказать ей самые нежные слова. Когда она пришла к Дюгазону, я все их забыл. На минутку я остался один с г-жой Мортье; она внушает мне такое отвращение, что я не мог выжать из себя ни одной фразы. В конце урока я решил замаскировать это, наговорив ей кучу вынужденных любезностей; среди них не было ни одной искренней. Часть этого потока слов и жестов пришлась и на долю малютки Фелип, которая хороша собой, весьма охотно принимает знаки внимания и, может быть, даже делает мне авансы. Выразительно прочитав роль Монимы, Луазон впала в глубокую задумчивость, которая вскоре перешла в грусть, между тем как все мы во все горло хохотали над Вагнером, репетировавшим с Дюгазоном роль "Иодле"*,- так он произносил это имя, а мы умирали со смеху. Возможно, что именно мое ухаживание за другими, моя веселость и сделали ее такой печальной. Это пришло мне в голову только сегодня вечером. Пусть даже она обманывает меня - кто может отнять у меня удовольствие чувствовать все то, что я чувствую в последние несколько дней? Но я не думаю, чтобы она обманывала меня. Мант, гак же, как и я, считает вероятным, что у нее возвышенная душа. Я ушел от нее в четыре часа, пробыв час с четвертью. Я не выказал ни малейшего остроумия; для этого я был слишком смущен; зато, когда я вышел от нее, мне пришло в голову необычайное множество нежных и остроумных вещей. Когда восприятие начнет преобладать во мне над ощущением, я смогу высказать их ей.
* (Жодле - комическая "маска", созданная Скарроном, нечто вроде "матамора" испанской комедии. Дюгазон читал одну из двух комедий Скаррона: "Жодле, или Господин-слуга" (1645), или "Жодле-дуэлянт" (1646) Вагнер с его немецкими фонетическими навыками не мог произнести звук "ж" и заменял его звуком "й".)
Когда мы пришли к ней, она прежде всего стала рассказывать мне о том, кто были люди, сопровождавшие ее накануне в Тюильри. Молодой человек, который вел ее под руку,- г-н Лаланн, поэт; второй спутник - некий г-н Леблан, родственник жены принца Жозефа и, кажется, человек, не лишенный благородства.
Принесли письмо, и мы прочли его вместе, после чего она рассказала, что сегодня утром г-жа Мортье подошла к ней и сказала про меня: "Это молодой человек из хорошей семьи; похоже на то, что у него есть состояние. Я уверена, что это так".- Я ответил: "Чтобы покончить с этим, я впервые скажу вам, что у меня есть должность в канцелярии военного министерства и что я получаю там полторы тысячи франков". "И что вам из милости присылают сто экю (от вашей семьи)",- с живостью добавила она.
Даю лишь краткое резюме. Мне кажется, это означает, что она меня любит. Мант считает даже возможным, что все рассказанное ею о г-же Мортье выдумано нарочно, чтобы повредить той в моих глазах. Мы разговаривали откровенно, так, как беседуют две возвышенные души, понимающие друг друга; время от времени она молча посматривала на меня взволнованным взглядом (выдававшим любовь - чуть-чуть). Она сказала мне с простодушной стыдливостью, ничуть не притворной, что ни за что не хочет обзаводиться возлюбленным до своего театрального дебюта, так как боится забеременеть. Она сказала это в других выражениях, столь же тонких, насколько эти грубы. Я же был занят все той же мыслью, которую повторял себе на тысячу ладов; мне было слишком приятно чувствовать, чтобы затруднять себя, придумывая какую-нибудь другую мысль. Затем с очаровательным видом она сказала, что не любит меня.
В заключение я поцеловал ее, и она разрешила мне явиться к ней завтра, между двумя и тремя, в то самое время, когда у нее будет малютка Фелип. Раз уж мне не хватает хладнокровия, чтобы проявить хоть немного остроумия, надо постараться по крайней мере быть самим собой, чтобы сохранить приятную естественность; в противном случае можно оказаться между двух стульев. У меня слишком мало хладнокровия, чтобы привести в исполнение мои хитроумные планы, и в то же время полное отсутствие обаяния и задушевности, неумение просто высказать первую попавшуюся мысль! Если я буду благоразумен, то попытаюсь все же немного поухаживать за хорошенькой Фелип, чтобы вызвать у Луазон легкую ревность. Странно, что я нахожу для нее красивые и даже нежные слова только тогда, когда я не с нею. Рассказать ей об этом, когда будет возможность.
Сегодня вечером читал Клерон. Она кажется мне натянутой, лишенной всякой естественности и изящества; быть может, она обладала всеми этими качествами в разговоре, но в своих мемуарах она становится манерной.
По-моему, роль Ариадны очень удалась Луазон.
Прочитать с ней "Манон Леско" до того, как она будет проходить эту роль. Сегодня я был одет изящно, по крайней мере в верхней части костюма, и у нее дома я пережил все оттенки самых ярких чувств.
Суббота, 27 плювиоза XIII г. (16 февраля 1805 г.).
Этот день должен был стать одним из приятнейших в моей жизни и действительно почти что стал им. Работал с Мантом над Бираном три часа с четвертью. Погода была великолепная. У Луазон провел четыре часа: Наедине мы были одну минуту: она репетировала второй и третий акт "Ариадны". Застал у нее г-на Лаланна; при мне пришел и ушел г-н Пайет, тесть Созе; затем пришел г-н Леблан, родственник жены Жозефа, и когда я уходил, он еще оставался там.
Пошел с Мантом на "Домашнего тирана". Здесь мы встретили Крозе. Пьеса, принятая публикой снисходительно, весьма посредственна; несколько неплохих деталей, чувствительность в духе Коллена; автор, которого вызывали слабо, - некий Дюваль, актер (пять актов в стихах). "Генрих VIII" Шенье был запретен утром того дня, когда я смотрел "Сида".
В пять часов, выходя от Луазон, я был очень грустен. Некоторые признаки указывают на то, что она продажна. Я был бы в восторге, если бы узнал, что она на содержании у Леблана. Единственная вещь, которой недостает моему счастью, пропала для меня из-за скупости моего отца. Это бал на улице Булуа, где в данную минуту танцует Адель. Если бы я приложил максимум усилий, то мог бы все же попасть туда, но моя душа, изнуренная бурными переживаниями, нуждается в отдыхе,
Флери раскрыл перед нами новую сторону своего дарования и был очень естествен при чтении тех шести или семи стихов, которые выражают скорбь отца, когда он считает себя покинутым женой и детьми,- в пятом акте пьесы.
Луазон прочитала прелестный отрывок Ариадны, обращенный к Тезею и кончающийся словами:
Ты видишь: кончено; я больше не сержусь.
Отрывок этот предназначался мне одному; затем она прижалась ко мне, и я поцеловал ее.
Вот один из тех дней, какие совершенно невозможны в провинции. Мант очень поддержал меня в часы моей недавней грусти; это редкий друг, тем более драгоценный для меня, что у него есть рассудительность, которой мне недостает.
Дюфриш назвал Крозе десять знаменитейших адвокатов Парижа. Десез, лучший из них, заработал за прошлый год двести шестнадцать тысяч франков; Шабру и Бонне - по сто тысяч, и самый скромный (Дюфриш) - пятьдесят тысяч.
30 плювиоза XIII г. (19 февраля 1805 г.).
В двенадцать часов, заставив Манта прорепетировать роль Дероне из "Каролины"*, я пошел к Дюгазону; мне заявили, что урока не будет. Тогда с легким трепетом я пошел к Мелани. Она приняла меня весело и с явным удовольствием; горничная завивала ее. У меня не хватило остроумия, чтобы острить, хотя это было бы очень кстати. Пока она занималась другими делами, я сам раздувал огонь в камине. Это занятие, говорящее о какой-то интимности, привело меня в восторг. Наконец горничная вышла. Мы пробыли вместе до двух часов. Я был очень счастлив. Как бы мне хотелось знать, что и она чувствовала себя такой же счастливой! У меня есть основания надеяться, что в течение некоторого времени это было именно так. Случай сделал то, что должна была бы сделать ловкость; она рассказала мне свою историю, которая доказала, что у нее такая же впечатлительная душа, как у меня. Она рассказала такие вещи, которые могли быть замечены только впечатлительной душой. Сейчас, когда я пишу это, мой мозг устал - за три часа я внимательно просмотрел четыреста страниц,- но я не хочу ложиться спать, не сделав этой записи. Ее зовут Мелани Гильбер; она родилась в Кане. У нее есть брат, сестра и мать. Отец ее умер. По-видимому, ее отец женился неудачно - единственная дочь и красавица, ее мать внесла в этот брак все недостатки своего характера, а характер этот был до того несносен, что, когда отец умирал и сестра Мелани предложила ему вызвать отсутствовавшую в то время мать, он ответил: "Нет, нет, дочурка, дай мне умереть спокойно". Как-то раз жена дала ему пощечину в присутствии детей; он обратил это в шутку.
* ("Каролина, или Картина" - комедия Ф. Роже, в одном действии (1800).)
Кажется, брат Мелани - большой шалопай и даже распутник, но в денежных делах человек весьма щепетильный; он отдал семье одного из своих друзей шесть тысяч франков в банковых билетах, которые этот друг, умирая, оставил ему. Ее мать к старости сделалась скрягой. Несколько ярких штрихов, передавать которые у меня нет времени, убеждают меня в том, что сестра Мелани обладает характером Матильды де Верной ("Дельфина"). Самые трогательные ее поступки лишены теплоты; к тому же она очень набожна. Набожность у женщин - это почти порок, и, пожалуй, следовало бы вывести его на сцене.
Рассказывая мне все это, она была божественна. Я сидел рядом с ней, глядя ей прямо в лицо, не упуская ни одного ее движения, держа ее руки в своих. Она ясно почувствовала, как сильно было воздействие ее нежной души на мою душу. Все же я могу ее упрекнуть за один небольшой недостаток; впрочем, существует ли хоть одна женщина, которая не была бы немного кокеткой? Она была искренне растрогана, и все-таки, говоря об отце, она дважды вытерла глаза, где не было ни одной слезы. Я поцеловал ее раз двадцать; она не особенно защищалась; кажется, она любит меня. Радость, сказавшаяся в улыбке, и восторг восприимчивой души, который она испытала, увидев меня, доказывают мне это. Однако в последний раз я немного наскучил ей. Я сужу по тому, что, когда я сказал ей: "Давайте выберем условный знак, который вы сделаете мне, если я вам наскучу",- она ответила довольным тоном: "Хорошо, давайте". Я отпустил несколько шуток по этому поводу. Выбранный нами условный знак - вопрос: "Будет ли бал в Опере?" Я убеждал ее сказать мне, любит ли она кого-нибудь; она ответила, что нет, потом сказала, что любит, глядя мне в глаза; заметив мое расстроенное лицо (что в значительной степени было притворством), она поспешила сказать, что нет; пленительное изящество, которое она вложила в эту сцену, доказывает, что она меня любит. Наконец мне удалось два раза ее рассмешить - она от души смеялась. Хладнокровие начинает ко мне возвращаться, но у меня все еще бывают минуты, когда говорит только язык, а сердце занято чувством, и тогда я все время пережевываю одну и ту же мысль.
В два часа я проводил ее к зубному врачу Тальма; сам я пойду к нему завтра. На обратном пути я увидел по ее лицу, что она намерена работать. Я поднялся только на минутку; мы условились, что я буду называть ее Мелани, а она меня - Анри. Я крепко ее поцеловал и расстался с ней в три часа. Кстати сказать, сегодняшний день у нее пропал, потому что на лестнице я встретил поднимавшуюся к ней г-жу Мортье. Между прочим, я, наверное, показался г-же Мортье странным, ибо питаю к ней такое отвращение, что, несмотря на все усилия, не смог занять ничем низким свой ум, поглощенный мыслями о Мелани, и отвечал ей невпопад; к счастью, потом я догадался заговорить о Мелани, и дело пошло лучше. Не знаю, почувствовала она разницу или нет.
Я заметил, как сильно в женщинах любопытство. Мелани хотела работать, но разговор случайно зашел о Марсиале, и она меня удержала, чтобы поговорить о нем. Как я выиграю, когда научусь возбуждать и удовлетворять эту страсть! Сегодня она снова повторила мне, что ни за что не хочет иметь любовника, что думает только о дебюте. Еще одна причина, чтобы работать с ней вместе. Она прочла шекспировского "Отелло" после "Отелло" Дюсиса*; ей больше понравился Дюсис; красоты Шекспира не подействовали на нее из-за "берберийских коней" и "животного о двух спинах". Научить ее наслаждаться великим Шекспиром! Предчувствие смерти, появившееся у Гедельмоны**, восхитило ее; говоря об "Отелло" Шекспира, она сделала два - три замечания, исполненных чувства, и эти замечания (какова бы ни была их ценность) могли исходить только от человека с душой художника. Завтра я увижу ее у Дюгазона, в четверг - на "Мещанине во дворянстве", а скорее - и у нее и в театре, в пятницу - у Дюгазона. Теперь, когда у нас есть условный знак "Будет ли бал в Опере?", я буду ходить к ней гораздо чаще. Усвоить привычку говорить комплименты. Подшучивая над тем, что она случайно ударила меня в глаз, она сказала с ласковой усмешкой: "Эти большие глаза!" Мне бы следовало ответить ей: "О, разве можно сравнить их с вашими?", и т, д., и т. д. Этот очаровательный день, насыщенный счастьем, какого мне никогда не иметь в провинции (искусство и утонченная любовь умной женщины), не произвел на меня того впечатления, какое произвел бы еще несколько дней назад: я начинаю привыкать к счастью.
* ("Отелло" Дюсиса представляет собою переработку трагедии Шекспира для французской сцены с соблюдением правил классической поэтики.)
** (Гедельмона в "Отелло" Дюсиса соответствует Дездемоне Шекспира.)
Вантоз XIII г.
Дни, когда я начинаю эту тетрадь, пожалуй, самые счастливые в моей жизни. Уроки Дюгазона, моя любовь к Мелани и, может быть, ее любовь ко мне составляют мое счастье; а между тем эти дни должны были быть для меня самыми несчастными: отец не согласился выдать мне вперед ту сумму, о которой я просил его, начиная с вандемьера, и которая должна была пойти на одежду. Надеюсь через несколько дней получить тысячу франков; из них триста - аванс от отца, а остальное - заимообразно.
У меня довольно уютная квартирка на улице Менар, № 9. Такова материальная сторона моей жизни. Одет я очень хорошо,
1 вантоза XIII г. (20 февраля 1805 г.).
Этот день был одним из счастливейших в моей жизни. Я провел три или четыре часа в самой задушевной близости с Мелани. Она рассказала мне о своих отношениях с Оше, редактором "Publiciste", и с Сен-Виктором, стихоплетом, написавшим "Надежду". Первый обладает тонкостью обхождения без всякой теплоты, и его газета не отличается особой глубиной; в обществе он дурак. Как восхитительна манера, с которой она произнесла это слово, делая вид, будто я вынудил ее на это своими похвалами! Вот изящество, совершенно противоположное стилю г-жи де Сталь. Записываю это утром 4-го; в тот вечер я мало думал о г-же де Сталь. Переживания этого дня совершенно изнурили меня, я мог бы написать восемь страниц, но не написал ничего.
Смешная подлость маленького Сен-Виктора; в нем заметно благое намерение быть злым, но нет ни ума, ни характера, чтобы стать таковым с пользой для себя. Он готов на любую подлость ради удовлетворения своего тщеславия. Мелани рассказала мне о его выходках - они неповторимы. Описать их, если не забуду: Оше и он в стиле "О" президента Эно* ("Мемуары" Мармонтеля); но у Сен-Виктора этот стиль сочетается с поведением человека, мечтающего иметь успех у женщин.
* ("О" президента Эно.- Стендаль имеет в виду анекдот, рассказанный Мармонтелем в его "Мемуарах". Цитируя в своем сочинений "Французская поэтика" стих президента Эно:
"Que d'attraitsl б Dieux! qu'elle etait belle",- Мармонтель пропустил восклицание "О". Эно был этим весьма раздражен и не утаил своей досады от г-жи Жофрен, которая передала об этом Мармонтелю. Эта черта авторского тщеславия весьма позабавила последнего.)
Все доказывало мне в этот день, что она любит меня. Ее нежное и полное доверие, ее удивление, когда приход человека, которого она же сама пригласила к обеду, напомнил ей о том, что уже пять часов.
Сегодня отправлюсь к ней в двенадцать часов дня. Мы не сможем пойти в Люксембург. Музей открыт только по воскресеньям и понедельникам.
Марье рассказал мне сегодня утром о том, как его отец насильственно увез Барраля. Марье сказал, что он был смущен и "глуп, как корзинка". Это его выражение. По-моему, причина - в отсутствии характера. На его месте я бы убежал и явился бы добровольно, если бы счел это нужным.
"Думаю, что, если бы не любовь к славе,- сказал я вчера Манту,- я стал бы актером и пошел бы по пути Моле". Право, это чудесная жизнь.
2 вантоза XIII г. (21 февраля 1805 г.)
Начиная с этой ночи (с 1 на 2 вантоза) у меня в голове, вернее, в сердце - послание в стихах к Мелани. В нем те чувства, какие я испытываю сейчас; несомненно, оно доставило бы ей удовольствие, но я еще не забыл, чего стоило мне этим летом написать четыре стиха,- это заняло восемь часов чудовищного труда. Здесь понадобилось бы сто стихов, это невыполнимо. Никогда еще я не представлял себе чувств и мыслей какого-либо из своих произведений с такой ясностью.
Вокруг - один обман. На что же мне решиться?
Я убеждаюсь вновь, что истинна для нас одна любовь.
(Стих из послания, а не подлинное чувство.)
Кажется, я никогда не любил ее так сильно, как вчера, и никогда еще она не казалась мне такой красивой, как сегодня, в половине третьего, когда она дрожала, собираясь читать первую сцену "Федры".
11 часов. Только что вернулся от нее. Провел с нею вечер (бьет одиннадцать часов) и желал бы погрузиться в небытие до двенадцати часов завтрашнего дня, когда снова должен ее увидеть.
Моя душа слишком обессилена, чтобы я мог рассказать все то, что я перечувствовал сегодня. Вчера был счастливейший день моей жизни: все доказывает, что она любит меня. Сегодня явился к ней в два часа, она приняла меня очень хорошо, была очень нарядна, прелестна и сильно взволнована. По дороге туда я не помнил себя от счастья: на улице Нев-де-Пти-Шан мне пришлось напрячь все свое внимание, чтобы не попасть под колеса проезжавших экипажей. Застал у нее некоего Мартена де..., похожего на бюст канцлера де Лопиталя; кажется, это благородный человек посредственного ума. Она ждала какого-то Шатонефа, которому собиралась читать стихи. Через минуту он явился в сопровождении представившего его г-на Леблана, того самого, которому я так надоел как-то раз, просидев у Мелани до пяти часов,- того самого Леблана, который, видимо, часто здесь обедает и который, видимо, содержит хозяйку дома. Все, что я здесь вижу, связывается в моем представлении с его фразой: "У мадмуазель какие-то страхи". Двусмысленное положение этого человека начинает мне сильно не нравиться, так же, вероятно, как и я не нравлюсь ему, и я весьма охотно вышвырнул бы его в окно. Он не глуп, у него проницательные черные глаза, одышка, о чем я узнал вечером от Мелани, и он любит повторять свои остроты; он уже дважды сказал при мне: "Да, подражать можно, но при условии, что вы убиваете того, кому подражаете". Я где-то это читал.
Господин Шатонеф - человек тридцати шести лег с вялым умом и красивой внешностью, выражающей лишь полное отсутствие характера,- очень плохая и очень холодная копия Ларива; к тому же в его словах чувствуется та же натура, но более низменная. Глупо самодоволен: "Разумеется, у Лекена были в этой роли такие моменты, каких у меня нет, но я вкладываю в нее нечто другое - краски, детали, которых у него никогда не было". Это еще самое невинное из того, что он говорил. Вообще же он с предельной развязностью расхваливал свое исполнение монолога Цинны и сна Гофолии, которые он прочитал нам, так же как и Эдипа, показав себя в них незрелым, плоским, вульгарным - словом, ниже всякой критики,
Чтобы описать все, что Мелани заставила меня перечувствовать, понадобились бы пятьсот страниц и свежая голова, полное отсутствие сонливости и всяческой усталости. По этим же причинам я не в состоянии изложить общие мысли о человеческом уме, которые явились у меня сегодня, когда я наблюдал эти характеры.
Мелани прочитала первую сцену из "Федры" с изумительным подъемом; видно, что она чувствует гораздо больше, чем передает. Единственным ее недостатком была некоторая торопливость и четыре - пять небрежно прочитанных полустиший.
Она прочитала также отрывок из роли Аменаиды*. Но что не поддается описанию, так это ее божественная душа, которую она раскрывала перед нами, сама того не подозревая. Решительно, это характер Дездемоны. Вначале крайнее смущение, потом спокойствие, но и тогда ни одного комплимента Шатонефу: в ней отсутствует фальшь, которую придает свет. Словом, она божественна. Я ушел оттуда в половине пятого, оставив там г-на Леблана и г-жу Мортье.
* (Аменаида - героиня трагедии Вольтера "Танкред".)
Через сутолоку очереди я пробрался в первые ряды кресел; давали "Мещанина во дворянстве". (То же впечатление, что и при чтении: детали верные, но очень грубые, характеры не развиты, эскиз большого мастера. Дюгазон хорош.) Вагнер занял для меня место. Она пришла с этой маленькой Мортье, понемногу обнажающей свой истинный характер - характер дрянной шлюхи. Во время всего спектакля Мелани стыдлива, как Дездемона,-
Good, as she the world had never seen,*
* (Добра, как будто в мир наш только что пришла (англ.).)
поистине неопытна, целомудренна, как м-ль Марс; я - рядом с ней, застывший от восхищения, блестящий, но так и не высказавший ей всего того, что хотел.
Возможно, что ее поведение сильно ее компрометирует и что при таком характере у нее было очень мало любовников; она призналась мне в одном. Думаю, что Лафон обладал ею. Устав смотреть на балеты и выходы, мы ушли в четверть двенадцатого. Я проводил ее до дверей, но не зашел из деликатности. Мне очень хотелось ее поцеловать. Подчеркнуть ей завтра усилие, которое я над собой сделал. Сегодня вечером на ней была черная шляпа, к платью приколота роза, губы накрашены - вид вызывающей, яркой красавицы на празднике красоты. Но лицо ее было лицом Дездемоны: тихая грусть и невинность. В этом был какой-то диссонанс.
Вот день, когда я видел ее только на людях. Чувствую, что с каждым днем люблю ее все сильнее. Описать завтра сегодняшний день. Сегодня я был с ней от двух до без четверти пять и от семи до одиннадцати, всего шесть часов и три четверти; вчера - от трех до пяти. Кто поверит, что я еще не стал ее любовником? А между тем ничего подобного. Я читаю в этой правдивой душе; она так правдива, что я всегда буду верить ей, что бы ни говорили о ней в свете. Минутами, когда я думаю, что она могла отдаваться без любви, меня охватывает ярость.
Если бы я увидел Викторину, эта другая любовь, быть может, вернулась бы снова, но я не вижу ее. Мелани заполняет всю мою жизнь, и я забываю о ней. Адель навсегда изгнана из моего сердца. Я различаю:
1) Женщин холодных, бездушных, черствых, образованных: г-жа Дарю, г-жа Лебрен.
2) Женщин холодных, бездушных, черствых, необразованных: г-жа де Бор.
3) То же, с низменной душой: г-жа Мортье.
4) То же, жадно ищущих радостей тщеславия, что сближает их с г-жой де Мертейль: Адель Ребюфе. В этом же роде и девочка, которую я видел вчера во Французском театре. Мысли обо всем этом губят меня, но я чувствую, что
Omnia vincit amor, et nos cedamus amori*
* (Все побеждает любовь, так уступим и мы любви (лат.).)
Ложусь с желанием уснуть и ничего не чувствовать до той минуты, когда снова увижусь с ней. Занес ей "Цимбелина" и "Манон Леско",
Пятница, 3 вантоза (22 февраля)
Сейчас, в полночь, когда я пишу это, мне кажется, что события сегодняшнего утра произошли много дней тому назад. Проснувшись утром в семь часов, я ощутил такой избыток энергии, какого хватило бы, чтобы вдохнуть жизнь в несколько бесчувственных тел. В двенадцать пошел к Дюгазону. Там застал Вагнера и Фелип. Через минуту пришла Мелани Дюгазон заставил меня два раза прочитать монолог Цинны, и я прочитал его четырьмя различными голосами: неестественным голосом Тальма, моим собственным, но напыщенным голосом, голосом дурачка и еще чьим-то. Настоящего, моего голоса так и не было. Мне мешает то, что я не пресыщен. Виной тому, что я плохо читаю, моя чрезмерная восприимчивость.
Мелани кончила роль Монимы и начала роль Ариадны. В два часа мы вышли вместе; она была печальна, так как думала, что плохо прочла Ариадну; между тем она исполнила ее с глубоким чувством. От улицы Монмартр мы пошли бульварами; потом пришли в Тюильри; погода была чудеснейшая. Оба мы умирали от голода, но она не согласилась зайти к Легаку, и мы отправились к ней. В комнате топился камин, горничная разогрела нам немного картофеля, мы поставили между нами стул и поели с наслаждением - во-первых, потому, что были голодны, а во-вторых, потому, что, как мне кажется, в эту минуту она любила меня так же сильно, как я люблю ее. Мы хотели было пойти обратно в Тюильри, но в четверть пятого явился неизменный Леблан. Возможно, что он столуется у нее. Я пробыл там до пяти часов; она божественно улыбалась, видя мой сдержанный гнев и улыбку (слегка притворную), которой я его прикрывал.

Жан Расин
Мне недоставало лишь уверенности в том, что я имею на нее какие-то права, чтобы разразиться вспышкой самого необузданного гнева. Этот бессильный гнев, эта безрассудная ревность довели меня к семи часам до состояния холодного бешенства. Какое-нибудь одно слово, малейший предлог, чтобы я мог вспылить,- и уж не знаю, право, что удержало бы меня: пожалуй, одна только смерть (моя). В этом состоянии были и свои радости; я думал о том, что в глубине души она любит меня,- ведь она сказала мне утром, что будет во Французском театре.
Я пошел туда, но ее не было. На балконе увидел Фелип и Вагнера; подошел к ним во втором акте. Эта малютка Фелип прелестна, но просто удивительно, до чего она необразованна.
Давали "Ифигению". Решительно, после плохих драм это самая скучная пьеса, какую можно себе представить. У персонажей нет ничего, кроме тщеславия - чувства, с которым считаешься, но которое не вызывает симпатий. Лафон - холодный, очень изящный и безголосый - ну, право, до того холодный, что не может прилично играть в трагедии.
По мнению Фелип, я веду блестящий образ жизни. Вагнер - это доброе и тяжеловесное животное, очень немецкое, в полном смысле этого слова; ему очень далеко до тонкости.
Мы только что проводили Фелип до дому. Завтра в одиннадцать часов зайду за Мелани, и мы отправимся в Люксембург. В те часы, которые я провожу с ней, мне всегда меньше всего удается (по-моему) выразить ей мои чувства; сегодня я провел с ней пять часов. Мне кажется, на характере ее лежит постоянный налет грусти. Быть может, эта душа чересчур восприимчива для человека ее профессии.
Сегодня утром она рассказала мне о тысяче подлостей, подмеченных ею у г-жи Мортье,- надо перестать бывать у этой женщины.
Если бы Луазон пришла сегодня вечером во Французский театр, мои дела сильно подвинулись бы вперед; я был полон смелости и необходимого самообладания. За сегодняшний день я испытал множество ярких и самых разнообразных чувств. После "Ифигении" смотрел "Воспитанницу"; то же впечатление, что и раньше: прелестная пьеса.
Никогда еще я не был так расположен прочувствовать "Ифигению", я только к тому и стремился, чтобы меня растрогали,- и все же пьеса страшно мне не понравилась.
Кажется, не так уж невозможно стать любовником Фелип. Это было бы забавно.
В гостиной Дюгазона господствует мнение, которое все мне высказывают и которое искренне: что у меня слишком много того, чего не хватает другим. "У вас слишком много души",- сказали мне сегодня вечером Фелип и Вагнер, а утром, когда я играл, также и Луазон.
Нет ли у этой прелестной девушки какого-нибудь ужасного тайного горя, которое вызывает эту грусть? Многое заставляет меня думать так: об этом говорят многие ее фразы и та твердая решимость, с какой о>на рвется на сцену.
А может быть, эта грусть - игра, чтобы прикрыть молчание, к которому ее вынуждает страх открыть себя? Впрочем, чего ради она станет прилагать столько усилий, чтобы быть любимой мною? Ради денег? Но она взяла такой тон, который очень далек от этого и даже делает это невозможным.
Адвокату "Против" придется немало потрудиться, чтобы помешать мне обожать возвышенную и благородную душу, которую я нашел совершенно случайно, которую обожаю и которая любит меня, если верить Манту. Завтра не отрывать от нее глаз. Я начал ухаживать за ней только с 15 плювиоза, если не позже. В этот день я впервые заговорил с ней о любви в шутливом тоне; я слишком часто говорю с ней так; эта душа чересчур чувствительна и недостаточно опытна, чтобы комическое могло так уж нравиться ей.
Как естественна она в роли Ариадны!
4 вантоза (23 февраля).
В течение некоторого времени Бонапарт ежедневно ездит на охоту. Вот уже четыре дня, как он в Мальме-зоне, и у него глубокий сплин; говорят, из-за того, что он велел казнить Люсьена. Луи лежит больной в постели, и Жозеф согласился занять трон Ломбардского королевства.
Вчера встретил в Пале-Рояле Ньелли*, который рассказал, что его отец (контр-адмирал, морской префект Дюнкеркского морского округа) посажен в Венсенский замок**. Он был председателем избирательного округа Финистер, который выдвинул его кандидатом в Сенат, так же как и генерала Моро, незадолго до ареста последнего. Он приехал в Париж доложить первому консулу об этом избрании, но не успел: Моро был арестован. Ньелли посоветовал членам депутации попросту объявить об этом избрании. Их приняли плохо. Он пробыл в Париже четыре месяца, добиваясь места государственного советника; ему дали место в Венсенском замке вместе с женой и старшим сыном, причем единственной известной ему причиной его ареста могло послужить лишь то, что он был председателем округа, избравшего Моро. Младшему сыну и дочери позволяют посещать его. Старшему сыну разрешается раз в неделю уезжать в Париж, но не более чем на сутки.
* (Анекдот, рассказываемый Стендалем, очень вероятен. Ниелли-сын родился в 1784 году и был почти одного возраста со Стендалем.)
** (Венсен - крепость в 7 километрах от Парижа, служившая местом заключения для государственных преступников.)
По его словам, тюрьма переполнена, и ужас, ею вызываемый, так велик, что те, которые выходят из нее, не смеют даже говорить о том, что они там побывали.
Возвращаюсь от этих серьезных вещей к себе: итак, в двенадцать я пошел к Луазон. Горничная сказала, что ее нет дома. В половине второго я пришел опять - тот же ответ; возможно, что во второй раз она нарочно велела мне отказать. Это в том случае, если Леблан содержит ее. Если так, хватит ли у нее смелости сказать мне об этом? Может быть, стыд признания окажется сильнее любви? Все это привело меня в сильное беспокойство. Мант считает, что я не должен идти к ней раньше понедельника.
Я два часа гулял с ним в Тюильри; он рассказал мне, что в обществе всех отпугивает мой склад ума. Надо будет развить вместе с ним то, что он мне сказал, и записать в этом дневнике. Это еще больше привязывает меня к моей Луазон. Вот артистическая натура; мне понадобится немало времени, чтобы достаточно ясно изложить ей свои взгляды и добиться того, чтобы она сочла меня хотя бы равным ей в искусстве декламации. Тогда она полюбит меня, и я буду счастлив с этой душой, которая так же впечатлительна, как моя. А между тем глупцы, принимая мои остроты за хладнокровные утверждения и будучи не в состоянии постичь хоть одно движение моей души, выведут заключение, что я опасный и, следовательно, злой человек. Если я проживу достаточно долго, мое поведение докажет, что не было человека более доступного жалости, чем я: самая ничтожная мелочь трогает меня, вызывает слезы на глазах, ощущение то и дело одерживает верх над восприятием и мешает осуществить мельчайшее мое намерение: словом, оно докажет, что не было человека с лучшими задатками, чем у меня.
Мант, знающий мой характер, засвидетельствует это. Вообще, можно ли верить установившимся репутациям? Он сказал, что ум Рея* диаметрально противоположен моему.
* (Жозеф Рей - гренобльский друг Стендаля, философ и идеолог, впервые познакомивший его с философией Дестюта де Траси.)
Все это удваивает мою любовь к моей божественной Мелани.
Воскресенье, 5 вантоза XIII г. (24 февраля 1805 г.)
Сегодня утром Мант, Крозе, Пиданса и я ходили в Сен-Сюльпис, где слушали речь против атеистов. Там к нам присоединился Рей, и мы пошли в Люксембург.
Только что смотрели с Крозе "Тартюфа" и "Безумства любви". Я прочувствовал "Тартюфа", как никогда. М-ль Марс была божественна в обеих пьесах, но особенно в начале ссоры в "Тартюфе" и в первом выходе в "Безумствах".
После второй пьесы мы вызывали ее.
Луазон сидела в первых рядах. Я все время смотрел на нее; она выглядела там очень одинокой и ушла после второго акта "Безумств", кажется, не заметив меня, и без Вагнера, который до этого разговаривал с ней и который меня видел.
Понедельник, 6 вантоза XIII г. (25 февраля 1805 г.)
Максимум остроумия за всю мою жизнь. В половине четвертого ушел от Луазон; первый раз в жизни я был блестящ и добился этого с помощью рассудка, а не с помощью страсти. Я все время следил за собой, но без смущения, без замешательства. Кажется, никогда еще я не был так блестящ, никогда не играл свою роль так хорошо. На мне был жилет, короткие шелковые штаны и черные чулки, бронзово-коричневый фрак, отлично повязанный галстук и великолепное жабо. Кажется, никогда еще моя некрасивость не была до такой степени вытеснена выразительностью моего лица. В двенадцать часов дня пришел к Дюгазону и застал там Фелип. Она была одна и потому сама открыла мне дверь. Увидев меня, она пришла в восторг и сделала все, чтобы дать мне возможность объясниться ей в любви. Я принес ей Расина.
После четырехминутного разговора наедине раздался звонок; никто не открывал, и я пошел открывать сам. Это была Луазон с г-жой Мортье. Г-жа Мортье, подойдя к камину, сказала мне: "Все как нельзя лучше!" и еще что-то такое - комплимент по поводу моего вида в черном. Луазон смотрела на меня и внутренне соглашалась с комплиментом. Я ответил на него с благородной веселостью и с самой непринужденной, с самой изысканной вежливостью. Таково было мое поведение в течение всего урока, особенно в отношении Луазон; но эта вежливость была очень далека от нежной и безудержной любви последних дней. Репетируя с ней, я смотрел на нее очень мало. Вот единственное, что могло показаться неестественным (ей одной; остальные заметили лишь маленькую передышку в моей обычной пламенной манере), но это было вполне в духе моей роли.
Я сообщил ей, что был вчера во Французском театре, там же, где была она; кажется, это удивило ее. С этой минуты в ней проснулась страсть, она начала следить за тем, что делает.
Играя свою роль (второй акт "Ариадны"), она часто брала мою руку со всей нежностью, подобающей роли; мне кажется, что она даже пожала ее раза три не четыре. Я был изысканно вежлив, но не ответил на пожатие.
Во время репетиции я был очаровательно любезен с малюткой Фелип. Я раскрыл перед ней всю красоту, все изящество роли, я сделал все, на что был способен. Я немного потанцевал с ней. Ей надо было уходить, но она сказала, что вернется, и действительно вернулась, чего, кажется, никогда еще не делала.
Луазон, по-моему, была удивлена, внимательна и безмолвна,- таков был характер ее поведения.
Она сделала малютке Фелип комплимент по поводу ее шляпки цвета морской волны, по поводу того, что она может носить этот цвет, но тут же добавила, что шляпа сделана плохо. Я подошел и сказал Фелип что-то приятное; она сняла шляпу и хотела надеть ее на Луазон; та запротестовала, потом принялась надевать шляпу на меня: я согласился с условием, чтобы потом ее надела она. Мне кажется, надевая на меня шляпку, она испытывала приятное чувство.
Я снял шляпу и начал уговаривать Луазон надеть ее, но она сказала мне вполголоса: "Вы, значит, хотите, чтобы я стала вам противна?" Я считаю эту фразу решающей. Кажется, я ответил: "Мне это необходимо".
Затем я провел второй акт из "Мизантропа" и сказал Фелип со всем изяществом и сдержанной страстью (светской), какие были возможны: "Божественная Фелип, давайте репетировать".
Чарующая прелесть моей декламации поразила Луазон; она сидела изумленная, неподвижная, затаив дыхание. Когда я прочел строк двадцать, Дюгазон предложил г-же Мортье взять роль Селимены. Фелип села рядом с Луазон, и Вагнер, который был сегодня максимальным олицетворением немецкого духа, сел между ними. Кажется, Луазон что-то сказала им обо мне.
Дюгазон похвалил меня за реплику из четырех строк; он сказал, что я взял верный тон и т. д. Продолжая играть, я увидел, что Луазон ищет бумагу для записки. Она ее написала; я подошел к ней без всякой нарочитости и спросил, собирается ли она уходить; она ответила, что умирает с голоду, и села.
Читая свою роль, Дюгазон пропел нам, а в особенности ей, с величайшей веселостью и изяществом прелестную песенку Монкрифа:
"Прекрасная пастушка! Вы покоряете то одного пастуха, то другого. Но я не сетую; день, проведенный с вами, так сладостен!".
Это означало: "После Вагнера вы взяли Бейля"*.
* (Кто лучше Дюгазона может судить о происходящем и кто может быть проницательнее его в этом деле? И все же, мне кажется, он в равной степени ошибается относительно нас обоих. Вот и верьте после этого светским сплетням.)
Через некоторое время меня прервали, и она встала, собираясь уходить. Дюгазон сказал г-же Мортье, чтобы она начинала. Я вышел через две секунды после Луазон, передав за это время Дюгазону ее записку.
На лестнице, когда мы остались одни, она была безмолвна, растерянна, в нерешительности, что ей делать дальше; сказала, что не дает мне руки, потому что ей надо придерживать платье, и тут же дала мне ее*.
* (Тонкость различных отраслей искусства не одинакова. То, что хорошо для декламации, чересчур хитроумно для поэзии. Однако поэт должен понимать это и глубоко чувствовать.)
В руках у нее была книга и носовой платок; она не решилась передать мне их. Я спросил, не мешают ли они ей; она ответила, что мешают, и отдала их мне.
По дороге от Дюгазона к ней мы продолжали в том же духе: она говорила о своих ролях, но безучастно. (Как непохож был ее тон на тот, какой был у нее в день нашего импровизированного завтрака! В тот день роль значила для нее гораздо больше, чем я.)
Мы дошли до ее дома; я спросил, можно ли мне зайти; она, видимо, была удивлена вопросом и ответила утвердительно, с видом, говорившим: "Ну, конечно же, разумеется". Случайно я держал ее книгу так же, как в тот день, когда, стоя на этом самом месте, отдал ее и ушел, не поднявшись наверх. Должно быть, это взволновало ее. Она сказала мне несколько слов, которых я не понял; она была смущена; она сказала: "Дело в том, что вы держали мою книгу так же, как в тот день, когда отдали мне ее и ушли". Что-то в этом роде. Когда мы пришли к ней, продолжался тот же тон - смущения с ее стороны и немножко с моей: как раз это мне и требовалось, чтобы хорошенько войти в роль.
Дорогой она сказала мне, что завтра пойдет во Французский театр (ради "Федры").
Когда мы вошли к ней, она начала расхваливать малютку Фелип. Видимо, такова ее тактика в отношении всех тех, кого она боится; это искусно. Я отозвался на эту похвалу очень сдержанно и очень вежливо. Оказывается, малютка Фелип сказала ей, что третьего дня, провожая ее, я наговорил ей, проходя по Пале-Роялю, уйму забавных вещей и она хохотала до упаду всю дорогу. Этими словами Фелип хотела дать понять, что я был с ней как нельзя более мил*. Я ответил, что, по-моему, рассмешить Фелип не очень трудно. После нескольких слов, которые Луазон в замешательстве произнесла, расхаживая по комнате, пока я разводил огонь в камине, она сказала, что мои гримасы в тот день, когда был г-н Леблан, очень насмешили ее. Я возразил ей весьма непринужденно, пылко нападая на слово "гримасы". Остановившись перед зеркалом, она ответила, что, даже будь я ее любовником, до чего мне очень далеко, я не мог бы помешать ей принимать у себя людей. Объяснение, которого ждали мы оба, наконец началось.
* (В действительности я рассмешил ее два или три раза, а все остальное время занимал ее разговором о ней самой. Я мягко и тонко подшучивал над ней, намекая на Лафона, который был ее любовником прежде, а может быть, является ее любовником и сейчас и которого, как мне кажется, она немного любит. Итак, занимайте людей разговорами о них самих.)
Вместо того чтобы встать и ринуться в бой (как я делаю иногда, повинуясь дурной привычке), я продолжал разводить огонь. Я отпустил какую-то шутку, но она не поняла ее. Продолжая возиться у камина, я между тем внимательно прислушивался к тому, что ей говорила горничная; та сказала вполголоса: "В четверть третьего приходил г-н Леблан; он думал, что уже три". Я принял это к сведению. Таково было положение вещей, когда пришел г-н Шатонеф со вторичным визитом. Мы собирались объясниться; примирение явно не удалось. В три часа должен был прийти г-н Леблан. Я был рад приходу Шатонефа, и это удивило меня самого; мне казалось, что он должен огорчить меня, а я обрадовался. Причина этой радости становится ясной мне только теперь. Чтобы познать ум и сердце человека, любопытно глубже вскрыть эти два ощущения.
Я встретил г-на Шатонефа очень вежливо; он рассказал нам свою жизнь. Его манера говорить, несмотря на прекраснейшую тему, была медлительна и суха. У этого человека медлительный ум.
Быстро овладев разговором, я заставлял его бросать начатую тему и переходить к другой с легкостью, удивлявшей меня самого. Он попросил "Сида". М-ль Луазон начала искать книгу и наконец дала ему; не успел он сказать и двух слов об этой роли и о Лафоне, как я заставил его заговорить о чем-то другом, хотя книга была у него в руках.
Не знаю, заметила ли Луазон это доказательство моего ума, но моему блестящему дню только его и недоставало, и я был очень доволен.
Заставив моего собеседника проскакать галопом по всевозможным темам, я навел его на мысль об Альфьери. Оказалось, что он был хорошо с ним знаком и прожил в его доме во Флоренции целый месяц. Когда я узнал об этом, во мне снова проснулось преклонение перед этим великим человеком. Шатонеф рассказал, что знает итальянский язык, что Альфьери любил читать ему свои пьесы, и т. д., и т. д.,- я упивался этими деталями, я был безмолвен,- что Альфьери написал для него сонет на роль Оросмана, которую он играл в его присутствии, что этот сонет обошел всю Италию, и т. д.
Наконец небрежно, просто для виду, он спросил меня, видимо, уверенный в отрицательном ответе:
"Вы знаете итальянский?"
(С отличным произношением) "Si, lo capisco molto, sono stato tre anni in Italia"* и т. д.
* (Да, я хорошо им владею, я прожил три года в Италии (итал.).)
Его лицо выразило величайшее удивление и удовольствие. Я был не только прекрасен в его глазах - я становился великолепен (говоря профессиональным языком поэзии).
Луазон была само внимание.
Затем он прочел мне сонет великого Альфьери, в котором шестой, седьмой стих и еще некоторые другие просто прекрасны. Великие, глубокие и высокие истины выражены в нем как нельзя лучше богатым и полным чувства языком. Я дал волю своему восторгу, своему восхищению. Луазон сказала ему: "Сударь, если вы не перестанете читать, он сойдет с ума". Тогда я немного сдержал свои чувства. Он кончил читать и сообщил мне кое-какие сведения об Альфьери; по его словам, тот женат на княгине Альбани*.
* (Графиня (а не княгиня, как пишет Стендаль) АльОани (1753-1824) в течение многих лет была в близких отношениях с Альфьери, однако в браке с ним не состояла.)
Раздался звонок. С момента прихода г-на Шатонефа и вплоть до моего ухода мои взгляды выражали Луазон самую пылкую нежность; один раз она опустила глаза от удовольствия. Раздался звонок; я три-четыре раза в замешательстве переменил позу, как это бывает, когда ожидаешь появления человека, которого ненавидишь, но хочешь встретить с приветливым видом; все это пока Леблан отворял три двери, через которые ему надо было пройти. Забыл сказать, что до прихода г-на Шатонефа я с ненавистью заговорил с ней о Леблане, и когда она уже хотела спросить меня, по какому праву я его ненавижу, я прочел в ее глазах этот вопрос и ответил: "Мне не нравятся его глаза; мне не нравится этот человек. Надеюсь, вы не можете этому помешать". Таков был смысл. Ее смущение возрастало; она сказала, оправляя на себе перед зеркалом платье: "Мне кажется, вы сошли с ума". Тут вошел Шатонеф. Когда пришел Леблан, мое решение было принято. Шатонеф уже любил меня за те высокие переживания, которые он во мне вызвал. Я сказал себе: "Надо разыграть восхищение, притвориться, будто я совершенно поглощен разговором с Шатонефом, сделать так, чтобы говорил он, а самому внимательно следить за Луазон и Лебланом и прислушиваться к их разговору". Я выполнил это с таким искусством, что были минуты, когда я совершенно не понимал того, о чем говорил Шатонеф, который, однако, обращался ко мне одному и притом с живейшим интересом. Время от времени я улыбался или хмурил брови, стараясь, чтобы это было по возможности кстати.
Вот что делали два лица, за которыми я наблюдал,- у Луазон сделался вид женщины, принимающей мужчину, который ее содержит: притворная нежность, притворная приветливость. Она села в кресло, а свое место уступила Леблану. Последний, видя, что мы с Шатонефом поглощены друг другом, заговорил с ней шепотом (шепотом парижского общества, при котором не шушукаются, как это бывает в провинции). Он пожимал ей колени, он начал говорить с ней, как мужчина, имеющий на нее права, например, сказал такую фразу: "После карнавала".
"Что после карнавала?"
"Увидите".
Какой-нибудь приятный сюрприз, который он хочет сделать ей после карнавала? Она поблагодарила его улыбкой, но не взглядом, притворно.
Во время этого разговора линия ее верхней губы совершенно изменилась: она потеряла свою ангельскую нежность, ее лицо приняло оживленное выражение распутницы, но распутницы нежной, такой, какою, вероятно, была бы м-ль Марс при аналогичных обстоятельствах.
(Темнота и голод гонят меня из дому, продолжу после обеда. На то, что уже написано, ушло два с половиной часа.)
Весь мой разговор с Шатонефом был направлен на то, чтобы побудить его организовать труппу, где бы играла Луазон. В этом месте разговор сделался общим. Леблан сказал, что у него есть в виду один зал, но что пока это еще химера. Через несколько минут Шатонеф сказал: "У меня тоже есть в виду один зал.
...Однако наши цели* Пускай скрываются во мраке подземелий".
* ("Однако наши цели..." - Стендаль несколько искажает стихи из трагедии Вольтера "Магомет" (действие 4-е, явление 1-е).)
Я сказал ему, что он просто страшен со своими подземельями и что надо поскорее бежать от него. Он не понял шутки и ответил, что это две строки из "Магомета"; продолжая шутку, я схватил шляпу и бросился к выходу; открывая первую дверь, я стукнулся головой. Луазон сказала - без особой нежности, но с большим волнением и любопытством: "Вы ушибетесь до смерти",- а потом, когда я закрыл за собой дверь, обратилась к остальным: "Это порох!" Она сказала это очень выразительно. Нельзя было закончить мой день более) эффектным уходом.
Вот, без сомнения, прекраснейший день в моей жизни*. Может быть, я буду иметь больший успех, но никогда не проявлю большего таланта. Восприятие было именно таким, какое требовалось, чтобы руководить чувством; еще немного, и чувство одержало бы верх. Восприятие придавало мне достаточно хитрости, чтобы понять, следует прочитать куплет или не следует, и после первого же слова я начинал чувствовать то, что говорил. Невозможно изобразить страсть лучше, чем это делал я, поскольку я действительно чувствовал ее. Когда я сказал Фелип: "Божественная Фелип, давайте репетировать",- я был действительно влюблен в нее. Вот чего мне будет недоставать в будущем: восприятие будет все более и более преобладать над чувством, я буду изображать страсть с большей легкостью, но не так хорошо, как теперь, менее естественно. По-моему, именно так обстоит дело с Марсиалем.
* (В том, что касается таланта. Тот день, когда она станет моей, будет намного прекраснее.)
И моя аудитория была вполне достойна меня! Луазон с ее душой, с ее профессией и с ее опытом - это такая женщина, какую, пожалуй, труднее всего обмануть, изображая любовь.
Я проявил большой талант. В такой степени я наблюдал его у себя впервые. Вот случай испытать радость удовлетворенного тщеславия - это бесспорно. Так вот! Я почувствовал вчера и чувствую еще сегодня (7 вантоза), что совершенно к этому неспособен. Только любовь делает для меня сладостным воспоминание о прожитом дне. Я жажду лишь того счастья, каким смогу наслаждаться благодаря любви Мелани, все прочее не имеет значения.
Когда я представляю себе на ее месте г-жу Мортье, которую считаю неспособной дать мне хоть малейшее счастье, связанное с чувством, мое удовлетворение исчезает; будь моей партнершей она, этот день, несмотря на все мои успехи, возобновлявшиеся ежеминутно, показался бы мне просто скучным.
И даже более, когда я представляю себе Адель, все мое теперешнее счастье превращается в ожидание того счастья, какое она могла бы мне дать благодаря чувству, а так как на это мало надежды, то это счастье очень невелико. Итак, радости тщеславия не имеют для меня почти никакого значения. Я ценю их лишь один миг, движимый желанием познать все, что происходит в человеке. Бассе, Буасса, Барраль недостаточно умны, чтобы пожелать себе такого успеха, но если бы они достигли его, он опьянил бы их на несколько дней.
Вечером я был совершенно без сил, я ничего не мог делать; мне хотелось побыть в обществе таких людей, среди которых я бы мог отдохнуть и почувствовать себя совершенно непринужденно, послушать какой-нибудь домашний концерт. Не имея таких возможностей, я лег спать в восемь часов.
Чтобы определить высокую степень искусства, в котором я отличился, я мог бы сказать, что сыграл, как Моле, такую роль, какую мог бы написать Мольер, причем был одновременно и автором и актером.
7 вантоза, последний день карнавала (26 февраля).
Вчера в минуты самых бурных переживаний я рассуждал вполне здраво и вовсе не почувствовал себя несчастным, когда эти минуты прошли, что непременно имело бы место в мой прошлый приезд.
Видел карнавального быка - убожество. Вообще подобные зрелища не представляют для меня ни малейшего интереса.
Год назад - спор в Гренобле с Коломбом и с д'Авиньоне.
Два года назад - спор на городском балу между четырьмя арлекинами и Ф. Фором, Буасса и мною. Я был в те времена совсем ребенком, во мне не было ничего, кроме души, я не понимал, что такое тщеславие, я слушал лекции Легуве. Я любил Адель и воображал, что добьюсь ее любви. Я пичкал себя кофе, минуты умственного возбуждения я считал единственно счастливыми. Кажется, дело шло к тому, что я мог сойти с ума. Фор отравил своей заразительной грустью этот период моей жизни, в сущности, такой прекрасный благодаря остроте чувств, период, когда я размышлял о "Гамлете" и брал уроки у Дешана.
Я не пошел во Французский театр, потому что не был уверен в том, что она придет (ведь играла Жорж), потому что я не очень богат, а главное потому, что по тактическим соображениям мне, пожалуй, лучше было не идти в театр, хотя она и предупредила меня, что будет там. Она даже выразилась таким образом: "Завтра, например, я там буду" и т. д.
Это кажется мне несколько подчеркнутым.
8 вантоза (27 февраля).
Мелани не пришла к Дюгазону. Марсиаль пришел, как мне кажется, для того, чтобы дождаться там Дюшенуа. Я много смеялся с малюткой Фелип; мы думаем собраться у нее и послушать музыку в один из ближайших дней. В два часа я пошел к Мелани; она была в прелестном домашнем платье. Никогда еще я не видел ее такой веселой. Все мои решения были опрокинуты, я поцеловал ее тысячу раз, она не сопротивлялась. Я отвез ее в фиакре к поверенному на улицу Матюрен; она пробыла там четверть часа. Мы вернулись обратно, и я ушел от нее в пять, часов, через четыре минуты после прихода г-на Леблана. Она дала мне самые подробные объяснения на его счет: он написал три трагедии и две комедии, он не столуется у нее, но бывает ежедневно от четырех до пяти. Что делать? Приду завтра. Она с сожалением смотрела, как я ухожу, и очаровательно кивнула мне головой несколько раз, говоря: "Приходите завтра репетировать со мной Ариадну". Она сказала мне это, стоя наверху в дверях, когда я уже спускался с лестницы.
Она с чувством сказала мне, что в тот день я очень понравился г-ну Леблану и г-ну Шатонесру; она добавила: "Что касается меня, я молчала".
У Дюгазона мы ничего не делали, только дурачились с Фелип.
9 и 10 вантоза XIII г. (28 февраля и 1 марта 1805 г.).
Вчера и сегодня виделся с милой Мелани. Моя любовь усилилась в поразительной степени. Сегодня вечером она составляла всю мою жизнь. Мне стоило бы слишком большого труда выразить ее по-настоящему, я отказываюсь о ней говорить. Думаю, что Леблан вовсе не содержит ее: это просто литератор, который разъясняет ей ее роли, но требует, чтобы это держалось в секрете. Если так, то она ангел! Она не имела понятия о моих подозрениях, и как далеки мои грубые слова от того, чтобы дать представление о ее душевной тонкости! Она любит меня и не хочет сказать мне об этом. Высказать ей завтра мою грусть.
Ложусь сегодня в половине десятого, так как чувствую, что изнуряю себя, думая о ней.
Провел сегодня у Дюгазона главную сцену из "Мизантропа".
Воскресенье, 12 вантоза XIII г. (3 марта 1805 г.).
За эти дни моя любовь претерпела много невзгод.
Вечером я не мог пойти во Французский театр, и это оказалось большим несчастьем. Я был бы там грустен, я извинился бы перед ней за свою бестактность, потому что, бесспорно, это была бестактность, и даже глупая бестактность; быть может, это исправило бы все дело и в эту минуту она была бы моей.
Да, но ведь у нас имеется, с позволения сказать, отец. В те минуты, когда мне надо куда-нибудь идти и я не могу этого сделать, мне всегда слышится голос, который кричит откуда-то сверху: "Ты хочешь летать, но у тебя нет крыльев. Ползай!". Я часто ищу страстей, чтобы быть счастливым; это не значит просить счастья в чистом виде, это значит просить тревоги. Но тревога подобного рода толкает меня на ухаживание за женщинами, помогает познавать человеческое сердце (ради моей будущей славы), и в общем она гораздо лучше, чем глубокая скука, в которую полное отсутствие страсти погружает Барраля. Его надежда-это надежда разрушительная; она ждет такого события, приблизить которое не в нашей власти.
Итак, я не видел Мелани во Французском театре. Это было в пятницу, десятого. Вечером я был в состоянии той нежной грусти, которая целиком проистекает из любви и так размягчает душу.
Вчера в половине первого я отправился к Мелани. Мне заявили, что ее нет дома. Я пошел к г-же Дарю. Туда явилась Адель. Потом к г-ну де Бору, который принял меня так, словно мы виделись с ним вчера, между тем как мы не встречались два месяца. Никогда еще беседа с умным человеком не доставляла мне такого наслаждения. Вот еще одна радость, которая была бы невозможна в провинции: темой нашего разговора была лекция Легуве, прочитанная им накануне в Коллеж де Франс,- обзор историков, писавших об Александре.
В половине третьего я с трудом вырвался оттуда и помчался к Мелани; она сама открыла мне дверь. Сделав два шага, я заметил на ее оттоманке чью-то шляпу. У нее был поэт Лаланн. Я моментально стряхнул с себя печальный вид, с которым вошел, и рассказал ему историю с Легуве. На это он рассказал мне о сатире Шенье, которая должна в понедельник появиться у Дабена, и т. д., и т. д. Я вел себя скорее как остроумный, чем как приятный человек. Чувствуя, что ничего не могу сказать Мелани, я закусил удила и совсем перестал обращать на нее внимание. Рассказывал я хорошо, но то, что я "закусил удила", выразилось в том, что два - три раза я задержал Лаланна, собиравшегося уходить.
На этом этапе моего визита я заметил, что у нее очень грустный вид. Она оказала, что в половине третьего ждет своего поверенного. Она позвонила; она сказала, обращаясь ко мне:
"Это мой поверенный, и я попрошу вас на минутку оставить нас одних".
Что-то в этом роде. "Минутку" означало: "Перейдите в другую комнату". Но интонация говорила: "Надеюсь, вы оставите меня одну".
"Именно таково было мое намерение",- ответил я.
Сегодня я отправился туда в час с бьющимся сердцем. "Г-жи Луазон нет дома". Я пошел в Тюильри, где встретил простофилю Вагнера. Расставшись с ним в два часа, я снова пошел к Мелани. Когда я проходил мимо швейцарской, мне вдруг пришло в голову спросить, дома ли г-жа Луазон.
"Да, сударь",- ответил швейцар очень уверенно.
Поднимаюсь; горничная тоном лукавой субретки из комедии говорит мне:
"Госпожа Луазон только что вышла".
Итак, ясно, что сегодня, а может быть, и вчера Мелани не пожелала меня принять. Очевидно, г-н Леблан, который приходил при мне и уходил вместе со мной два дня подряд, сказал ей: "Вы смеетесь надо мной. Пусть он перестанет мешать мне заниматься с вами, или я больше не приду". И, очевидно, она решила не принимать меня - либо вообще, либо до тех пор, пока я не стану более благоразумным. С моей стороны было бы гораздо умнее, если бы я предотвратил все это моей встречей с ней десятого вечером, на "Заире", но из-за невозможности... и т. д.
Завтра никоим образом не показывать ей, что я обижен; она дала мне урок, и я его заслужил.
Проявить нежную грусть, все время быть нежным и томным, даже в роли "Мизантропа", которую ради того придется испортить. Дюгазон поправит меня, но я буду продолжать в том же тоне, и это вызовет вопрос: "Что с вами сегодня? Вы неузнаваемы".
Сделать вид, будто я не знаю о том, что она не приняла меня сегодня. Первому заговорить о глупости и упорстве, которые я проявил десятого, и сказать, что я все сделал, чтобы хоть на минутку попасть вечером во Французский театр; попросить у нее прощения.
При этом удвоить нежную грусть, но без малейшего оттенка безнадежного отчаяния. Заговорить о том, что мой отъезд сделался необходимым; говоря с ней о моем глупом поведении десятого, притвориться сконфуженным и дать честное слово, что больше это не повторится, то есть: "Даю вам слово, что буду уходить сразу же, как только появится г-н Леблан".
В пятницу, в припадке упрямства, я в присутствии Леблана завязал с нею разговор глазами; она сказала не: "Это не то, что вы думаете" - с самой правдивой, самой выразительной интонацией.
Говоря с ней о своем отъезде, если мы будем у нее, сделать вид, что не могу удержаться от слез; быть у Дюгазона в половине двенадцатого, чтобы мы могли выйти вместе; к счастью, вечером он играет "Мещанина во дворянстве".
Вот правильный путь. Но главное - ни малейшего оттенка отчаяния.
Надо
Пред нею рассыпать лишь розы страсти нежной.
Право, она приобретает надо мной удивительную власть. Сегодня в двенадцать часов дня на террасе Фельянтинцев я упустил победу и, пожалуй, оказался побитым этим глупеньким немцем.
Он сказал мне: "Госпожа Луазон очень умна". Я с живостью подтвердил это, но тут же оборвал разговор. Минуту спустя он сказал мне многозначительным тоном, что его любимое занятие - возбуждать ревность. И тут я не вышутил его так, как он этого заслуживал; будь я в ударе и будь у нас слушатели, я бы разделал его под орех.
Но глупее всего то, что я не начал превозносить Мелани до небес. Его насмешки трогают меня очень мало, а он повсюду разнес бы мои похвалы, будь они хоть чуточку остроумны, и возможно, что они дошли бы до Мелани. Вот к чему приводит отсутствие внимательности и хладнокровия!
Сегодня утром в Сен-Жермен-де-Пре я прекрасно видел папу; особенно хорошо я видел его в тот момент, когда он раздавал причастие и благословения. Я слышал, как он произнес: et spiritous sanctous*.
* (И святого духа (лат.).)
Завтра главное - нежная грусть и никакого отчаяния. У меня еще нет чувства меры в проявлении эмоций.
Понедельник, 13 вантоза (4 марта).
О небо! Кто б еще придумать это мог? Кто к любящей душе был более жесток?*
* (Стихотворная цитата - из "Мизантропа" Мольера (действие ,4-е, явление 3-е).)
........................................................
Никогда еще я не читал эти стихи так хорошо, как сегодня, и никогда еще я не чувствовал их так глубоко. Дюгазон остался чрезвычайно доволен тем, как я сыграл эту сцену, и если бы я был восприимчив к радостям тщеславия, я провел бы этот день ликуя. Вместо этого я провел его в муках ужаснейшей ревности и жесточайшей неуверенности.
Я готов думать, что либо Луазон никогда не любила меня, либо она хочет порвать со мной. Поцелуй, который сегодня утром сорвал у нее Вагнер, привел меня в бешенство, а между тем возможно, что в актерской среде это самое обычное явление. К Дюгазону она пришла в половине первого. Я проводил ее до улицы Кокильер. Я не сказал ей и двух слов. Потом встретил ее на улице Пти-Шан; она сказала, что будет во Французском театре (на "Мещанине во дворянстве"), Я только что оттуда,- ее там не было.
Что приводит меня в отчаяние, так это ее вежливость со мной; всякая интимность исчезла.
Сегодня в три часа дня, проходя по Тюильри и направляясь к Мунье, я почувствовал, насколько возвышен этот отрывок из "Отелло"*:
* (...отрывок из "Отелло".- Стендаль имеет в виду "Отелло" Дюсиса, переделавшего трагедию Шекспира на классический лад.)
Есть благородная порода лошадей
и т. д.
Мое сердце грызла тоска, я с наслаждением пронзил бы себя кинжалом. Немного оправившись, я почувствовал радость грусти; с восторгом, с восхищением я повторял другое место из "Отелло": "Таков всегда удел людей великодушных" и т. д.
Я испытывал неизъяснимое наслаждение, повторяя слово "великодушных". Быть может, я больше перечувствовал за этот день, чем Марсиаль, Барраль и Бассе за всю жизнь. Какие бурные переживания! Мант был того мнения, что не следует идти в театр; принимая во внимание все события, я бы правильно поступил, послушав его. Я сказал Мелани, что уезжаю, я был именно таким, каким намеревался быть. Возможно, что она приходила во Французский театр, но толпа не дала ей войти. Десятого она не была на "Заире".
В довершение трудностей мой, с позволения сказать, отец не шлет мне денег, которые обещал прислать еще в конце плювиоза.
Обманчива порой любви бывает сладость.
Да, это верно.
Но разве без любви возможна в жизни радость?
Я больше пережил в этот понедельник, чем за два месяца в Гренобле. А какой комментарий к Отелло, Оросману и Мизантропу! Я без конца повторял стихи Альцеста, которыми начинается сегодняшняя запись;
Неужели она разлюбила меня из-за какой-то шляпки? Если это так - о злополучный и противоестественный отец! О мой опыт, ты обошелся мне слишком дорого - ты отнял у меня сердце моей Мелани! Завтрашний день решит все.
Вторник, 14 вантоза XIII г. (5 марта 1805 г.).
У меня не было ни мужества, ни времени сделать эту запись в тот же день - до того я был несчастен. Я испытывал все муки неразделенной любви. Когда мы испытываем ужасное унижение, это доставляет нам минуты ярости (жестокости), потом печали и слез; если мы можем после этого перейти к грусти, состояние делается менее мучительным. Начни я писать в тот же день, я исписал бы двадцать страниц. Характер Гермионы кажется мне вполне естественным; это вовсе не жестокая женщина, это влюбленная женщина, совершающая жестокие поступки.
Если вы написали фразу, полную страсти, она не нуждается ни в каких исправлениях. Так, например, когда я написал вчера: "Мое сердце грызла тоска", или когда Шекспир написал: "Говорят, есть благородная порода лошадей", - тут ничего не добавишь, ничего не вычеркнешь. Мне кажется, что, отделывая такие вещи, их только портишь.
В двенадцать часов дня, одеваясь, чтобы идти к Мелани, я почти не помнил себя, до того я был взволнован. Звоню - никто не отвечает. Иду в Пале-Рояль, провожу там полчаса, быть может, самые мучительные в моей жизни; единственным развлечением было наблюдение за собственным состоянием, и, право же, это немалое развлечение. Прибегнуть к этому способу утешения, если мне когда-нибудь случится утешать умного человека.
В четверть второго снова прихожу к Мелани - опять никого. Несмотря на бурные протесты адвоката. "Против", в половине третьего прихожу еще раз. Мне открывают, я вхожу и застаю у нее Шатонефа.
Тут начинается сцена, которая показалась мне очень странной и для меня просто ужасной. Утешало меня только одно соображение: быть может, из-за отсутствия опыта и самообладания я неправильно оценивал все происходящее. Да, вполне вероятно, что я оценивал его неправильно.
Мелани, улыбнувшись мне той улыбкой, какой она обычно встречает гостей, больше почти не смотрела на меня. Когда ее взгляд останавливался на мне, он был холоден и вежлив. Я заметил намерение дать мне почувствовать, что со мной хотят порвать. Меня чуть успокаивало лишь то, что у нее был очень возбужденный вид. То глаза ее увлажнялись от наплыва чувства, на щеках появлялся румянец, то вдруг - погасший взгляд и мертвенная бледность. Она была очень рассеянна.
Во время этого визита я очаровал Шатонефа и проявлял нежную любовь по отношению к Мелани. Я скромно удалился в четыре часа, через минуту после прихода г-на Леблана.
Вечером я пошел с Крозе в партер Французского театра; давали "Горациев" и "Каролину". У Лафона благородная манера, богатые интонации, но по-прежнему мало теплоты; два стиха были произнесены с вдохновением и сразу воодушевили публику. Дюшенуа играет с чувством, но Сабина она плохая. В первых рядах я увидел Мелани. Я заметил, как она уходила в сопровождении Дюсосуара. Словно не имея возможности избежать этого, она поклонилась мне очень вежливо и очень холодно. Я был в отчаянии. Вместе с Крозе мы зашли к Ариадне в ее ложу, где застали Шазе и Лемазюрье, а потом за кулисы, и я немного отвлекся. Об этой забавной сцене я расскажу как-нибудь в другой раз.
15 вантоза (6 марта).
Я решил, что она больше не любит меня. К Дюгазону я пошел с намерением быть там веселым, чтобы найти удобный случай сказать ей на ухо: "За что вы на меня сердитесь?"
Прихожу туда, дурачусь с Фелип - она ничего не имеет против. Наконец около часу приходит Мелани. Я дурачусь с ней, целую ее; она отвечает мне холодно и вежливо. Мне кажется, что все кончено. Однако я продолжаю все так же весело болтать с Фелип.
Перехожу в библиотеку за какой-то книгой; зову Мелани помочь мне поискать ее, она приходит, я целую ее; она не сопротивляется. В гостиной Дюгазона у нас уже произошло маленькое объяснение. На мой вопрос она ответила: "Нисколько" - и т. д. довольно естественным тоном.
Роль Аменаиды она прочла с увлечением; это настроило ее на "метроманию" и несколько вытеснило любовь из ее сердца. В конце урока она сказала мне: "Пойдемте в Люксембург". Это был ответ на предложение посмотреть картины Лесюэра, сделанное мною неделю назад. Я сказал, что Люксембург закрыт. В конце концов было решено, что мы поедем в Ботанический сад.
Я не ощутил этого счастья с такой остротой, с какой ощутил бы его в предыдущие дни моих горестей. Я был измучен физически и нравственно. Все утро я носился по городу, убегая от отчаяния, я был совершенно измучен. Она не вложила в это прелестное слово той любви, какую вложила бы в другое время; вдохновение и яркий момент счастья, вызванного любовью к славе и надеждой ее достигнуть, помешали любви к возлюбленному.
(Прекращаю на этом 16 вантоза, в одиннадцать часов вечера, чтобы в первый раз по-настоящему отдохнуть после 13-го. Две ночи подряд я ночевал у Крозе, чтобы избегнуть одиночества; я буквально выбился из сил, и эта запись ясно говорит об этом. С пятницы, когда началась моя опала, я беспрерывно бегал по городу, чтобы забыться.)
На улицу Пти-Шан мы поехали в фиакре; мы отправились в Ботанический сад, позавтракали там в скромном и прохладном деревенском домике, над дверьми которого вместо вывески были написаны стихи Вергилия, потом обежали весь сад и внимательно осмотрели всех зверей и оранжерею. Обратили внимание на то, как великолепно держит и поворачивает голову пугач. Это заметила Мелани. Она сказала, что у животных можно поучиться красивым позам. Мы ушли в половине пятого и вернулись к ней; пришел Лаланн, прочитал несколько строк из "Рассуждения в стихах" Шенье, и я скромно удалился.
Мы были счастливы в этот день, но без того восторга любви, какой я испытываю временами. Я уже сказал, по каким причинам: я был измучен, она же переживала приступ метромании и любви к славе.
Когда я сказал ей, что особенно счастлив потому, что в- течение четырех дней считал, что она хочет со мной порвать, она ответила, что не понимает причин, побудивших меня вообразить это; она сказала, что вчера Шатонеф до смерти надоел ей, вот почему у нее был такой вид; что вечером, в театре, она видела меня и поклонилась мне три раза, но я притворился, будто не замечаю ее. "Он в одном из своих... настроений",- подумала я. (Не помню, как она назвала это настроение; кажется, она определила его только выражением лица.) Все это было сказано с милым изяществом.
"Но этот поклон, такой холодный, такой вежливый?"
"Но как же иначе я могла поклониться вам при всех?"
Она два раза повторила эти слова: "при всех".
Как бы то ни было, но такой способ выражать скуку очень необычен. Обратить на это ее внимание в первый же раз, когда ей станет скучно. Я всегда больше чувствовал, чем постигал умом, благодаря чему я наивен, как ребенок; и так как я к тому же знаю пределы возможного, у меня есть склонность к подозрительности и обидчивости - отвратительные недостатки. За эти дни у меня явились очень интересные мысли относительно салонного общества, но я уже забыл их.
Я попросил у нее позволения прийти завтра. Она сказала: "Хорошо, но ненадолго, потому что я хочу разучивать "Гипермнестру". Я поцеловал ее, не встретив сопротивления. Мое знакомство с Ариадной очень возвышает меня в ее глазах - вот преимущество светских связей. Она сказала, что Ришран (физиолог), который был любовником Дюшенуа, рассказывал, будто ей нужны трое мужчин одновременно; вполне могу поверить этому, зная чувствительность Дютйёйуа, ("Чувствительность" - это вовсе не ирония; она делает это так же, как дети или дикари крадут. Она слишком сильно чувствует, чтобы понимать, что в этом есть что-то дурное.)
Мелани сказала мне, что, по словам Алибера, Марсиаль - человек, который обманывает женщин, и в этом основа его характера. Таким способом Мелани остроумно и тонко дала мне понять, что Марсиаль - человек посредственный. Я отчасти согласен с ней, но у него доброе сердце и отличный тон. Это не значит, что я не могу себе представить ничего лучшего, но мои теперешние средства не дают мне доступа в такие дома, где я мог бы видеть это лучшее. Взять хотя бы дом г-на Луккезини.
16 вантоза, четверг (7 марта).
Сегодня я не был у Мелани. Ночевал у Крозе. Мы вместе пошли к Дюшенуа. Так как мы собираемся изучать ее характер, ничего не скажу о ней сейчас. Я был поражен возвышенной красотой ее глаз и голоса. Как в том, так и в другом отношении Мелани стоит гораздо ниже ее. Пожалуй, она не так безраздельно перевоплощается в свои роли, как Дюшенуа. Чудесная деталь Лафонтена. Зато Луазон более остроумна, более умна, чем она. Придя домой, нашел наглое письмо Дуэнна*. Я стряхнул с себя сплин, надеясь на свою счастливую звезду, которая всегда приносит мне деньги, когда они бывают необходимы. С этой стороны я начинаю быть довольным собой; общество Манта и Крозе начинает излечивать меня от того бесконечного зла, которое причинил мне Феликс Фор. По-моему, у Фора совсем такой же характер, как у г-на де Валорба в "Дельфине"; это человек, несчастный от природы. Ничего нет легче, как стряхнуть с себя несчастье (такого рода), надо только захотеть этого.
* (Дуэнн - портной, который требовал у Стендаля платы по счетам.)
Остроумие. Вчера я в полной мере насладился радостями светского общества. После интересного визита к Дюшенуа я потащил Крозе к Шеминаду. Там я узнал, что его семья часто встречается с семьей Мунье. Он сказал, что Эдуард - большой фат. Я начинаю осознавать преимущество моего естественного и отнюдь не приглаженного остроумия над заученным остроумием Крозе, Эдуарда и даже Марсиаля: через два месяца для вас уже нет ничего нового. В сущности, очаровательный своим остроумием г-н де Бор в этом отношении таков же, как и они. По-моему, самым приятным является остроумие естественное, такое, которое тут же изобретается привлекательным человеком при каждой новой теме разговора. И понятно, почему: он создает комедию характеров, причем главный герой этой комедии привлекателен. Итак, если вам желательно быть остроумным, изучайте все виды остроумия приглаженного, применяйте их, чтобы иметь право их презирать, шлифуйте свой характер и в каждом отдельном случае говорите то, что думаете. Таково истинное остроумие, такое, каким, по-видимому, обладали и Матта* и Лафонтен и каким, насколько мне известно, обладает Маринье.
* (Матта - персонаж романа Антуана Гамильтона "Мемуары шевалье де Граммона" (1713).)
Думаю, что именно таков смысл слов Нинон*: "Ваш сын ничего не знает? Какой вы счастливый, он не будет сыпать цитатами!"
* (Нинон де Ланкло (1616-1706) прославилась в скандальной хронике эпохи многочисленными галантными приключениями.)
Этот очаровательный род остроумия незаметен для дураков; чтобы почувствовать его, надо либо обладать очень чувствительной душой, либо быть бесконечно остроумным самому. Среди моих знакомых м-ль Дюшенуа по первой причине и г-н де Бор по второй - это, пожалуй, единственные люди, которые в состоянии его заметить. Я прибавил бы к ним Арибера и Манта, если бы мы три месяца провели вместе, вращаясь в блестящем обществе, здесь.
Для того, чтобы такое остроумие приобрело уважение глупцов (вроде моего дяди, Эд. Мунье) или людей с черствой душой (вроде Адели, г-жи Лебрен и т. д.), оно должно иметь ярлык; тогда они поверят на слово, что оно заслуживает уважения; заметив случайно какой-нибудь клочок его, они называют это оригинальностью.
Мант боится, что мое остроумие может создать мне репутацию злого человека; иногда он и сам считает меня таким, потому что я утомляю его мозг. Это обилие порывистых скачков мысли затрудняет человека, который воспринимает все медленно, потому что хочет постичь все как можно лучше.
По этой же причине я должен казаться злым и Ж. Рею.
Мант излечился, увидев мою душу, самую чувствительную из всех, какие он когда-либо встречал, а у него есть опыт. Фор неизлечим; моя сила оскорбляет его слабость, так же как она оскорбляет Рея, но в данном случае мое остроумие, сверх того, раздражает его тщеславие. Неизлечимо именно это. Мне бы следовало в течение шести лет быть униженным в его глазах и в своих собственных, причем так, чтобы он видел это,- вот тогда я бы снова стал привлекательным в его глазах.
До чего обманчивы бывают репутации и рассказы путешественников! В Париже еще можно надеяться на что-то, потому что стремление блистать побуждает здесь искать и находить истину, но в обществе, которое ограничено узкими рамками и не отличается этим духом (этим характером), ничего сделать нельзя. В Гренобле гениальный человек (типа Вольтера) всегда будет считаться злым, если он не будет вести образ жизни Гро.
Жюдит, Анжелина, Адель, Викторина и Мелани знают, что у меня чувствительная душа. Немного раскрыться перед Дюшенуа и г-ном де Бором - они поймут меня.
17 вантоза, пятница (8 марта).
Видел ее только у Дюгазона; после занятий проводил ее к адвокату. Я был очень весел, мы много смеялись- она, Фелип и я. Вечером обед с Реем, Дюрифом, Комбруссом, Даром, Мантом. Тяжеловесность Рея. Забавная шутка, которую Понсе подстроил Манту.
18 вантоза (9 марта).
Ушел от нее в пять часов. Как легко быть остроумным в обществе! Я пришел в два часа и просидел у нее три, причем четверть часа мы оставались наедине; ей нездоровилось. Потом - Шатонеф, Леблан и еще два господинчика; у одного из них, роялиста и дурака, лицо полностью отражает его характер. Шатонеф наводит на нее скуку. Завтра мы едем в Люксембург. Пришла Фелип и спела: "Из всех стран, чтобы нравиться вам" и т. д.
Восхитительный день. Я испортил бы все удовольствие, если бы стал его описывать.
Воскресенье, 19 вантоза XIII г. (10 марта 1805 г.).
Прежде я любил вас, теперь обожаю. Вернулся домой в половине второго.
Встал в шесть часов, пошел к Манту. В семь мы взяли фиакр, заехали за Даром и Реем и отправились в "Черную корову"*; в четверть девятого я обнял Манта и простился с ним; он уехал.
* ("Черная корова" - молочная, славившаяся в свое время молочными продуктами.)
В одиннадцать часов пришел к Луазон; она одевалась. Шел маленький дождь, весенний. Мы поехали завтракать в кафе, что на углу улицы Мишодьер и бульвара, потом в Люксембург. Осмотрели все картины и залы сената. В четверть четвертого вернулись к ней. Я пробыл до четверти пятого; в четыре явился г-н Леблан.
В четверть седьмого я снова пришел к ней; она обедала с горничной. Пришла г-жа Мортье и ушла, когда увидела, что Мелани начала одеваться. Так же как и утром, мы взяли фиакр. Около половины восьмого подъехали к театру Маре, на улице Кюльтюр-Сент-Катрин; там давали трагедию "Отелло", на которую мы и попали ко второму акту. Мы просидели до середины "Визитандинок"*; когда мы выходили из театра, било одиннадцать.
* ("Визитандинки" - комическая опера Девьенна на текст Пикара (1793).)
Она заговорила со мной о г-же де Ко, этой ужасной мегере. Разговор, начатый в фиакре, продолжался у нее дома до четверти второго, когда явился портье и сообщил, что уже время запирать дверь; после этого я просидел у нее еще несколько минут.
Только что пробило два часа (20 вантоза). Я прожил сегодня двадцать часов. Этот день - один из интереснейших в моей жизни. Может ли женщина с ее умом быть столь откровенной с мужчиной, которого она не любит? Мы провели вместе двенадцать часов. Подробности опишу завтра; ложусь спать, благословляя небо за то, что обладаю душой, которая чувствует так сильно. Пожалуй, за сегодняшний день я пережил больше, чем Крозе или Мант - за неделю.
20 вантоза XIII г., понедельник (11 марта 1805 г.).
Надо коренным образом изменить систему моего ухаживания за Луазон. Меня учат собственные успехи. Ей было по-настоящему приятно со мной в главной аллее Тюильрийского парка, когда в четверть четвертого я сказал ей: "Старайтесь больше выказывать свой ум" и т. д.
Все дело в том, чтобы быть приятным в глазах Мелани, а не в том, чтобы говорить ей о своей любви. Я часто бываю с ней наедине, и нет ничего легче, как надоесть ей, бесконечно повторяя, кстати и некстати: "Я люблю вас, обожаю вас".
Никогда не следует заранее готовиться высказать ей какую-нибудь мысль, иначе скажешь глупость. Надо попросту каждую минуту высказывать ей то, что чувствуешь, а когда разговор замирает, говорить о ней самой.
Боюсь, что я слишком некрасив, чтобы она могла полюбить меня. Боюсь, чтобы этот страх не придал мне неловкого вида; надо победить его.
Нет ничего неприятнее человека, который начинает вам говорить о своей любви именно тогда, когда он вам надоел.
Поэтому я принимаю решение говорить ей о своей любви лишь тогда, когда это будет кстати, но все же проявлять эту любовь в достаточной степени, чтобы она не сочла ее угасшей. Я вижусь с ней ежедневно, мое дело - постараться не надоесть ей.
Сидел у Дюгазона с двенадцати часов. Читал Аменаиду и, представляя себе в этой роли Мелани, острее наслаждался красивыми местами, стараясь не замечать дурных чувств; наконец в час дня она пришла.
Вначале я был холоден; вот, по-моему, одно из последствий моей злосчастной привычки заранее думать о том, что я буду ей говорить. Она первая сказала несколько слов о вчерашнем вечере, и это наконец произвело на меня достаточно сильное действие, чтобы вызвать к жизни не ум мой, а душу.
Дюгазон, который сегодня играет "Мещанина" (в последний раз), слушал молча, как мы читали. Я кончил роль Мизантропа, прочитал весь пятый акт; на некоторых стихах я запинался.
Луазон начала читать четвертый акт "Ариадны"; она была не в ударе, но мало-помалу разыгралась. Она прочла пятый, причем была великолепна в трех или четырех местах и возвышенна в двух стихах* - тех, что идут после чтения письма Тезея к Пирифою:
* (Стихотворные цитаты - из "Ариадны" Тома Корнеля (действие 5-е, явление 4-е).)
Беречь меня? К чему? Забыта клятва им! Заботу обо мне он завещал другим!
Раз она могла так произнести эти два стиха, значит, она сможет прочитать все, повинуясь движениям своей души. Поэтому я думаю, что она может стать великой актрисой в умении передать любовь и ритм метромании.
Всегда гонимым быть - таков удел героя… А мой удел - его сильней любить.
Она до такой степени завладела нашими душами, что я совсем одурел. Я был "как пень", по выражению одного болвана. В три часа, немного погревшись вместе у камина, мы вышли от Дюгазона.
Погода была мягкая. Мы пошли погулять в Тюильри. Думаю, что я был приятен ей в течение часа, потому что все это время говорил именно то, что думал. Найдя удобный момент, я развил перед ней свои мысли о том виде остроумия, который описал в этой тетради несколькими страницами выше.
Я испытывал истинное удовлетворение, наши души общались. Она говорила со мной с чарующей непосредственностью. Я сказал ей то, о чем думал в ту минуту: "Слушая вас, влюбился бы даже тот, кто не был влюблен раньше".
Эта фраза должна была дойти до ее души, и я убежден, что она дошла. Единственное, что могло испортить впечатление, это воспоминание о подобной же фразе, которую я сказал ей как-то раз, когда ее душа не была растрогана.
Я вижу, что, в общем, мне надо немного пресытиться, чтобы действовать так, как должно.
Душа Мелани до того чувствительна, что в ней можно прочитать действие тех слов, которые ей говорят. Она спросила меня:
"При вас нет часов?" - "Нет",
В этот момент пробило четыре.
"Вы уходите?" - "Да".
И сразу несколько фраз о любви (дурная привычка!). Эти фразы не могут тронуть ее, они явно "наиграны". В подобных вещах нельзя убеждать, обращаясь к рассудку. Когда мы дошли до конца аллеи, солнце показалось ей таким прекрасным, что она сказала: "Давайте пройдемся еще раз". Мы разговаривали о разных приятных вещах, как вдруг, заговорив о ее голосе, я начал восторженно расхваливать Дюшенуа. Мы проделали уже половину обратного пути; она машинально свернула с аллеи и пошла по диагонали, чтобы сократить путь от этой аллеи до террасы Фельянтинцев и поскорее дойти до калитки.
Все ясно. В моих руках - средство понравиться ей. Я читаю в ее душе, как в открытой книге. С каждым днем мне удается читать в ней все лучше. Я знаю, что такое страсти; вместо того чтобы высказывать мысли, которые пришли мне в голову четверть часа или час назад и которые часто бывают некстати, надо говорить то, что я нахожу наиболее подходящим в данный момент. Скука, которую я порой испытываю в ее обществе, происходит от моей застенчивости, заставляющей меня готовиться к тому, что я скажу, словно к уроку. Но ведь скука заразительна. Итак, решение принято: говорить ей то, что я думаю и чувствую в каждую данную минуту, устремив взор в глубь ее души.
21 вантоза (12 марта) (до того, как я виделся с ней).
Вчера (20 вантоза) у Дюгазона она с улыбкой посмотрела на Вагнера. Я случайно поймал этот взгляд; она тотчас приняла серьезный вид. Меня ничуть не удивило бы, если бы я узнал, что Вагнер был ее любовником. Но я боюсь своего чувствительного, а потому подозрительного характера. Если между ними что-то было, то этот толстый немец с его румяной физиономией и тяжеловесным здравым смыслом должен был довести дело до конца; но если так, значит, ей неловко передо мной и, значит, она хочет принадлежать мне.
23 вантоза XIII г. (14 марта 1805 г.).
Я чувствую, что она заполнила всю мою душу. У меня нет душевных сил ни для чего другого. Все, что я делаю, делается мною машинально; мои мысли все время прикованы к ней; она все время стоит у меня перед глазами, и так как я по опыту знаю, что делиться с кем-нибудь по этому поводу нельзя, то единственное мое утешение - мой дневник. Ко всему остальному я безучастен.
Я в таком состоянии, что все становится мне безразлично. Я мог бы принести величайшие жертвы, даже не заметив их. Обычно мы не отдаем себе ясного отчета в жертвах, приносимых ради какой-нибудь сильной страсти. Если существуют страсти столь же сильные, как любовь, то тот, кто приносит жертву, даже не замечает ее.
Сегодня впервые в жизни мне захотелось иметь состояние. Конечно, я часто смутно желал этого и прежде, но сегодня мое желание было таким острым, что оно могло бы заставить меня согласиться работать где-нибудь в канцелярии в течение многих лет.
Будь у меня деньги, она сегодня же стала бы моей, это несомненно, и, может быть, мой день был бы чудесным, вместо того чтобы быть таким печальным.
Может быть, по этой-то причине мои дела с ней и не подвигаются вперед. Я так люблю ее, когда она со мной говорит, это доставляет мне такое удовольствие, что я перестаю рассуждать, я весь - чувство; более того, даже если бы я был в состоянии рассуждать, то, по всей вероятности, не смог бы прервать ее, чтобы заговорить самому. То, что она делает, слишком для меня драгоценно. Может быть, потому-то истинно любящие люди и не обладают дамами своего сердца. Такова история вчерашнего и сегодняшнего дня. Не знаю, почему, может быть, из-за отсутствия Манта, но в те часы, когда я не с нею, я ощущаю невыносимую пустоту, которая быстро превращается в глубокую грусть. Прекрасная погода, стоявшая вчера и сегодня, страшно мне неприятна. Этому способствует и отсутствие денег; однако мне кажется, что даже при наличии денег эта пустота продолжала бы существовать. Думаю, что причиной - отсутствие Манта.
Вчера, 22 вантоза*, во вторник, пришел к Дюгазону в половине второго; на мне был черный галстук. Застал там Фелип и Вагнера. В первый раз читал Созия**; урок прошел очень плохо. Она не пришла. Дюгазон предупредил нас, что до воскресенья занятий не будет.
* (22 вантоза 1805 года была среда, а не вторник.)
** (Созий - персонаж комедии Мольера "Амфитрион".)
В четверть третьего отправился к ней; от Дюгазона я вышел вместе с Вагнером, который решительно неуклюж и глуп - словом, все то, что связано с понятием "немец". Горничная заявила, что ее нет дома; без четверти три - тот же ответ; прихожу снова в три часа, она отворяет мне дверь; ее вид приводит меня в восторг.
"Как я несчастна!"
"Я вам помешал? Сейчас я уйду".
"Нет-нет, войдите, но я только что послала за господином Лебланом, чтобы пойти погулять с ним. Знай я, что придете вы, я бы не послала за ним. Как я несчастна!"
Это "Как я несчастна!" было самое нежное, что она могла мне сказать. Мой восторг стал еще более бурным.
Не помню, что я ответил; знаю только, что я высказал ей то, что чувствовал, и что любил ее больше, чем самого себя. Кажется, она почувствовала мою любовь.
Это "Как я несчастна!", повторенное несколько раз, было произнесено с самой искренней, самой глубокой интонацией. Я сказал: "Я вижу вас, и, стало быть, я более чем счастлив!" Разговор привел нас к объяснению этого "как я..." и т. д.
- Как вы поняли это? - спросила она.

Карло Гольдони
Я вспомнил сцену из "Дешана" и притворился, что понял ее неправильно.
- Что я несчастна оттого, что вижу вас? - спросила она.- О, нет!
Взвесив все, я думаю, что причиной всех этих "как я..." и т. д. была любовь. Я слишком долго наслаждался тем, что чувствовал, я не решился ее поцеловать, и, пожалуй, напрасно. Игра страстей знакома мне так хорошо, что я должен удерживаться изо всех сил, чтобы не быть подозрительным; я никогда ни в чем не уверен, так как ясно предвижу все самые различные возможности.
Завтра ничто не удержит меня; в первый же раз, как я окажусь с нею наедине, буду настойчив. Как глуп я был в понедельник! А вчера и сегодня уже не было подходящего случая.
Понедельник, 27 вантоза (18 марта), накануне званого вечера у Ариадны.
По глупости не писал с 22-го; мне было бы слишком трудно изобразить все, что я чувствовал, но надо было по крайней мере записать события.
Именно 22-го я установил, что от Тюильрийского дворца до статуи, стоящей в конце главной аллеи, ровно восемьсот двадцать шагов. Это занятие, вообще говоря, нелепое, если не принять во внимание некоторых обстоятельств, кажется, послужило в ее глазах доказательством моей деликатности. Иначе ей пришлось бы сказать мне:
"Бейль, мне надо кое-что сказать господину Леблану, дайте нам немного пройтись вдвоем, а потом опять подойдите к нам".
24-е и 25-е были, пожалуй, самыми несчастными днями в моей жизни. Она велела говорить мне, что ее нет, хотя в действительности была дома. 24-го я лишь мельком видел ее в Тюильри. 25-го Барраль пришел ко мне в тот момент, когда я возвращался от нее в первый раз; мы отправились в Тюильри и гуляли там, наслаждаясь прелестным весенним туманом, живо напомнившим мне Милан. Мы разыгрывали фатов до четырех часов, и это несколько развлекло нас.
Жаль, что я в эти дни совсем не писал: я бы превосходно изобразил муки любви,- но вчера я виделся с нею, и все прошло.
Очень трудно описывать по памяти то, что было в нас естественно; гораздо легче описывать искусственное, притворное, потому что усилие, понадобившееся для того, чтобы притвориться, помогло запомнить эти чувства. Упражняться в запоминании своих естественных чувств - вот занятие, с помощью которого я могу приобрести талант Шекспира. Вы видите себя притворяющимся, вы сознаете это. Это ощущение легко воспроизводится аппаратом памяти; но чтобы вспомнить свои естественные чувства, надо начать с того, чтобы осознать их.
Вот где может мне пригодиться изучение "Идеологии" (Траси и Бирана).
Вчера, в воскресенье, я был очень естествен в течение четырех часов, проведенных с нею; я еще не осознал всего, что происходило, а потому еще не знаю, каким я ей показался. Чтобы полностью усвоить себе естественный стиль, который и является истинным умом, надо привыкнуть к нему. Для этого мне бы нужно было жить вместе с Мелани: тогда я не должен был бы спешить разговаривать с ней и через два дня приобрел бы прелесть естественности.
Ту прелесть, что еще прекрасней красоты,
и в тысячу раз прекраснее, чем надуманное остроумие в духе Монтескье. Впрочем, в глазах женщины с умом Мелани я, кажется, далек от того, чтобы казаться умным в духе Монтескье; она не видит во мне того неистовства гения (genium Горация, а не гения Шекспира), того избытка сил, который делает меня изумительным, непобедимым, а иногда даже немного презрительным, а потому и неприятным в глазах Крозе, Манта и других. Однако рассуждать можно без конца; кажется, я готов написать целую книгу о человеке, а ведь в моем распоряжении только один час; потом за мной зайдет Крозе, и мы отправимся к Дюшенуа, чтобы преподнести ей цветы и поцеловать руку.
За эти дни я открыл много истин, и вот одна из них: чем человек глупее, тем он ближе к общему уровню.
Бассе совершенно не возвышается над общим уровнем. Марсиаль немного выделяется, но "с трудом тащу я из тины дрожащую ногу" и т. д. Крозе значительно выше в отношении тактики.
"Зачем ты сказал вчера Бассе, что Расин был глуп?" - спросил он у меня в субботу утром, когда мы гуляли в Тюильри. Мне кажется, Плана, так же как Альфьери, презирает всякий сброд; да я и сам, правильно разобравшись в своем характере, увидел бы, что вся моя "тактика" лишь attaccata*. Мне кажется, что в тех жизненных ситуациях, в которых я ощущаю себя сильным, я не расположен принимать решения заранее. Я уверен, что при соответствующих обстоятельствах поступлю так, как будет лучше.
* (Пришпилена (итал.))
По-моему, именно такова характерная особенность силы, потому что в тех случаях, когда я сознаю свою слабость, я без конца принимаю решения заранее. То же самое происходит, когда я собираюсь идти к любимой женщине. В результате первые четверть часа, которые я провожу с ней, проходят у меня в каких-то судорожных движениях, или же я чувствую внезапную и полную слабость - как бы растворение твердых тел.
Итак, я считаю, что характерная особенность силы состоит в том, чтобы плевать на все и идти вперед.
Однако я должен рассказать историю вчерашнего дня.
Воскресенье, 26 вантоза (17 марта).
Встал в шесть часов. Проскучал час в обществе явившегося ко мне Рея, прочел сорок страниц Траси, потом "Непостоянного" Коллена, самую бесцветную пьесу, какая когда-либо существовала. Она совершенно засушила меня. В двенадцать оделся, чувствуя предрасположение к скуке, потому что было воскресенье. Если так будет и дальше, я сойду с ума. Этот день ненавистен мне.
Идя к Дюгазону, я был великолепен: голова в крупных черных локонах, благородная осанка и общий вид - как нельзя лучше: галстук, жабо, два великолепных жилета, превосходный фрак, казимировые короткие штаны, нитяные чулки и башмаки. Сегодня в смысле внешности я был на высоте. У меня была благородная и уверенная осанка человека из высшего общества.
Погода была великолепная. Итак, в половине первого являюсь к Дюгазону. "Сударь, урока не будет. Он ждал вас около часу и, видя, что вас нет, уехал в Версаль". Я был несколько разочарован. Однако я не позволил горю овладеть собой и энергично сказал себе: "Побегу к Луазон". Дорогой я думал так: "Она не пришла к Дюгазону. Теперь не хватает только, когда я приду к ней, услышать, что она уехала за город". Я забыл о том, что в этом случае у меня оставался Крозе.
Поднимаюсь наверх.
"Она только что ушла к Дюгазону".
"Вы так думаете? Урока сегодня не будет".
"Она только что вышла".
Мое "Вы так думаете?" означало: "Я вам не верю". Решаю медленным шагом дойти до Дюгазона, внимательно глядя по сторонам; на улице Фоссе встречаю ее: она возвращается домой.
Заходим к ней. Не знаю, почему, но я был несколько холоден (думаю, что это из-за отсутствия денег). Бросаю ей несколько шутливых упреков по поводу того, что она будто бы велела не принимать меня; она отрицает это. Должно быть, я показался ей немного обиженным.
(Бьет половина одиннадцатого; я одеваюсь, чтобы идти к Ариадне, оттуда к Дюгазону, и остаток дня провести с Мелани. Будь у меня деньги, сегодня она стала бы моей. Но если бы не это вечное "будь", она стала бы моей в пятницу, она стала бы моей вчера; что ж, это заставит меня развить свои таланты. Право же, я ребенок, у меня слишком много чувствительности, и до сих пор я слишком полагался на эту чувствительность, чтобы быть приятным; я еще не сложившийся ребенок в полном смысле этого слова.)
Сказать Луазон: "Для меня гораздо важнее нравиться вам, нежели тем людям, которые меня воспитали, или тем, для которых они меня воспитали; вы гораздо умнее их. Скажите мне, каким я должен быть, и я буду таким. Вы сами видите, что я освободился от карикатуры". Высказать это чувство с изяществом и раскрыть его в такие минуты, когда наши души будут общаться; оно естественно.
Вернулся домой в половине пятого, подавленный грустью, но не той сухой грустью, которая ведет к отчаянию, а той, которая граничит со слезами. На улице душно, и это как-то размягчает мое сердце. Сегодня вечером я бы с большим удовольствием пошел во Французский театр, но у меня нет денег; и больше того, беспокойство, которое внушают мне конец этого месяца и начало жерминаля, является одной из причин моей грусти.
Но главная, или, лучше сказать, единственная, причина такова.
Я пришел к Луазон в половине четвертого; там был г-н Леблан. Она сидела перед зеркалом, и голова ее была повязана вышитым платком, что отнимало у ее лица почти всю его трогательность. В руках она держала "Федру", у нее был очень сосредоточенный вид, и она прочитала мне первый куплет в новой, углубленной манере. Пока это происходило, г-н Леблан вышел в переднюю. Я стоял за креслом Мелани и чувствовал страшную усталость от нашего похода на улицу Сен-Мор. Г-н Леблан вскоре вернулся, взял свою шляпу и ушел. Я не переменил позы; Луазон продолжала читать "Мемуары" Клерон - главу о "Федре" и затем несколько других.
Тут я полностью ощутил неудобство естественного ума: я был наедине с ней и совершенно не занимал ее своей любовью, я поцеловал ее всего два раза. Время шло, я был счастлив. И был бы счастлив вполне, будь у меня в кармане четыре луидора: у меня появилась бы та смелость, без которой нет красоты. Она сидела в кресле; вид у нее был чрезвычайно серьезный, а в лице, из-за этого гадкого платка, не было никакой мягкости- разве только на секунду, когда она кончила просматривать Клерон. Если предположить, что ее жесты обнаруживают (наподобие скульптуры, драпировок) ее чувства так же, как это происходит у меня, она, наверно, была очень поглощена своим искусством. И все-таки этот момент был, пожалуй, подходящим для того, чтобы заговорить о моей любви; но только тут требовался искусный подход, расчетливый ум, а я был весь - душа. Я слегка дрожал и вздыхал (отчасти это было притворно,- я усиливал то, что было естественно).
Когда я перелистываю книгу, прочитав в ней несколько глав, мой ум кипит, я бываю глубоко поглощен своим искусством. В ту минуту, когда она делала такие же движения, какие при подобных обстоятельствах делаю и я сам, я рассказал ей,- стараясь всячески щадить Ариадну и взяв с Мелани честное слово, что она сохранит тайну и источник этой тайны,- что Ариадна как раз была у Легуве, когда пришла депутация и попросила, чтобы Мелани дали дебют, что Ариадна ответила, что ее не примут, так как это невозможно, но что, тем не менее, она согласна, чтобы дебют был ей предоставлен, так как это поможет получить хороший ангажемент в провинции. Мой рассказ оживил интерес Мелани к дебютам. Некоторое время мы говорили об этом. Я сказал, что опять пойду к Ариадне в понедельник на устраиваемый ею праздник, а потом заявил, что не пойду, так как предвижу, что через некоторое время мне пришлось бы оказаться одновременно в двух лагерях. Она попросила меня все же пойти туда.
Я думаю больше ничего не рассказывать ей об Ариадне. Сегодня я вел себя как благородный человек; но если Ариадна будет интриговать против Мелани, мне неизбежно придется изменить одной из них. При первых же признаках интриги со стороны Ариадны я перестану бывать у нее и перейду на сторону Мелани.
Затем я сделал Мелани несколько комплиментов, подкрепленных действиями, которые рассмешили ее и, видимо, понравились.
Я был счастлив, как вдруг меня вывело из этого состояния возвращение г-на Леблана. Это возвращение подействовало на меня удручающим образом. Мне показалось, что я вел себя глупо. Несколько минут она смеялась читая Клерон. Я собрался уходить.
Она сказала мне с рассеянным видом: "До свидания, сударь".
Я вернулся домой, удрученный своей застенчивостью. У меня не было сил записать это. Потом я подумал о преимуществах естественного ума и пришел к выводу, что она была слишком поглощена своим искусством и моя любовь в этот момент могла бы показаться ей назойливой, что, может быть, представ перед ней застенчивым и влюбленным, я только выиграл в ее глазах. Мысль о том, что, пожалуй, я был не таким уж дураком, каким считал себя вначале, несколько повысила мое настроение и придала силы, чтобы писать.
Если бы сегодня вечером я мог пойти во Французский театр (на "Всеобщего наследника"), я был бы счастлив.
Завтра пойти к ней пораньше и твердо предложить покончить с этим. Я должен записать все заранее, потому что, почувствовав себя счастливым, не напишу ни слова.
Завтра сказать ей: "Вы были так поглощены своими ролями, что моя бедная любовь не осмелилась заявить о себе".
Только сейчас, написав это, я подумал о том, что г-н Леблан вел себя сегодня как очень воспитанный человек.
Все это с величайшей очевидностью доказывает мне влияние головы на сердце. Мое сердце гораздо опытнее, чем голова: я много любил и мало рассуждал.
Внимательно продумав свои горести, можно найти утешение (особенно с такой головой, как у меня). Либо вы находите доводы, уменьшающие горечь, как это только что случилось со мной, либо вы, по крайней мере, извлекаете для себя урок, поняв, что именно привело вас к ошибке.
Продолжение воскресенья, 26 вантоза.
Когда я пришел к ней, она одевалась. В этих случаях я бываю слишком скромен. Это оттого, что я все еще Сен-Пре. Мы пошли в Тюильри. У меня мало воспоминаний, потому что я не следил за тем, что говорил; для этого я был слишком естествен и слишком занят тем, что наблюдал за действием своих слов. Мы. смеялись над лицами встречных; тут я мог бы блеснуть каскадом острых и забавных шуток, но это бывает со мной лишь в тех случаях, когда получается естественно: притворяться остроумным я не умею. Мне удавалось только поддерживать отличный тон, тон Флери в "Школе буржуа".
Мы направились на Елисейские поля. В эту минуту в нашей беседе ощущался легкий холодок. Вот недостаток двух естественных натур,- зато такой ценой покупаются возвышенные минуты. Это Дюмениль, которого сравнили бы с Клерон. Я заговорил с Мелани о ее отношениях с последней, и это несколько оживило наш разговор. Мы прошлись по Елисейским полям; на обратном пути наши души общались. Мы начали подбирать имя, которым я назовусь, если поеду в Марсель под видом ее кузена. Если в течение четырех месяцев она не получит здесь дебюта, то уедет в Марсель. Какая необыкновенная удача! Я не признался ей, что и раньше собирался ехать туда, а сказал только, что если она туда поедет, то я последую за ней и пожертвую ради нее Парижем.
Я не вправе больше жаловаться на то, что мне не везет в мелочах, раз мне повезло в таком важном деле.
"И все же,- сказал я ей,- я готов пожертвовать своими интересами ради ваших и хочу, чтобы вы остались здесь".
Я говорил правду; души наши общались, я был счастлив.
(Вот человек из жизни, а не из романа. Я чувствую, что мне бы следовало никогда не переставать любить Адель и никогда не забывать г-жу де Нардон, но, тем не менее, если моя Мелани будет в Марселе вместе со мной, я буду счастливейшим из смертных.)
Имя, которое я должен буду носить, это Лебурлье, имя одного из ее версальских кузенов. Было три часа, Мы направились к ней, так как она ждала визита г-на Лаланна. Я был счастлив. Выходя из пассажа, ведущего из Тюильри на улицу Сент-Оноре, я держал ее под руку; на губах у меня играла счастливая улыбка,- и вдруг я увидел перед собой Викторину. Она ехала в экипаже и отлично видела нас. Должно быть, она заметила на моем лице некоторое волнение, вызванное тем, что я увидел ее. Я не поклонился. Мне не удалось сделать какой-нибудь знак Луазон, потому что Викторина видела нас слишком хорошо.
Чудесно вот что: я еще прежде предупреждал Луазон, что мы можем встретить девушку из общества, за которой я ухаживаю. И теперь, как только экипаж проехал, я сказал ей, что это была она.
Вот одна из самых острых радостей тщеславия, какие мне доступны. Я подумал: "Это большая радость". Мое знание страстей говорило мне, что это редкостная удача, но я почти не ощущал ее. Если у Викторины такая же душа, как у меня, то эта встреча должна была привести ее в отчаяние и в то же время расположить ее ко мне при первом же нашем будущем свидании.
Вчера вечером эти подробности заняли бы пятьдесят страниц, но сейчас я почти ничего не чувствую.
Мы вернулись к Луазон. Она написала записку Лаланну. Мы снова пошли в Тюильри. Я опять был слишком скромен в эту минуту свидания наедине при закрытых дверях. В такие моменты я не любовник, я привлекательный светский человек и только. Я и сам себе не представляю, до какой степени я еще ребенок.
Во время прогулки ей вдруг показалось, что я предлагаю ей пойти куда-нибудь пообедать; она отказалась. Подумать так - значило оказать мне слишком много чести. Я заговорил с ней о своей застенчивости; она ответила, что у меня, напротив, дерзкий вид. Она искренне считает, что это так, и я тоже.
Мы говорили о моей любви; она заявила, что я говорю о ней не так, как должен говорить человек, охваченный любовью. Я сумел отпарировать удар, растрогав ее сердце, но я действительно говорю о любви слишком весело. Это не такой уж большой недостаток, но все же недостаток, который я приобрел потому, что боюсь показаться чересчур сентиментальным и, следовательно, грустным.
Она считает меня повесой. Она резко напала на Марсиаля и на непочтительный тон молодых людей, которые сейчас в моде.
Леблан, который тоже пришел в Тюильри, сначала не заметил нас, потом подошел к нам. Сразу же - молчание, несмотря на все мои усилия завязать разговор; он пристал, как смола, и, благодаря моим стараниям, был жалок. Тихо переговариваясь с Мелани, я сумел поднять его на смех. Наконец, в три четверти пятого, мы проводили ее домой. Мы поднялись наверх, и я оставил его там.
Забыл описать маленькую борьбу чувств, очень существенную; опишу ее как-нибудь, когда вспомню.
В общем, я ясно вижу, что пора довести до конца эту историю с Луазон, но я слишком люблю ее, чтобы сделать это, опираясь на рассудок; кто-нибудь должен помочь мне: она или случай. Возможность случая я создам тогда, когда у меня будут деньги. В данный момент я чувствую очень мало, я очень расположен закончить все это, но когда я бываю возле моей божественной Мелани, я слишком люблю ее, чтобы действовать.
Вот я и рассказал обо всем, кроме истории, которая произошла в прошлое воскресенье и которую я не описываю, потому что в эту минуту решительно ничего не чувствую.
28 вантоза (19 марта).
28-го решил не ходить к Луазон. Прочел шестьдесят шесть страниц in-4° Гельвеция*, сто страниц Смита и трагедию "Андромаха".
* (Сочинение Гельвеция, которое читал Стендаль,- вероятно, "Об уме" ("De I'Esprit"), Сочинения Адама Смита - несомненно, "Теория моральных чувств", переведенная на французский язык г-жой Кондорсе и дополненная ее же "Письмами о симпатии" (1798). Это издание и читал Стендаль.)
Смита читал с большим удовольствием.
29 вантоза (20 марта).
29-го в десять часов иду к Марсиалю; застаю у него горничную Ариадны; он погружен в сочинение ответной записки. Когда горничная ушла, он начал изливать мне душу; это очень интересно. Приходят какой-то субинспектор и г-н Пеле (со Стеклянного завода); откровенно высказываю свои мысли; твердый характер этого человека нравится мне, а мой - ему. Интересно провожу здесь время до часу.
В четверть второго являюсь к Дюгазону, одетый довольно безвкусно; я очень весел и почти не смотрю на Мелани. Дюгазон читает мне всю первую сцену Созия; он очаровательно естествен. После него эту сцену играю я. "У него получается эта роль". (Однако отсюда еще дьявольски далеко до "Мизантропа".)
Около половины третьего провожаю Мелани домой; в половине четвертого приходит Фелип. Мелани велит никого не принимать. Она попросила меня прийти к ней завтра в час читать роль Тезея; я заинтересовал ее. Она первая спросила меня, как поживает девушка, которую мы встретили вчера, выходя из Тюильри. Пуля попала в цель.
Думаю, что мне будет нетрудно заставить ее побаиваться Фелип.
До отъезда закончу Гельвеция, первый том Траси и затем "Летелье". Работать над ним каждую минуту, когда я бываю один, остальное время проводить с Луазон.
Кажется, я наконец нашел свой путь; следовать ему. Сегодня счастливый день.
30 вантоза XIII г. (21 марта 1805 г.).
Умение вести разговор - это талант. Детали могут быть какие угодно, и человек должен извлекать их из любых обстоятельств, придавая им свою окраску.
Как-то Мелани сказала мне: "Не будь женщины кокетками, вы бы заставили нас сделаться ими".
Сегодня я говорю: "Не будь мы фатами, женщины сделали бы нас ими".
Третьего дня я был нежным и покорным влюбленным. Вчера я понял, что фатовство может принести хорошие результаты. Сегодня я был фатом, таким, каким надо быть всегда; я сочетал мое фатовство с самыми нежными словами, но слова эти были сказаны несколько менее значительно, чем если бы они исходили из непосредственного чувства, и что же - никогда еще я не был так привлекателен в глазах Мелани!
Я вижу, что, описывая мои переживания, я ослабляю их, придаю им серьезную и суровую окраску. Это происходит оттого, что, во-первых, я не могу записать их так же молниеносно, как переживаю; во-вторых,- и в этом виновны мои занятия поэзией,- оттого, что, рисуя их, я их объясняю.
Мое фатовство было очаровательно; оно не оскорбило ее, а показало, что я человек, которым ей не следует пренебрегать, и в то же время подало ей надежду меня исправить.
Кроме того, это фатовство выгодно оттеняет мое поведение в последние две недели. Чувство было тогда простодушным и чистым; сейчас я предстал перед ней очаровательным, остроумным, и ей показалось, что я немного к ней охладел. Из этого она должна сделать вывод, что в те дни я был от нее без ума.
Я в восторге от нее, очень доволен собой, очень счастлив.
Через шесть лет я не стану тратить полтора месяца на то, чтобы достичь столь малого у женщины, которая мне нравится; думаю, что уже к концу месяца она будет моей. Но буду ли я столь же счастлив через шесть недель? Счастье - это все. "Сердце - это все",- говорит нежная Ариадна. Будет ли тогда мое сердце таким, как сейчас?
Как верно, что мудрость дает счастье! Стараться стать еще более изощренным в искусстве применяться к обстоятельствам.
Все, что я написал на этих двух страницах, слишком отзывается выдумкой. Они были бы восхитительны, если бы я попросту рассказал о восхитительных обстоятельствах, которые и помогли мне сделать эти выводы.
Я явился к Мелани в час. Мне казалось, что было позднее. Выглядел я очень хорошо, и завтрак у Шеминада вызвал во мне веселость и нежность; ничего другого я не чувствовал. Я был настроен как нельзя лучше. Мелани я застал с каким-то мальчуганом (родственником ее служанки). Я вел себя непринужденно и был любезен, но несколько холоден. Она сказала, что собирается идти на улицу Блан-Манто.
В ответ на это я сказал с величайшей естественностью, что провел там все утро в снятой мною комнате.
"Какой вы повеса!"
"Вы мне льстите!"
Такое начало послужило поводом для превосходной совокупности (рисунка) разговора, все детали которого были проникнуты приятным фатовством, описанным мною выше.
Я сказал ей, что был там с другой Мелани, женщиной, которая разводится с мужем, уроженкой Нормандии; что меня особенно рассмешило одно обстоятельство: я знал, что мы находимся здесь вместе в последний раз, а она с восторгом говорила о счастье, которое в будущем ждало здесь нас обоих.
Такова канва. Это фатовство заинтересовало ее чрезвычайно; помнить об этом, а то я чуть было не срезался. Вот оно, фатовство в действии; оно больше нравится нежнейшей из женщин, чем самое чистое чувство.
Она меня спросила, виделся ли я с той девушкой; я ответил, что все идет отлично, что она по-прежнему плачет; тут она посочувствовала ей с минутку.
Я сказал (во время второго визита), что накануне не произнес за весь вечер и двух слов, что играл в бульот, сидя напротив Эдокси*, с которой мы вели разговор при помощи взглядов.
* (Эдокси - все та же Викторина Мунье. Именно ее Стендаль встретил 17 марта неподалеку от Тюильри, гуляя с Мелани.)
Эдокси - имя, данное мною молодой особе, которую мы встретили в воскресенье, выходя из Тюильри.
Мелани стала одеваться, чтобы пойти в два часа на улицу Блан-Манто. Я сказал, что воспользуюсь этим временем и зайду к пожилым дамам, где будет Эдокси.
В четверть третьего мы вышли; я пошел к Барралю. Так как его сплин мог навести на меня тоску и испортить мой тон, я развеселил его, рассказав, каким способом можно разбогатеть в Индии. В конце этого разговора я был кокетлив. Чтобы быть веселым и завтра, надо будет пойти завтракать к Марсиалю, а оттуда мы сможем отправиться вместе к Дюгазону.
Ровно в три часа я с торжествующим видом вернулся к своей "Принцессе". У меня было все, что придает красоту внешнему облику: я был весел, я был счастлив, в течение последних двух часов я имел несомненный успех, я был прекрасно одет.
Я вошел; ее первый взгляд (результат принятых ею решений) был рассеян и равнодушен; но равнодушие было преувеличенным, и таким был только первый взгляд.
Именно во время этого второго визита, который длился от трех до четверти пятого, я и был по-настоящему привлекателен в ее глазах.
Она спросила, видел ли я эту девушку. Я ответил: "Да, под конец, когда я уже собирался уходить, но дела мои с ней идут плохо, она разговаривала со мной самым небрежным тоном", и т. д., и т. д.
"Смотрите, не влюбитесь в нее".
Вот каков был общий тон нашего разговора: нежный, глаза, влажные от слез. Мы сидели рядом, я держал ее руки, она часто вздыхала; был момент, когда ее глаза увлажнились еще больше; руки у нее были очень горячие, они были влажны от пота. Такое состояние бывает в минуты тревоги и страсти (в известной степени). Я слегка сжимал эти руки, она тоже слегка пожимала мои. В этот момент она любила меня. Лицо ее выражало величайшую растроганность.
Вот, пожалуй, самый сильный порыв нежного и глубокого чувства, какой я когда-либо вызывал в своей жизни.
Она не решалась взглянуть на меня: в ее глазах я мог бы прочесть ее душу.
Такое примерно состояние длилось в последние три четверти часа моего визита. Мы говорили медленно, мы наслаждались нашим счастьем, она без сопротивления отдавалась моим поцелуям. Как далека она была от той решимости, с какой еще вчера ответила мне, когда я попросил ее подарить мне на прощание один поцелуй: "Ни одного, даже самого маленького".
Она поцеловала меня, и этот поцелуй был чудесен.
За это время мы сказали друг другу тысячу разных вещей. Она часто упоминала о другой Мелани и об Эдокси.
Я рассказал ей, будто сегодня утром хотел сказать другой Мелани, что шоколад, который мы с ней пили, доставляет мне большее удовольствие, чем она сама,- но сказать это в завуалированной форме и, следовательно, тонко.
Мелани заявила, что это было бы грубо, что я вообще говорю женщинам грубости и что как-то раз я сказал большую грубость и ей самой.
Раздался звонок. "Это он, черт бы его побрал!" Я поцеловал ее три или четыре раза подряд. Она прочувствовала мои поцелуи.
Вошел г-н Леблан; она сумела завязать общий и очаровательный разговор. Ее ум вне всякого сравнения. Она высказала о боге и о душе все то, что об этом думаем мы с Мантом, и в этом глубоко философском споре полностью одержала верх над г-ном Лебланом, защищавшим бога. А ведь она никогда не читала ни Гельвеция, ни Траси, ни Бейля!
Вот лучшее доказательство редкого природного здравого смысла. Все, что она сказала, было придумано ею совершенно самостоятельно. Найдите мне другую женщину, которая бы сделала то же самое. Будь здесь человек шесть, я блеснул бы познаниями и красноречием, но я воздержался, ограничившись шутками, и напрасно: мне следовало быть самим собой, быть естественным.
Наконец я собрался уходить.
- Прощайте, до завтра,- было сказано мне самым нежным голосом.
Она протянула руку; я не поцеловал ее. Леблан не видел нас; было бы забавно сделать так, чтобы он услышал звук поцелуя.
Таков безжизненный остов очаровательнейшего часа, сухой чертеж Борромейских островов и берегов Лаго-Маджоре; все правильно, и вместе с тем нет ничего, что бы меньше походило на то представление, какое сложилось об этих островах в наших очарованных душах. Чертеж показывает нам все, чего мы не видели. Но прекрасное побережье, восхитительный лес - где они?
Мелани поистине создана для того, чтобы быть Нинон, с той разницей, что она за всю жизнь будет, должно быть, иметь лишь трех или четырех любовников. Это тем более верно, что ее характер вовсе не "наигран", что он естествен; она даже не читала о Нинон, она вовсе не стремится во что бы то ни стало обладать ее характером, как более счастливым или более привлекательным; у нее он таков от природы.
Вот достоинство, которое всегда останется незаметным для Марсиаля.
Более того, возможно, что он замечает только недостатки,- не говоря уже о чувстве мести, которое, по всей вероятности, внушило бы ему сознание чьего-нибудь превосходства. Вот и верьте сложившимся репутациям. Создавайте представление о людях по рассказам путешественника. Самое большее, если он сумел подметить вибрации собственной души. Но что, если эта душа ничтожна?..
Она попросила меня принести ей историю Карла V. Мы заговорили об истории Робертсона, она горит желанием прочесть ее. Горит желанием! Найдите мне дочь государственного советника, какую-нибудь светскую девушку из парижского общества, у которой было бы такое желание.
Раз в неделю ходить завтракать к Шеминаду, раз в неделю к Марсиалю; посмеемся.
Ничего больше не видя, я начинаю пальцами наигрывать на столе, и этот шелестящий звук проникает мне в самую глубину сердца, вызывает дрожь, глаза мои наполняются слезами. Как верно, что человек с чувствительной душой всегда музыкант! Отвезти моей прелестной Полине партитуру "Тайного брака". Она вкусит это райское блаженство. Пишу, не различая ни одной буквы.
Вот радости, которые находятся за тридцать миллионов лье от тех, у кого холодная душа. Вот поэт!
Если мне придется выразить это чувство в трагедии, то, конечно, через два дня после того, как оно будет описано, оно уже не будет нравиться мне так сильно, ибо я и сам несколько охладею, и, тем не менее, его не следует выбрасывать оттуда.
Вот детали, которые не могут войти во французскую трагедию - в ту трагедию, которую мы имеем сейчас.
Но она изменится, можете не сомневаться в этом.
Вот чувство, которое наделило бы меня волшебным голосом, будь я актером.
Этот звук во мне; надо научиться слышать его - это во-первых, а во-вторых, воспроизводить его.
Когда я читаю стихи из "Танкреда", у меня мягкое горло и жесткие губы (как тогда, когда выражаешь нежное, не суровое чувство).
1 жерминаля XIII г. (22 марта 1805 г.).
Ложусь спать, чтобы убедиться в том, что день действительно кончился. А между тем, если взвесить все, он был для меня очень счастливым. Впрочем, разве может быть счастье близ любимой женщины, если не обладаешь ею?
Бережливость испортила мне этот день. Вчера я не ночевал дома. Вернулся домой в одиннадцать часов. В половине первого явился к Дюгазону. Он ждал какого-то русского. В четверть второго он поручает мне сходить за Луазон и сказать ей, чтобы она слегка нарумянилась. Встречаю ее на площади Виктуар, бегущую, прелестную. Мы возвращаемся к ней, она со смехом наряжается. Уходим от Дюгазона в половине третьего, причем со мной он так и не занимался. Луазон очень хорошо исполнила Федру.
Идем гулять и возвращаемся в четверть шестого. Сегодня утром я получил двести франков, из которых у меня осталось свободных только двадцать семь ливров; это превратило меня в скрягу, такого же, как те, которые снабжают меня деньгами. Она сказала, что пойдет на "Никомеда", я все время следил за ней из третьего яруса. В пятом акте спускаюсь в партер. Не успел занавес опуститься, как она убежала на моих глазах со своей обычной грацией, и я потерял ее из виду. Иду к ней раз, другой, третий, два раза поднимаюсь наверх; ее нет.
С минуту я постоял возле ее дверей; мне показалось, что туда вошел г-н Леблан. Если так, все ясно: из театра, куда я должен был зайти за ней, она поспешила домой, чтобы принять ело у себя. Может быть, у нее есть с ним какие-то дела? Может быть, она обманывает меня? Это совсем нетрудно.
И ведь только необходимость сэкономить четыре ливра и восемь су виной тому, что я потерял этот вечер. Если бы я пошел в первые ряды партера, то все время был бы с ней рядом. У меня был бы блестящий вечер. Сегодня это было мне необходимо, я был совсем не остроумен в ее обществе - ни одной крупицы вчерашнего красноречия. Не знаю, почему, но первые минуты, которые я провожу с ней, всегда холодны.
Хорошее в сегодняшнем дне то, что, когда мы были на Елисейских полях, она сказала мне по секрету, что читает стихи Фонтану; она сказала, чтобы я пришел, что мы будем читать вместе, что ей больше нравится читать их со мной, чем с г-ном Лебланом, и тут она стала всячески бранить г-на Леблана.
Потом, когда в пять часов мы пришли к ней, она посмотрела на меня и вздохнула.
Если бы из-за нелепой заботы о своем здоровье я не отказался от вина за завтраком, если бы из-за глупой экономии я не пошел на галерею, у меня был бы восхитительный день. Мне особенно жаль вечера. Я виделся с ней утром и, значит, вечером был бы в ударе - я в этом уверен. Завтра пойти туда в двенадцать часов.
Я страшно устал душой и телом. Этот день был полон событий, разного рода страстей и беготни.
Никогда еще я так не наслаждался "Никомедом". Все в нем величественно.
Решено: завтра я скажу ей, придя к пятому акту: "Мне не повезло, Эдокси не пришла". Шутливо рассказать, как вчера я, ревнуя, дежурил на улице Нев-де-Пти-Шан. Проследить за тем, как она рассмеется в ответ на это; я сразу пойму, застал ли ее г-н Леблан, он ли это был, узнал ли он меня.
Я сущий ребенок; если она обманывает меня, то, право же, для этого не требуется особенной ловкости.
Мои страданья вам доставят мало чести.
Но если она обманывает меня, то зачем я ей нужен? Она может воспитать меня. Сегодня утром она сказала, что мне следует проявлять больше тонкости в моей манере подсмеиваться над людьми. Бот истинный друг.
Неужели это только девка, как многие другие? Утром она обратила мое внимание на красивую шляпку.
E un re? E un birbante?* Весь день думаю об этом. Несомненно одно: что она очень умна, что у нее большой талант в области обожаемого мною искусства и что она сделает из меня человека.
* (Кто это - король? Или плут? (итал.))
Но мысль о том, что она изменяет мне, приводит меня в отчаяние. Завтра пойти посмеяться к Марсиалю и уйти от него в двенадцать часов.
Завтра строго придерживаться методов фатовства, описанных выше. Она не видела меня во Французском театре, я же видел ее все время. Вид этой соломенной шляпки доставлял мне наслаждение. Завтра твердо придерживаться методов фатовства.
Я больше пережил за этот день, чем за два месяца моего пребывания в Гренобле в XI году.
Я все еще считаю, что она окажется мне очень полезной для развития моего таланта.
2 жерминаля XIII г. (23 марта 1805 г.).
Прекраснейший день.
Какую скучную, пустую болтовню представляет собой разговор людей даже неглупых, когда он не направлен!
Я сознаю этот недостаток и, следовательно, могу от него избавиться; в тех случаях, когда я не побоюсь оказаться тяжеловесным, направлять разговор.
Все утро я проболтал с Марсиалем о придворных интригах, а в двенадцать часов пошел к Мелани.
Мы дурачились до половины второго. Она, бесспорно, имеет на меня виды. Но я чувствую, что никогда не сумею взять эту женщину приступом.
Мне некогда приводить множество очаровательных подробностей. Полтора часа счастья, талант - не очень большой и не очень маленький, прекрасная посредственность.
В половине третьего снова пришел к ней. Застал Леблана и Шатонефа. Последний промучил ее до пяти часов. Посреди разговора я сказал ей явную дерзость. В этом был виноват мой талант.
Я посоветовал ей разучивать роли, наиболее далекие от ее характера, например, роль Клеопатры. Я сказал г-ну Шатонефу:
- Мадмуазель совсем не капризна.
Смысл, который придают в высшем обществе словам "не капризна", был ясен. Привычка придавать каждому слову верную интонацию тоже сыграла тут роль; моя интонация откровенно и естественно сказала:
"Известно, что мадмуазель принадлежала всем и каждому".
Это прозвучало в высшей степени пикантно. Кажется, у нее выступили на глазах слезы.
Леблан и Шатонеф, которые постоянно встречают меня у нее в доме, не могли не подумать, что она была моей любовницей и уже надоела мне.
Это была глупость; я исправил ее внезапной грустью, если только можно было ее исправить.
Рассыпаться в бесконечных извинениях при первой же встрече, начать с этого.
Сегодня утром она рассказала мне какую-то басню про вчерашний вечер. Факт тот, что либо она провела вечер с Лебланом, либо бог знает где.
Шатонеф убийственно скучен - это несомненно.
Возобновить шутливый тон при первой же встрече у нее дома.
Смотрел с Крозе "Всеобщего наследника" и "Ревнивую мать". Легкая лихорадка, вернувшаяся ко мне после того, как я выпил у Шеминада слишком много какао, мешает мне правильно судить о "Наследнике", которого я вижу впервые. Он кажется мне холодным. Дюгазон в нем великолепен. Вторую пьесу мы смотрели с самых верхних мест.
Понедельник, 4 жерминаля XIII г. (25 марта 1805 г.).
Мне необходимо немного поразмыслить о своем поведении. Делаю это с пером в руках, что ослабляет влияние страстей на суждения, которые выносишь о самом себе.
Вчера в двенадцать часов пришел к Дюгазону. половине второго вместе с г-жой Мортье явилась Луазон, одетая довольно изящно. Луазон сказала, что она больна, что она не сможет читать; она была прелестна. В ее глазах светилась любовь; моя немая игра казалась удачной, она усилила ее чувство.
Госпожа Мортье стала читать начало "Заиры"; моя немая игра так хорошо передавала все чувства Заиры, то Луазон заметила ее и вполголоса обратила на меня внимание Дюгазона. Я услышал это, и дело пошло еще лучше. После куплета Дюгазон начал разглагольствовать по этому поводу и заставил меня прочитать отрывок. Это отнюдь не повредит мне в глазах Луазон. Она стала читать "Федру". Пришел какой-то португалец по имени Кастро; Дюгазон начал вести себя почти как шарлатан, а Мортье - совсем как распутная девка. Мы ушли в четверть четвертого, причем Луазон была возмущена (судя по ее словам) поведением Мортье. Она рассказала мне несколько других историй в таком же роде. Мне кажется, она немного ревнует к Мортье.
Ей было холодно, мы пошли к ней. Я предложил пойти съесть котлетку в кафе Китайских бань, она охотно согласилась, и, по-моему, в этой неожиданной готовности обнажилась вся ее душа.
По дороге в кафе и дома она была чрезвычайно весела и, видимо, больше не считала нужным замыкаться от меня. Я чересчур щепетилен: видя, что приглашение на завтрак принято благосклонно, я не решился просить о большем.
Будь у меня тот талант, который я стремлюсь приобрести, я бы тотчас же связал ее обещанием, я был бы блестящ, был бы очарователен в обращении с ней. Вместо этого я был любезен в стиле Монтескье.
Она рассказала мне о своих затруднениях таким тоном, который даже..
Званый вечер у Ариадны в понедельник 4 жерминаля XIII г.
В девять часов Крозе, Бассе и я приехали к Ариадне в отличном экипаже. Мы застали у нее г-жу Сюэн*, г-жу Ла-Шассень** и трех - четырех педантов, которые, как и мы, явились слишком рано.
* (Г-жа Сюэн (1742-1817) - актриса Французского театра.)
** (Мари Ла-Шассень (1747-1820) была актрисой Французского театра с 1766 по 1803 год.)
Описание вечера у м-ль Дюшенуа написано совместно Л. Крозе и Стендалем; мы приводим лишь ту часть, которая была написана рукой Стендаля.
Один из этих педантов спросил у м-ль Ла-Шассень, не сидела ли она во время революции в тюрьме; та ответила, что считает это честью для себя, что туда посадили весь театр, и принялась с комической важностью без конца повторять слова: "весь театр". В них был лишь один недостаток - они не соответствовали действительности: Тальма, Моле, Монвель, Дюгазон не сидели в тюрьме. Г-жа Сюэн держала себя вполне прилично и ничем не нарушала хорошего тона.
Вошел красивый молодой человек. По его глубокому и быстрому поклону я узнал в нем Армана. С ним было какое-то маленькое горбатое чудовище с ужасной физиономией - его жена.
Затем вышла из своей комнаты Ариадна в полном параде. Длинное платье придавало ей натянутый вид. Она начала с того, что поклонилась некоторым из присутствующих, подставила щеку для поцелуя Арману и г-же Арман, села, а затем уже поклонилась остальным,, В числе этих остальных оказались и мы.
Тут вошел высокий молодой брюнет; его манера кланяться показалась мне столь же совершенным образчиком всего глупого и смешного, сколь совершенным образцом изящества кажутся мне поклоны Флери. Это был г-н Мильвуа. Вооружившись очками, он начал повсюду искать Ариадну, чтобы поговорить с ней. Затем он сел на колени Арману, но тот спихнул его и дал ему место рядом с собой. Мильвуа - отличный поэт, если верить Ариадне, которой он посвятил два недурных стишка и один посредственный.
Затем явился некий г-н де Муси и сообщил Ариадне, что ни г-н и г-жа Легуве, ни г-жа Сент-Обен прийти не могут. Итак, нам оставалось рассчитывать только на Гара, Дюпора, м-ль Конта и м-ль Марс.
Пришла г-жа Жомар с дочерью; она уроженка Валансьенна, из прихода Сен-Никола, и живет в Париже близ Тиволи. Ариадна поцеловала обеих, Когда г-жа Жомар села, она заметила маленькую яблоньку, которую прислала Ариадне еще утром; яблоня была обернута в бумагу, и видно было, что до сих пор никто так и не разворачивал ее; должно быть, на этой бумаге были написаны стихи. Г-жа Жомар схватила ее и поспешно сунула в карман. Тогда Ариадна, не обратив внимания на этот жест, сказала: "Ах, благодарю вас за цветы". И велела унести их.
Время шло, все томились скукой. Чтобы оживить праздник, Ариадна решила подшутить над г-жой Коклен, особой, которая живет у нее в доме, которая имеет только четыре фута роста, которая была когда-то начальницей пансиона, где она училась, и которую ей, как человеку с добрым сердцем, следовало бы пожалеть, а как светской женщине - оградить от насмешек. Она заставила ее петь и играть на фортепьяно.
Госпожа Коклен оказалась очень смешной: дрожащий, фальшивый голос, дурная школа, зато большое самомнение и непоколебимая уверенность. Ариадна смеялась ей в лицо, но это не помешало старушке преподнести нам песню в пять куплетов и вполне серьезно принять всеобщие комплименты; она извинялась только, что была не столь блестяща, как могла бы быть, так как давно уже не играла.
Несмотря на все это, оживить общество никак не удавалось. Надумали исполнить трио, и концертанты ушли сыгрываться.
Примечание. В состав трио входила и г-жа Коклен.
(6 жерминаля XIII г. (27 марта 1805 г.).)
Как всегда, был у Дюгазона; вначале, следуя своему похвальному обыкновению, был довольно холоден; пришла Луазон и даже не соблаговолила взглянуть на меня. Время от времени она дарила чарующими взглядами этого глупца Вагнера. Это заставило меня расстаться с моей холодностью и сделаться любезным, но только не ради нее. Я принялся осыпать комплиментами маленькую Мортье, за которою начал недвусмысленно ухаживать. Я не думал о том, чтобы быть любезным; больше того, мне казалось, что сегодняшний урок способен заморозить так же, как и погода. Вместе с Мортье проводил Луазон и зашел к ней. Пришла Фелип. Мортье сказала, что сегодня вечером собирается вместе с Вагнером на бал к Бургуэн.
Я смотрел в это время на Мелани; она побледнела, стала совсем зеленая. Не влюблена ли она в Вагнера, не ревнует ли?
Я был предприимчив с Фелип, которая не рассердилась.
Едва эти дамы ушли, как Мелани сказала:
- Как хорошо вы уловили тон этих женщин! Как вы говорили! Может быть, вы и меня обманывали, может быть, вы притворялись?
Она дважды повторила слово "притворялись"; она произнесла это, как и все остальное, самым естественным и непринужденным тоном. Вот наиболее крупный успех за время знакомства с нею, и он тешит мое тщеславие; он исключителен, он радует меня не сам по себе, а как шаг вперед к моему торжеству, и сегодня (8 жерминаля XIII г.) для меня это уже древняя история.
Затем, сказав после длинной паузы: "Вы, может быть, обманываете меня, вы...", и т. д., и т. д. и пристально взглянув на меня, она вдруг ни с того, ни с сего решила, что это не так.
Что касается меня, то я понял не сразу, о чем она, в сущности, говорит, и после этих реплик был с нею очень мил и внимателен.
Ясно, что, на ее взгляд, я слишком любезничал с г-жою Мортье и с Фелип. Если я когда-нибудь вел себя с ней, как чурбан, это было для нее доказательством того, что я влюблен.
Она первая заговорила об Эдокси. (У Эдокси, оказывается, есть мать.)
7 жерминаля (28 марта).
Прихожу к ней в два; она отсылает меня под предлогом, что ей нужно работать: ей не хотелось видеть меня у себя. Она велела мне прийти снова в четыре; являюсь к ней настроенный легкомысленно, любезный, щегольски одетый. Меня не впускают, так как она одевается.
Вечером вместе с Крозе захожу в ложу к Ариадне,
которая только что сыграла впервые Камиллу. Ее лицо особенно выразительно, таким я его никогда не видел; взгляд ее - неземной. Она решила, что плохо сыграла роль, плохо произнесла проклятие, так как не прочувствовала его из-за Лафона. Но мы, гнусные льстецы, отравили ее нашими похвалами и помешали ей, может быть, достигнуть в этой сцене должной высоты. Лемазюрье был невыносимо угодлив; Марсиаль хвалил вполне искренне - он мало понимает в искусстве; Крозе и я - мы также осыпали ее похвалами, причем я - более, чем Крозе; сейчас я стыжусь этого. Выйдя, мы стали прогуливаться в Пале-Рояле. Крозе был великолепен, я никогда еще не видел его столь блестящим; он был полон благородного и пылкого негодования по отношению к тем, кто расточал лесть Ариадне. Это был настоящий Альцест д'Эглантина, притом безупречный; в нем не было и следа той легкой апатии, которая ему свойственна, он был возвышен в духе Альцеста; вот каким следует представлять себе образ, самый прекрасный из всего, что существует на комической сцене.
По-моему, это был самый замечательный день для Крозе.
Г-жи Сюэн и Ла-Шассень были в ложе Ариадны, Первая говорила очень хорошо и умно. Ее лицо приобрело оттенок какой-то угодливости, когда она заговорила с Ариадной о роли, которую та должна для нее сыграть.
Этот оттенок угодливости на уже старом лице глубоко меня огорчил; он заставил меня увидеть воочию одну из горестных сторон жизни.
Пятница, 8 жерминаля (29 марта 1805 г.).
Сегодня я чувствую в себе какую-то особенную остроту мысли и бодрость, и поэтому поведение мое в последние дни представляется мне дурацким. Вот уже опять философствование. Внутри меня сидит дьявол, норовящий показать всему свету тело, с которого содрали кожу. Я уподобляюсь художнику, который, задумав прославиться в жанре Альбано*, начал бы - что разумно - с изучения анатомии, но, находя в ней для себя пользу, настолько увлекся бы ею, что, стремясь восхитить людей, вместо изображения прелестной женской груди принялся бы рисовать обнаженные и кровоточащие мышцы, из которых она состоит. Они вдвойне отвратительны, так как изображены со всею правдивостью; если бы они были выдумкой, их презирали бы, но они - сама истина, они преследуют воображение.
* (Альбано (1578-1660) - итальянский художник, ученик Кар-раччи, писавший преимущественно ча мифологические сюжеты в несколько слащавой и натянуто-изящной манере, почему и получил прозвища: "Художник граций" и "Анакреон живописи". Стендаль всегда высоко ценил его, между тем как "натуралистическая" живопись того же периода вызывала его негодование.)
О, несчастный! Спору нет, женщинами руководит выгода! Но позволь мне забыть об этом в объятиях моей Мелани, дай мне иллюзию хотя бы на мгновение! Разве когда-нибудь знание истины может сравниться с нею!
Начав столь великолепно в стиле ученой галиматьи и неожиданно перейдя к высокому пафосу, следует восстановить честь Мелани, которая, кажется, подверглась с моей стороны нападению; эта женщина в моих глазах все так же очаровательна, мое представление о ее характере нисколько не снизилось. Впрочем, горе придает характеру известную величавость.
Моя склонность к высокому пафосу, вытекающему из возвышенной философии в духе Паскаля, "Элоизы" Руссо и пронизанных страстью возвышенных отрывков из Расина, Корнеля, Шекспира, до сих пор безраздельно владела мною. Она никогда не позволяла мне предаваться веселым и бесхитростным разговорам, милым и легкомысленным сумасбродствам, как у Реньяра.
Итак, оставим серьезность, которую всегда порождает мысль, прикованная ко всему великому. Это монета, за которую покупают бессмертие, а не милые улыбки и нежные рукопожатия. Отдохнем от первого, сменив его на второе; наедине будем думать о славе, в обществе - о том, как быть занятным, чтобы прослыть за человека любезного.
Всем этим я буду обязан Мелани, серьезной, нежной, довольно часто впадающей в меланхолию, интересующейся тем же, что и я. Я не могу еще изложить ей мои сокровенные мысли; чем возвышеннее они становятся, тем яснее я вижу, что в состоянии заставить себя понять, лишь изложив их письменно.
Итак, используем свое настроение, чтобы быть любезным. Единственное, что выручало меня до сих пор, это мой юношеский пыл.
Этот пыл у меня в крови; необходимо установить для себя более спокойный режим. Необходимо пропустить несколько уроков у Дюгазона: это заставит меня усерднее готовиться к ним. Я начинаю освобождаться от своего преклонения перед страстями и ценить разум. Поскольку он столь полезен, я буду обладать им, это не труднее, чем что-либо другое.
В половине первого пришел к Дюгазону; там были Мелани и Вагнер. У меня сильные подозрения насчет Вагнера: вполне возможно, что он был любовником Мелани; но я еще слишком ребенок, чтобы осмелиться решить этот вопрос; она улыбается ему. Это так, я вижу, но что все это значит?
Госпожа Мортье приходит с опозданием, затем г-н Кастро, португалец; Дюгазон - ловкий пройдоха. Занимаю место сбоку от Кастро и интригую взглядами г-жу Мортье; заставляю сильно смеяться Мелани и без единого слова завладеваю вниманием г-жи Мортье; та делает г-ну Кастро смешные авансы. Дюгазон ошибается в толковании большого отрывка из "Федры", он против нежной грусти в словах:
Ах! Видеться они могли без опасенья,
А Мелани не желает, чтобы последние четыре стопы следующего стиха произносились радостно:
Куда спастись? В Аид? Укрыться вечной тьмою? Но - ах! - и т. д.
Она заблуждается. Она не умеет судить о страстях так же последовательно, как я. Как-нибудь написать ей три или четыре странички об этом.
Комизм г-жи Мортье приводит в оживление Луазон, она признательна мне за то, что я потешаюсь над этой дамой; мы выходим вместе. Проходя мимо магазина мод, что на углу площади Побед, она заходит туда, чтобы примерить шляпку; с нее спрашивают 24 ливра, она дает 18. Не хочет ли она, чтобы я подарил ей эту шляпку?
Мы пробыли вместе до четверти пятого, все время испытывая безграничную близость, будто я только что обладал ею и мы оба истомлены. Отправился смотреть "Британника", в котором дебютировал некий Мишло. Вернулся домой в половине двенадцатого.
После полудня отправился к Луазон. Она взяла мои руки в свои и, разговаривая, сжимала их. Очень живо она рассказала мне несколько случаев из своей жизни; она держала себя со мной так, словно я был счастливый любовник. Я смешил ее, воспроизводя пантомиму, которую разыгрывал перед г-жою Мортье.
Милейший Дюгазон, надо полагать, порядочный негодяй; она рассказала мне следующее: "Когда я только начала посещать Дюгазона, он сделал мне грязное предложение. Он сказал: "Ты хорошо знаешь этого человека, ты видела его во Французской комедии, он пожирает тебя глазами. Так вот, он влюблен в тебя. Его зовут Баччокки. Хочешь, я повезу тебя к нему в загородный дом, он будет давать тебе двадцать пять луидоров в месяц". По ее словам, у нее потемнело з глазах, и она отказалась. В другой раз Дюгазон сказал ей: "Не отдавайся, по крайней мере, за шляпку; нужно уметь извлекать пользу" и т. д.
Чтобы покончить с Дюгазоном: сегодня утром я попросил у него билет в партер; он должен мне сорок четыре су, но, разумеется, не вспомнил об этом; итак, перед нами сводник и не слишком щепетильный в денежных делах человек.
Я попросил у Луазон разрешения проводить ее вечером; она охотно согласилась. Впрочем, поскольку нам все равно было по пути, это не более чем условность. Рассказать ей завтра, что я слушал трагедию из глубины ложи и, дав служителям на чай, пробрался в передние ряды, где и находился во время маленькой пьески.
Ныряя и взлетая на воздух, подобно Сатане, стремящемуся добраться до неба, я наконец оказался позади нее в первых рядах кресел. Я заговорил с ней, она спросила меня смущенно, как я себя чувствую, и ушла с Лебланом, избегая моего взгляда.
Возможно, что этот негодяй внушает ей некоторое почтение, потому что сочиняет трагедии и знаком со сценой; написать ей в ближайшие же дни письмо в семь - восемь страниц на тему о познании страстей; в нем я покажу ей ум и сердце, страсти и состояния, в которых проявляется страсть. Это письмо, в котором все будет понятно и ясно, в котором я буду говорить ей о ней же, поднимет меня в ее глазах.
"Британник" на сцене произвел на меня такое же впечатление, как и при чтении: та же вечная изящная болтовня. Тальма до сцены с матерью играл, в общем, посредственно; но в этой сцене и во всех дальнейших он поразил меня своей естественностью. Качество роли, как мне кажется, для талантливого актера не имеет существенного значения; я мысленно представляю себе дрянную роль, которая может быть так же хорошо сыграна, как хорошая.
Дебютант, очень тусклая личность, в жестах подражает Тальма; он весьма посредствен в трагедии, без голоса. Чуточку лучше в комедии.
Бургуэн, так же как и Депре, освистали. Я, кажется, впервые смотрел "Британника". Эта пьеса утомила меня, нагнала на меня скуку, оставила тягостное впечатление.
12 жерминаля (2 апреля),
Счастливый день.
Вернулся с Крозе из театра, где давали "Горация"; Ариадна играла Корнеля всего второй раз; она была очень посредственна; это уже не исполнительница Федры, Гермионы или Роксаны. Во всей трагедии мы не обнаружили ни одного действительно хорошо произнесенного стиха. Все актеры ужасающе холодны. Лафон в роли юного Горация просто смешон, а ведь это была его лучшая роль. И Крозе и я явственно ощущали, что, посвяти мы два года тому, чтобы научиться доносить нашу душу до публики, мы играли бы лучше, чем эти субъекты.
Сзади нас занимали места два "жоржиста", очень забавные и большие любезники, которые веселили нас; на протяжении всей трагедии мы имели возможность видеть подтверждение великого принципа: все смешно.
Мы пошли проведать Ариадну и застали ее совершенно охрипшей; она приняла нас очень приветливо. Мы посмотрели затем со сцены кусочек "Случайного наперсника"*.
* ("Случайный наперсник" - комедия Фора в 1 действии, в стихах (1801).)
16 жерминаля (6 апреля).
В последний раз наша беседа становилась интересной, когда то, о чем мы говорили, увлекало Мелани. Сказать ей завтра:
Мой изумленный дух трепещет перед нею*.
* (Стихотворная цитата - из "Британниха" Расина.)
Она не очень решительно отказала мне в моей просьбе дать свои волосы; впредь настойчиво домогаться этого, и они будут у меня.
Мы заговорили обо мне, о том остроумии, каким я буду обладать в двадцать восемь лет. "К тому времени вы утратите свое главное качество - истинную страстность, которая так отличает вас".
Это не подлинные ее выражения. Она хотела сказать: "Вы не обладаете тем блестящим остроумием, которое забавляет; вы обладаете страстностью, вы утратите ее, не приобретя, может быть, остроумия". Но, может быть, смысл ее слов не был столь суров, как в моей передаче.
Она сказала, держа мои руки в своих:
- Вы остроумны (интонация при этом доказывала: это ваше наименее важное качество).
Я ответил, что вовсе им не владею, и, действительно, вижу это; она продолжала настаивать:
- ...Вам открыта дорога решительно ко всему. У вас много пыла и большая душа.
- Я добьюсь славы.
- Для этого необходимо не только желать, для этого нужны также благоприятные обстоятельства.
Все, что она говорила, она произносила естественным и непринужденным тоном. (Я передаю лишь сущность того, что она сказала, не воспроизводя всех ее выражений, которые были достаточно сильными.)
Итак, она разгадала мою душу. Сердцем ли, умом ли, но она разгадала ее. Раз это так, надо постараться любым способом укрепить в ней, быть может, уже приходившую ей в голову мысль о моих пробуждающихся талантах; остерегаться малейшей фальши, потому что она способна навсегда нарушить очарование. Я пишу лучше, чем говорю; в написанном душа моя раскрывается ярче, отнести ей мои стихи, статью о Федре, и т. д., и т. д.
В представление о прекрасном входит и представление об отваге и той мощи, которой восхищаются в Аполлоне и которая льстит женщине, когда это качество обнаруживается в ее возлюбленном, давая ей возможность сказать себе: "Я сломлю его гордость".
Мое поведение в глазах Луазон совершенно лишено этой черты. Если я все же смогу заставить себя полюбить, то только добившись ее исключительного доверия, а также помогая ей видеть в сегодняшнем Темучине* Чингиса 1820 года.
* (Темучин - имя монгольского хана, получившего впоследствии прозвище Чингисхан.)
Взять ее в наставницы; и в самом деле, я не мог бы сделать ничего лучшего; отнести ей завтра мои стихи.
Я больше не записываю своих сладостных воспоминаний, я заметил, что это нарушает их прелесть.
Научиться ограничивать себя, когда я пишу, подстригать свой стиль, иначе подробности заставляют меня забывать о главном.
Вербное воскресенье, 17 жерминаля XIII г. (7 апреля 1805 г.).
Завтракал у Марсиаля с Дюгазоном, Вагнером, Фужаром, Прево и Дюфреном - субинспекторами, одним военным комиссаром того же типа, что Пофй,- восковое лицо, высокий, тщательно припудренный кок на голове и соответствующий ум,- с Дижоном, кавалерийским майором, и Мезонневом. Был также г-н Комб, и на минуту заглянул Пьер Дарю.
В полдень встретил Дюгазона и Вагнера, когда они сходили с Королевского моста; всех прочих гостей мы застали уже в сборе у Марсиаля. Мезоннев говорил о "Мальтийском апельсине" д'Эглантина*. Обе вчерашние пьесы - лишь подражание ему. Пьеса д'Эглантина принадлежала к более высокому жанру. Я почувствовал, слушая пересказ ее содержания, что комический жанр - моя первая любовь. В пьесе д'Эглантина фигурируют королевская любовница и епископ. Епископ убеждает юную особу отложить свою свадьбу и рисует ей картину благодеяний, которые может совершить добродетельная женщина, имеющая влияние на государя; появляется королевская любовница, мечущая громы и молнии в женщин, которые отдаются главным образом ради выгоды; это очень комично.
* (Фабр д'Эглантин (1756-1794) - французский драматический писатель и деятель революции, якобинец, впоследствии склонившийся на сторону Дантона и гильотинированный.)
Мезоннев сообщил, что ему довелось шесть или семь раз основательно беседовать с д'Эглантином, причем однажды с десяти утра до одиннадцати вечера они листали Мольера, размечая мизансцены.
Я с невыразимым наслаждением слушал этот рассказ. Если бы не моя дурацкая лень, я оказал бы ему услугу, переведя "Агамемнона"*, я отнес бы ему перевод, и мы бы с ним сблизились. Мне кажется, что д'Эглантин - самая гениальная фигура в литературе XVIII века; надежда на придворные милости, толкающая все, без изъятия души, каков бы ни был их характер, к низостям, и затем крушение этой надежды - вот великолепный способ раскрыть внутренний мир придворного. Вот где чувствуется коготь льва; Пирон, Детуш, Грессе, Вольтер, и т. д., и т. д., вместе взятые, не додумались до этого замысла или по крайней мере не смогли разработать его в таком плане.
* ("Агамемнон" - трагедия Альфьери.)
Мезоннев полагает, что эта пьеса осталась ненаписанной, Дюгазон - что существуют три первые акта. Мезоннев завтра еще раз читает в Комедии своего "Недоверчивого"*; сблизившись с ним, я познакомился бы со всем, что бывает с человеком, желающим поставить свою пьесу на сцене. Я мог бы у него многому научиться.
* (Комедия Мезоннева "Недоверчивый" не была ни представлена на сцене, ни напечатана.)
Что касается моих пьес, то я буду иметь великолепного истолкователя в лице Дюгазона. Он сказал Мезонневу: "Они уже расхватали ваши роли? Они делают из этого ремесло и предмет торговли". Он был бы, по-видимому, бесконечно доволен, если бы ему удалось создать новую роль. Это замечательно хорошо для моего "Летелье". Он смотрит на новую роль как на пробный камень актера.
Дюгазон слишком любит балагурить, он выделяется среди всех остальных; впрочем, он находился сегодня в обществе, не отличавшемся ни остроумием, ни веселостью; думаю, что если бы он отделял свои рассказы один от другого, скажем, шестиминутным перерывом, они бы от этого выиграли. Дюгазону неведом хороший тон в обществе, он не умеет себя держать.
Пришел Пьер. Дюгазон показался ему просто балагуром. Дюгазон рассказал нам историю "Моего брата майора". Различие в характерах было в совершенстве передано его игрой.
Затем он рассказал нам "Посещение Бисетра"*. Это рассказ, в котором, как мне думается, он был сильнее всего; как поразительно различие в характерах действующих лиц, как замечательно оно было очерчено!
* (Бисетр - деревня в двух километрах от Парижа; по имени этой деревни дом умалишенных, который в ней находится, также называется Бисетр.)
Надо было бы записать эти рассказы и выучить их. Для меня было бы проще простого создать что-нибудь в этом роде. Вот это я и совершу к двадцати восьми годам и тогда буду душой, общества.
Он рассказал нам также свою "Счастливую серию", посвященную Бонапарту. Он обожает, когда его хвалят как сочинителя.
В общем, гости были не очень оживлены. Мое воображение рисовало мне: 1815 год, я автор четырех пятиактных пьес, имею двадцать тысяч ливров годового дохода; у меня весной в загородном доме, в двух лье от Парижа, за завтраком Дюгазоны, Тальма, Лемерсье того времени и наши любовницы.
Понедельник, 18 жерминаля XIII г. (8 апреля 1805 г.).
Отправился к Мелани около трех. Застал ее еще в папильотках, за раскладыванием белья, которое гладила ее горничная. Она встретила меня счастливой улыбкой. Была бы у нее такая же улыбка для всякого другого мужчины, который застал бы ее в это мгновение, или в ней заключалось нечто, предназначавшееся исключительно для меня? Я недостаточно опытен, чтобы разрешить этот вопрос.
Входя к ней, я чувствовал себя в ударе; если бы я застал у нее двух мужчин, которые вели бы блестящий и веселый разговор, я, возможно, блеснул бы не менее их, а если бы я блистал наравне с ними в первые полчаса, то во вторую половину того же часа я бы их превзошел.
Так как никого, кроме меня, не было, я не ощутил в себе необходимого пыла, чтобы раскачаться; я был слишком достоин любви, чтобы быть любезным. Я предложил ей выйти погулять, она отказалась. Я дал ей сценку "Примирение"*, переписанную наспех и мной не проверенную. Она хотела прочесть ее в моем присутствии; это было восхитительно. Я сказал, не подумав: "Нет, я предпочитаю, чтобы вы прочитали ее, когда я уйду". Это полная противоположность тому, что мне хотелось сказать. Это предложение - глупость, поскольку оно говорит о самолюбии автора, а между тем никогда в моей жизни его во мне не было меньше, чем в эту минуту. Привыкшая к тонкому тщеславию писателей, она тотчас же сказала тем нежным голосом, каким говорят у постели больного, чтобы не потревожить его: "Ну, что же, пусть будет так, я прочитаю это одна".
* (Сценка "Примирение" - отрывок незаконченной комедии Стендаля "Два человека".)
Я хотел сказать: "Вам это будет скучно". Если бы она прочитала этот отрывок, как чудесно я смог бы его декламировать.
Вместо этого случилось совсем другое. Мы принялись ходить взад и вперед по ее маленькой комнатке, взявшись за руки; руки ее были в моих руках. Мы заговорили о ее дебюте и о ее планах на случай, если бы она не смогла дебютировать. Она сообщила, что истратила половину своего состояния, что у нее возник проект уехать вместе с дочкой в деревню. Мы оба были очень растроганы; на глазах у нее выступили слезы.
Наконец, я предложил поселиться с нею в любом уголке Франции, где только она пожелает. Когда она до конца поняла мою мысль - что я готов бросить для нее все на свете и стать воспитателем ее дочери,- она отвернулась лицом к окну и простояла так некоторое время, чтобы я не видел, что она плачет; затем попросила меня дать ей платок. Платка в комнате не оказалось, и я отправился за ним в гостиную, где его гладили. Я не осмелился собственноручно вытереть эти милые слезы. На первый взгляд я поступил неправильно; быть может, я прав в глазах тех, кому понятна душевная тонкость.
Она плакала долго. Очевидно, эти слезы были следствием улыбки, вызванной картиною счастья. Она находила меня бесконечно добрым и от этого плакала. После того, как она снова обернулась ко мне, я еще некоторое время продолжал говорить, пока она не попросила платок.
Ее душа испытала потрясение, которое можно сравнить с растворением, с распадением на части всего существа; подобное испытал в Новом Орлеане шевалье де Грие, когда разговаривал с Манон в своей хижине.
Душевное потрясение, которое я в ней вызвал,- вещь более редкая, чем веселое настроение, и чтобы вызвать его, требуется гораздо больше таланта; впрочем, мне тут нечем хвалиться, оно было совершенно естественным. Мы поговорили еще некоторое время о нашем проекте; мы думали поселиться на берегах Женевского озера.
В ходе нашей беседы я сказал:
- Обо мне жалели во всех тех местах, которые покинул.
- Охотно верю, у вас прекрасная душа.
И она верила этому. Когда, открывая ей свою душу и говоря о занятиях, которым мы предадимся в нашем уединении, я упомянул о том, что постараюсь добиться славы трудами по математике, она с удивлением и даже некоторым восхищением перед столь необыкновенной душою спросила:
- А говорили ли вы об этом Марсиалю? Хорошо ли он знает вас?
- Ах, боже мой, нет, да он меня и не понял бы!
Это лишь самая суть; если изменить название поприща, на котором я жажду завоевать славу, все остальное соответствовало истине. Мне кажется, что этот разговор произвел на нее сильное впечатление.
Я ушел от нее в шесть часов, быть может, немного наскучив ей под конец. Это произошло по двум причинам: мне настолько приятно ее присутствие, что я не могу от нее оторваться; вторая причина заключалась в том, что я всецело отдаюсь наслаждению видеть, обожать ее и не думаю больше о необходимости говорить занятные вещи. И то и другое является следствием любви и отнюдь не способствует ее зарождению в том, кто ее вызывает. Если я не добьюсь торжества, то в этом и будет главная причина моей неудачи.
Она уезжает на неделю в Сен-Жермен-Лаксис, в бывший загородный дом г-на де Жюинье, близ Мелена, ныне принадлежащий г-ну Бьеру, одному из ее друзей.
На следующий день, 19 жерминаля, я не видел ее; это было для меня почти удовольствием; мне было бы мучительно трудно поддержать чарующую взволнованность предыдущего дня.
Я заканчиваю, так как эта подробность, вместо того чтобы принести исцеление, лишь усугубила мою любовь, и, поскольку сегодня (в субботу, которую простофили именуют "страстною") она уехала на неделю, ее отсутствие, очевидно, усугубит мое одиночество.
После ее отъезда я немного работал над "Летелье".
20 жерминаля XIII г. (10 апреля 1805 г.).
Должно быть, Мелани стала более рассудительной и озабочена своим будущим, так как у нее есть дочь, которую она любит и которая останется совершенно без средств, если потеряет мать. В этом, возможно, одна из причин ее грусти; эта причина должна делать ее чувствительной к доброте других.
Словом "стала" я никоим образом не хочу обидеть эту дивную женщину, которая, возможно, обладает возвышенною душой. Она изменит мой характер и заставит меня быть общительнее. Я научусь вносить в общество свою долю занимательности и благодаря этому стану приятным и себе и другим.
Я начинаю понимать, что для того, чтобы быть счастливым или просто благоразумным, следует очень мало думать о будущем. Впрочем, я столько раз имел глупость огорчаться, когда будущее казалось мне мрачным, что мне должно быть позволено извлечь хоть немного радости из созерцания этого будущего, когда оно, как кажется, обещает мне счастье. Похоже, что Мелани навсегда будет мне другом, если только не станет любовницей, и действительно я люблю ее всем сердцем. Если ей не удастся получить дебют во Французской комедии по возвращении г-на де Ремюза*, то вполне вероятно, что она подождет благоприятного момента, когда обратят внимание на состояние Французского театра в Марселе, где у нее, по-видимому, есть друзья. Там же к этому времени будет и Адель с матерью. Разве это не редчайшее счастье? Там же буду жить и я, работая с Мантом в банке.
* (Ремюза, в то время первый камергер Наполеона, в 1807 году был назначен суперинтендантом театров.)
Мне необходимо съездить на несколько месяцев в Гренобль, и даже эта необходимость доставляет мне удовольствие, потому что я увижусь с моей дорогой Полиной. Думаю, что не слишком много на свете братьев вроде меня, которые имеют счастье пользоваться взаимной дружбой девушки, обладающей блестящими способностями и чудеснейшей душой.
Наконец, если я научился благоразумно воспринимать жизнь, я смогу извлечь удовольствие даже из общения с теми ужасающими дураками, которые населяют мою дражайшую родину. Я обязан туда поехать, и туда же едет Барраль. Это спутник приятный, если иметь в виду его сердце, и унылый, если принять во внимание его нескладную голову. Больше того, возможно, что и Крозе нагрянет туда. Это друг, обладающий исключительным умом, самый умный из всех моих друзей, и уж он во всяком случае поможет мне повеселиться за счет гренобльских остолопов.
Чего мне еще желать в моем нынешнем положении? Несчастье, или, вернее, то, что до сих пор я называл этим словом, может свалиться на меня только с одной стороны: я разумею деньги. Ну и что ж! Мой отец скуп, но разве я в этом отношении одинок? Когда мое глупое тщеславие окончательно покинет меня и я смогу быть откровенным, это только возвысит меня в общем мнении. Бьюсь об заклад, что в течение ближайших двух месяцев я добуду 1 000 франков. Я уплачу долги и заживу весело и беззаботно. Уеду, если удастся, 1 мессидора, закончив предварительно "Летелье".
Для этого, впрочем, я ничего не сделал. Беда ли это? Я начинаю исправлять свой характер; меня переделывает милая женщина, которую я обожаю. Ну, маркиз, прыгай!
Как только мне удастся исправить свой характер, склонный к меланхолии из-за дурной привычки и вследствие увлечения Ж.-Ж. Руссо, я приобрету, надеюсь, характер общительный и любезный: веселость лучшего тона, в основе которой лежит нежность.
Будешь ли ты тогда любить меня, Мелани?
10 флореаля XIII г. (30 апреля 1805 г.).
Завтракал с Марсиалем. В два часа - Мелани. Затем к Адели; целый час наедине с нею; позволяю себе небольшие вольности. Затем - к г-же Мартен. От нее к Мелани, с которой хотел пообедать, но не застал ее дома. Отправляюсь обедать, написав четыре письма. После этого - во Французскую комедию. "Тартюф нравов", "Севильский цирюльник".
Я страшно расчувствовался и, следовательно, погряз по самую шею в грусти, а также в сладостном и безотчетном сожалении, что покидаю Париж; это предрассудок. Кого (не считая N.) я здесь оставляю? Что могу сделать без денег? Что стал бы делать без Крозе, Барраля, моих друзей? Мне следует отправиться в такие места, где, хочу того или нет, я найду общество и людей. В Марсель! Пожертвовать всем ради этого.
Прийти в себя мне помогает Дюкло. Остальную часть вечера я весел и бодр. Чувствую в это мгновение, что могу добиться всего, чего так страстно желаю.. Чтобы сохранять хорошее настроение, когда оно бывает у меня, действовать, действовать и действовать, не давая себе времени для размышления; если я отдамся ему, я погиб. В этот вечер я ясно понял, каким должно быть наилучшее поведение в жизни; записать это.
Если Мелани вдруг завтра заявит, что она уже взяла место в почтовой карете, что она не может ехать вместе со мной, я чувствую, что буду в силах перенести это разочарование. Придет время, когда, одержав победу, я смогу позволить себе уступить своему слишком чувствительному характеру; а пока надо видеть в ней самую обыкновенную женщину, анализировать ее сердце, играть на ее страстях; в противном случае я останусь навеки робким и в дураках. Стать любезным и естественным можно лишь после победы, Я уверен, что она будет этим изумлена. Единственная вещь, которая может поднять меня в ее глазах, это мой пыл у Дюгазона.
В Гренобле надо будет неукоснительно следовать этому плану; он приведет меня к поведению, которое кажется мне идеальным; этот план представляет собою лишь последовательный вывод из принципов искусства комедии. Прийти завтра к Дюгазону, приняв вид, насколько возможно, черствого, законченного негодяя. Я чувствую, что не в силах быть таковым, меня захватила фраза, теперь я во власти красноречия, которому буду предаваться целую ночь.
Учесть, что мой природный талант сможет заблистать в свете только в том случае, когда я накоплю основательный фонд для беседы в комическом духе; ранить в памяти, в качестве образца комического жанра, развязную манеру Марсиаля держать себя у Ариадны.
Задумчивость, которая является обычным моим состоянием, враждебна уверенности, порождаемой опытом, а без этой последней я не сделаюсь настоящим потом. Речь идет не о том, чтобы знать, каковы те, кто обладает этой уверенностью (например, Дюриф), но о том, что представляла бы собою душа вроде моей, обладай она ею. В своем дальнейшем поведении изыскивать решительно все возможности, чтобы двигаться вперед, действовать и действовать, будь то даже ради безделицы. Сделать из этого привычку (образцы: Кардон, Барраль, сам Фавье). Пример моего поведения с Шатонефом учит меня способу нравиться людям; применять тот способ ко всем, кроме Полины. У нее одной душа достаточно высока, чтобы постигнуть мою.
Сегодня вечером Рец мне сказал:
- Вбей себе хорошенько в голову, что никто никогда не будет любить тебя так, как ты сам себя любишь, не будет любить, будь это с его стороны даже сама страсть; заметь, как твои друзья сразу же охладевают, стоит тебе заговорить с ними о своем счастье тем вдохновенным тоном, который доказывает, что ты действительно счастлив.
30 прериаля (19 июня 1805 г.).
Твоя истинная страсть - это познавать и испытывать. Она никогда еще не была удовлетворена.
Когда ты предписываешь себе молчание, ты обретаешь мысли; когда ты ставишь себе за правило говорить, тебе сказать решительно нечего (подмечено в жизни).
Четверг, 6 термидора (25 июля).
Прибыл в Марсель в семь часов вечера. Первый раз в жизни вижу море с Висты. Дилижанс останавливается на улице Бово. Иду к Манту; он вскоре приходит. Ложусь в половине двенадцатого. Видел ее в Большом театре. Гаводан играла Алину, королеву Голконды*.
* ("Алина, королева Голконды" - комическая опера Бертона, либретто Виаля и Фавьера по тексту Буфлера; была представлена впервые в театре Фейдо 2 сентября 1803 года.)
9 термидора (28 июля).
Сообщил отцу, что поездка из Гренобля в Марсель обошлась мне в шесть с половиной луидоров.
10 термидора (29 июля).
Мы с Мантом переходим мост и отправляемся полюбоваться открытым морем.
12 термидора (31 июля).
Видел "Тамплиеров"* и ее впервые на сцене. "Тамплиеры" - жалкая стряпня, лишенная характеров и интереса. На ней был очаровательный белый венок.
* ("Тамплиеры" - историческая трагедия Ренуара, в пяти действиях, в стихах (1805).)
4 брюмера XIV г., суббота (26 октября 1805 г.).
Сейчас смотрел "Федру" с Мелани в главной роли. Стараюсь представить себе, что вся публика заблуждается и что поэтому суд одного человека вернее суда двух тысяч зрителей. Но видеть, как Мелани покинута г-дами Бо, Пти и всеми своими друзьями, кроме одного меня! Я подумал, что даже в Париже она могла бы превосходно сыграть свою роль и, тем не менее, не удостоиться аплодисментов. Я подумал также, что при той сложности отношений, которая царит в обществе, к естественному чувству почти не прислушиваются. Эта мысль находит свое подтверждение, если ее углубить. Ведь до того как аплодисменты отдельных лиц сделались общественным обычаем, их вызывало всегда только личное чувство. Но после того как театральная слава стала превозноситься, обсуждаться, после того как литературомания сделала ее одною из обязательных тем любого разговора, аплодисменты всякого отдельного человека приобрели общественное значение. Итак, актер не должен рассчитывать на естественное чувство, он должен пускаться на интриги, чтобы заставить аплодировать даже тому, что хорошо само по себе.
Проверяя правильность этого наблюдения, не давать сбить себя с толку фразами в академическом духе и стиле, которые не преминут на меня обрушить.
Существует много вещей, история которых еще недостаточно разработана, вследствие чего она не в состоянии пролить на них какой-либо свет.
4 брюмера.
О пользе мемуаров (по поводу мемуаров Безанваля)... Тираны, зная, что наиболее тайные их деяния станут известны потомству, будут позволять себе меньше мерзостей. Помимо того, мемуары более поучительны, чем история. Какой ученый трактат мог бы лучше обрисовать положение придворного во времена Людовика XVI, чем история дуэли г-на д'Артуа с г-ном де Бурбоном?
8 брюмера XIV г. (30 октября 1805 г.).
Я только что от Мишеля*. Волнение всех читателей по случаю победы под Ульмом. Разделить все добродетели на республиканские и деспотические. Будь проклято чувство признательности, источник всякой тирании!
* (Мишель - содержатель библиотеки-читальни в Марселе.)
Дерзнешь ли, кимвр, поднять на Мария ты руку?*
* (Стихотворная цитата - из трагедии в 3 действиях Арно-отца "Марий в Минтурнах", впервые представленной 19 мая 1791 года.)
Стих в высшей степени монархический.
17 брюмера XIV г. (8 ноября 1805 г.).
Вчера, ложась спать, мы уговорились, что встанем сегодня в семь, чтобы отправиться на прогулку, и возвратимся домой к десяти.
Мы встали в половине девятого и наполнили небольшую черную бутылку вином. Я захватил ее с собой и отправился к повару-кондитеру возле Казати, где купил двух холодных дроздов, одного жаворонка и два небольших торта, один с вареньем, другой с кремом.
Проходя по частным владениям, мы дошли до Монфюронских лугов. Мы восхитительно позавтракали под деревом, наслаждаясь тем сельским, полным поэзии счастьем, которое я столько раз представлял себе в своем воображении, особенно в Сен-Венсане* и в Италии. Мы оставили под деревом куски хлеба и один почти нетронутый торт, который раскрошили на радость многочисленных птиц. Монфюронские луга настолько обширны, что на них могли бы свободно развернуться для атаки четыре полка драгун.
* (Сен-Венсан - поместье деда Стендаля, доктора А. Ганьона, в котором семья Бейлей иногда проводила лето.)
Неторопливо наслаждаясь нашим счастьем, позавтракав (Мелани была очарована чудесной погодой и только по временам жаловалась на боль в плечах, которую ощутила вчера по окончании спектакля), мы начали обходить луга.
Двое людей, занятых беседой, причем один из них был с ружьем, помешали нам дойти до северной границы лугов. Мы отдохнули в прелестном местечке, выставив ноги на солнце, а голову спрятав в тень, отбрасываемую стволом могучего тополя. Мелани сказала, что у меня вид человека, умирающего от пылких желаний; это была истинная правда, но я жаждал не только обладать ею, а также того, чтобы у нее было немного больше любовного пыла или, вернее, хоть сколько-нибудь этого пыла. Если говорить только о красоте, то нельзя быть счастливее, чем был я, ибо ее красота превосходила мои мечты: это была красота совершенная, возвышенная, лицо, способное своей обаятельностью выдержать сравнение с самыми прекрасными древнегреческими лицами; но мне хотелось немного больше любовного пыла, который, как мне представлялось, был у Анджелины*.
* (Анджелина - г-жа Пьетрагруа, миланская знакомая Стендаля. О ней см. ниже, дневник 1811 года.)
Эта запись сопровождается планом, на котором буквами обозначены пункты, где происходили отдельные части разговора Стендаля с Мелани.
Я сказал ей, что, судя по ее характеру, ей больше всего подошло бы полюбить человека, способного внушить ей доверие, известного рода восхищение. При слове "восхищение" она воскликнула:
- Я слишком много восхищалась, моя способность восхищаться исчерпана!
- Ты плющ, который обвился вокруг маленького деревца, и потому ты испытываешь тревогу, в то время как тебе следовало бы обвиться вокруг могучего дерева, способного внушить тебе полное доверие.
Все это было сказано приблизительно такими словами. Она ответила, что я попал в самую точку.
Мы пошли дальше, разговаривая о моей любви и о любви г-на Бо, пока не дошли до главного входа, после чего несколько вернулись назад. Я сказал, что готов побиться об заклад: он с ней на "ты"; она отрицала, потом призналась с некоторым раздражением: "Ну и что же? Да, я говорю ему: "ты".
Она сказала, что это был прелестный вопрос, все равно, как если бы я спросил, был ли Бо ее любовником; я ответил, что был бы в восторге, если бы он им действительно был. Она сказала, что я мог ожидать пять с половиною месяцев, и спросила, опасался ли бы я его за двести пятьдесят лье. Я утверждал, что он обращался к ней на "ты", по крайней мере говоря ей: "Я люблю тебя".
- О да,- ответила она,- мы всегда из-за этого ссоримся.
- Ну, а когда миритесь?..
- Миримся?.. (Она хотела сказать: "Из-за такого пустяка?")
- Но раз вы ссоритесь?..
Она воспроизвела конец их беседы, чтобы объяснить последовавший затем жест г-на Бо.
- Он взял мою руку, поцеловал ее, склонился над ней, и мне кажется, что он... что он... плакал, судя по тому, как он дышал.
- Понимаю.
Вот общий смысл нашего разговора. Мы подошли к воротам, я вышел за них, она - нет. Чтобы побудить ее признаться, обращался ли Бо к ней на "ты", я сказал, что в зависимости от этого во мне может произойти очень многое; я объяснял ей сложное действие, которое это может на меня оказать, но я не ощущал в действительности того, что, по моим словам, происходило или могло произойти во мне. Мы продолжали идти.
Завязался спор о борьбе страстей. Она мне возражала. Наконец она сказала, указывая на ствол дерева:
- Вот дерево, под которым мы завтракали. Заметив под другим деревом, в стороне, обрывки
серой оберточной бумаги и, кроме того, хорошо помня всю обстановку нашего завтрака, я отлично сознавал, что это другое дерево, и потому сказал, что она ошибается.
Все, что следует дальше, произошло очень быстро. Я сказал:
- Давай держать пари; если это не то дерево, ты скажешь наконец, говорит ли тебе Бо "ты"; если оно то самое, я исполню все, что ты пожелаешь.
- Но чего же я могу от вас потребовать? Вам мне сказать нечего.
- Все, что ты пожелаешь; обещаю тебе сказать все, чего бы ты ни потребовала в дальнейшем.
- Ну, хорошо: если это то самое дерево, ты не будешь близок со мной в течение пяти с половиною месяцев... (отчеканивая и пристально глядя мне в лицо) до самого нашего возвращения в Париж. Даже если я сама стану просить об этом, ты будешь противиться, ты будешь тверд.
Я медлю, делаю вид, будто колеблюсь; в действительности я нисколько не колебался. Подчеркнутым и немного трагическим тоном я говорю:
- Ну что же! Согласен! Обещаю.
В одно мгновение я перепрыгнул через ров и, подбежав вплотную к дереву, убедился, что это не оно. Возвращаясь, я снова заметил бумагу от нашего торта немного поодаль и сказал ей:
- Это не то дерево, пойдем посмотрим другое.
Она шла мелкими шагами, задумчивая, внутренне взволнованная. Я перепрыгнул через ров, она обошла его и приблизилась к дереву. Затем, обернувшись, сказала:
- Да, он со мной на "ты" (интонация глубоко прочувствованного и слегка подавленного признания).
На мгновение мы замолчали. Она опустила глаза, у нее был молящий взгляд, и по ее щекам скатилось даже несколько слезинок.
Я чувствовал себя усталым, опустошенным и вообще почти ничего не чувствовал.
Ее, по-видимому, огорчило, что ради ничтожной уверенности я пожертвовал всем тем, что любовь - виноват, привычка! - может заключать в себе самого драгоценного. Это, впрочем, не ее выражение.
Она сохраняла серьезность вплоть до того момента, когда, поправляя на ее ноге туфлю, я ей улыбнулся и она тоже мне улыбнулась.
Мы расстались на улице Сен-Ферреоль. В полдень я возвратился к себе, и, так как делать мне было нечего, я все это тотчас и записал.
Примерно 20 брюмера (11 ноября).
Два воскресенья подряд - загородные прогулки. Первая в Арраль: г-жа Коссонье, Мелани, г-да Сен-Жерве, Бо, Гарнье и я.
Прогулка внезапная, неподготовленная, веселая, потому что каждый делал то, что ему нравилось. Мелани оживлена, она еще красивее, чем всегда, ее обаятельность имеет что-то общее с обаятельностью м-ль Марс (обычно столь сдержанной) в "Любовных безумствах". Г-н де Сен-Жерве, как всегда, педант, манерен. Г-жа Коссонье совсем не оживлена. Ее манера держаться к концу обеда кажется чем-то бледным, поблекшим. Не знаю, что с ней такое сделалось, но обычно в таких случаях она бывает весела и шаловлива. Она делала мне признания.
Неделю спустя - снова в воскресенье - прогулка, заранее подготовленная и, в противоположность первой, унылая. Все не в духе. Мы отправляемся в Ренард.
Это сосновая роща в форме полумесяца и при ней плохонький домишко, в трех лье от Марселя. Шесть часов пути в коляске; по дороге туда поташнивает наших дам, обратно - меня. Хороший обед рядом с колонной на улице Паради. Говорят лишь обо мне; это в некотором смысле блестящая роль, что задевает г-на де Сен-Жерве (законченный тип тщеславного человека, достойный театральных подмостков).
Блестящая роль, но в моем положении крайне неудобная. Я обрушиваюсь на ложную любовь, анализирую истинную и нахожу в ней одну лишь чувственность и тщеславие, что в глазах четырех наших собеседников, которые догадываются о том, что я счастливый любовник Мелани, создает обо мне представление как о человеке бесчувственном. Увлеченный, сам того не замечая, тщеславием, я допустил, по глупости, что разговор перешел на меня.
24 декабря 1805 г.
Или, точнее, 25-го, потому что сейчас половина третьего. Мант, м-ль Роза и я провели вечер у г-жи Дюран за пуншем, чаем и жженым ромом. Мы хотели отправиться на полуночную мессу, но нас все уверили, что ее больше не служат.
Вот то самое счастье, которого я так жаждал в минувшем году, примерно в это самое время, в своем одиноком углу в комнате на улице Менар, № 9. Оно занимает, но не удовлетворяет меня. Чего я могу еще пожелать, так это чтобы вместо Манта, который дремал, и мадмуазель Розы, которая глупа, здесь было семь - восемь приятных людей.
Это жалкое влечение к обществу возобновлялось во мне несчетное число раз; теперь, когда оно почти удовлетворено, мною, вероятно, овладеет влечение к славе, которое, во мне, видимо, очень сильно.
Минувшая ночь была беспредельно счастливою; утром - в объятиях Мелани; страсть и счастье.
Мне кажется, что жадное влечение к славе затухает во мне, чтобы разгореться затем с новой силой.
Перечитываю "Логику" Траси; начал читать этого автора 31 декабря 1804 года. Он принес мне огромную пользу; лишь случайному обстоятельству - моему сближению с Мантом - обязан я тем, что прочел ее.
В половине третьего, когда все удалились (Роза и Мант), я поднимаюсь к г-же Коссонье попросить у нее свечу; оттенок чопорности в ее тоне, вполне естественный, если обладаешь тактом. Она делает мне авансы целых два месяца, и притом в высшей степени откровенные.
25 декабря 1805 г.
Рождество. Великолепный день. Чудесное, сплошь голубое небо, правда, немного больше, чем за последние два месяца, подернутое легкой дымкой, которая не идет, однако, в сравнение с той, что бывает в Париже. Два дня дождя и пять - шесть дней приятной свежести - вот погода, которая стояла до этого времени. Морозило, кажется, всего два раза.
В день рождества Мелани и я отправляемся в Арраль.
Вечером мы сидим вдвоем в нежной позе. Вдруг слышим: "Можно войти?" - и появляется г-жа Коссонье, вошедшая через незапертую дверь. Сухое "да" Мелани.- "Я ухожу..." В первую минуту г-жа Коссонье не может скрыть, что ее душит гнев, но затем возвращается к своему обычному тону.
Видимо, она замечательно владеет собой; она говорит, что ей ничего не стоило бы отомстить.
В угоду Мелани я три - четыре дня избегал входить в комнату г-жи Коссонье, чтобы проучить ее. Она не в силах скрыть свою досаду; она беспрестанно жалуется по этому поводу и сказала мне в присутствии Мелани: "Я задыхаюсь от гнева". Впрочем, ничто не говорится до конца; одни недомолвки, даже меньше того - еле ощутимые намеки.
Я несколько укротил ее гнев, дав ей урок.
© HENRI-BEYLE.RU, 2013-2021
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://henri-beyle.ru/ 'Henri-Beyle.ru: Стендаль (Мари-Анри Бейль)'